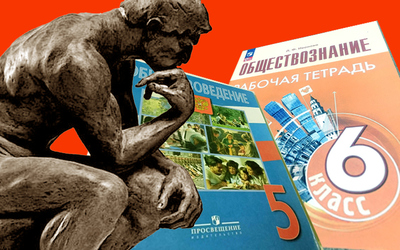
С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов. «Действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве 26 мая, сообщает «Парламентская газета».
По его словам, на данный момент подготовлены оригинал-макет единого учебника по обществознанию для 9-го класса и рукописи единых учебников по обществознанию для 10-11-х классов.
Очередную реформу школьного образования обсуждают писатель, публицист Павел Вячеславович Тихомиров и адвокат Александр Валентинович Тимофеев.
Павел Тихомиров: Перенос начала изучения основ Обществознания на более старшие классы Средней школы я поддерживаю двумя руками.
Потому что учащимся важно не промямлить что-то про типы государства по Платону, а научиться давать нравственные оценки тем или иным явлениям общественной жизни.
А это возможно в двух случаях: если будет усвоена некая идеология, непротиворечиво дающая возможность оценивать некие явления, дабы не возникало проблем с определением того: кто тут «плохой», а кто – «хороший»; либо люди должны иметь навык к полемике. Однако, дабы эта способность к полемике не превратилась в очередную тему с проповедью всеобщей относительности, нравственного релятивизма, всё равно мы возвращаемся к необходимости встраивания явлений в некий контекст. А контекст может быть сформирован только в рамках целостного мировоззрения.
Вот и ответ на вопрос. Кто будет очерчивать контуры этого целостного мировоззрения? Люди, воспитанные в пространстве релятивистской идеологии? Или же профессиональные политические технологи, ловко усвоившие методы фабрикации симулякров?
Старшеклассник хотя бы потенциально может принять участие в полемике, а малышам нужно не ярлыки предлагать, а научать критериям нравственных оценок.
Помню один случай из своей жизни. Играют мои старшие сыновья (одному было лет 8, другому – лет 7). И старший говорит младшему:
- Вот видишь, мы – русские, поэтому для нас русские солдаты – хорошие, а французы – плохие. А если бы играли французские мальчики, то для них было бы наоборот. Хорошими были бы свои, французские солдаты.
На что младший отвечает:
- Нет. Хорошие – это не те, которые свои, а те, которые за правду.
Но такие диалоги не часты не только в среде школьников, но и в среде, к примеру, форумчан «Русской Народной Линии». Поэтому я не обольщаюсь относительно способности ответственных лиц подготовить методические пособия таким образом, чтобы школьники могли давать нравственные оценки.
Поэтому остаётся только зубрить про типы государства по Платону. А это для семиклассников – задача неподъёмная, так что пусть уж лучше этим озадачивают более взрослых школяров.
Александр Тимофеев: Полностью разделяю твоё мнение. Кстати, только недавно впервые прочёл «Трилогию желания» Теодора Драйзера. И мне не стыдно, что, казалось, так поздно познакомился с этим грандиозным произведением. Напротив, уверен, что только сейчас, достигнув 45-летия, я могу в полной мере оценить масштаб трилогии и глубину заложенных в ней смыслов. Ибо сомневаюсь, что незрелый читатель, не имеющий жизненного опыта, не искушаемый многоразличными соблазнами, не прошедший искуса, не оступавшийся и не пытавшийся возродиться, способен понять Драйзеровский замысел.
Воистину, «Всему свое время, и время всякой вещи под небом…» (Еккл. 3:1).
Обществознание — особенный школьный предмет. У него непростая судьба и уникальное предназначение. Ты прав, задачей этого предмета отнюдь не является донесение до школьников особенностей и тонкостей политического учения Платона. Справедливости ради отмечу, что Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» довольно внятно обозначает предназначение этой дисциплины: «Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное отношение к природе».
Я бы добавил лишь один элемент: обществознание также призвано привить школьникам правильное представление о государстве, его сущности, целях и задачах.
В то же время возникает неизбежный вопрос: а что есть государство, какое представление о нём является правильным и кто способен донести такое представление до сознания школьников (с учётом их возрастных особенностей)? Вопрос вопросов, способный внести смуту в любую человеческую общность. В нашей стране этот вопрос архиважный и чрезвычайно острый.
В своей юридической практике не раз приходилось наблюдать, как доверители, отчаявшиеся добиться правды и справедливости, обращались за помощью к государству в лице судов, правоохранительных органов и непременно в лице Президента Путина. Иной раз наступает такой момент, когда русский человек полагается исключительно на государство как на единственное конечное и эффективное средство. В такие времена отчаявшийся человек только в государстве видит своего последнего и самого надёжного защитника и покровителя.
Воспитание здоровых государственнических чувств — итоговая цель обществознания. В целом верная русская поговорка, гласящая, что «человека можно воспитывать, пока он поперёк лавки помещается», очевидно, не распространяется на воспитание государственнических чувств. Сомнительно, чтобы такие чувства можно было воспитать у малышей либо младшеклассников. Природа государства такова, что способность её постижения возникает у человека не с рождения, а намного позже, возможно, только в старших классах. И важно не упустить момент, когда сознание и внимание взрослеющего человека сосредотачивается на государстве, праве, политике, обществе, то есть на тех предметах, которые и составляют содержание обществознание. Упущение этого момента может привести к печальным и катастрофическим последствиям, ибо Natura abhorret vacuum (Природа не терпит пустоты), что прекрасно осознавалось Соросом, методично заполнявшим пустоту в российском общественном сознании, образовавшуюся после развала Советского Союза. И что в то время не осознавалось нашими деятелями в области образования…
Похоже, такое осознание постепенно приходит… По крайней мере, такой хотелось бы считать подоплёку обсуждаемой реформы школьного образования и предмета «Обществознание» в частности.
Павел Тихомиров: Да, именно «воспитание здоровых государственнических чувств»… А не просто квасного патриотизма, которые могут попытаться преподнести в качестве как бы альтернативы космополитическому мировоззрению, пытавшемуся приучить нас к тому, что государство – это просто такой о-очень большой ЖЭК.
Любить наших бюрократов, конечно, задача не простая. И поэтому когда я слышу призывы к тому, чтобы мы отринули двухвековой интеллигентский навык к фронде, а вместо этого «научиться любить власть»… Убеждён, начинать нужно в данном случае не с низов, а с «верхов». Будет государство инструментом водворения социальной справедливости, будет государство учитывать интересы Русского народа… Вот тогда уже можно будет говорить об ответной любви, и тогда будет у державников моральное право обвинять диссидентствующих в неблагодарности.
Вместе с тем, не подумай, что я такой уж законченный конспиролог-анархист, скептически относящийся к верованию в степень субъектности представителей высшего государственного управления.
Каковы бы они ни были, какой бы степенью несвободы ни были связаны, нам, русским, без государства – каюк. Это армяне, сербы или евреи могут выжить без государства, ибо обладают национальной самоидентификацией, предприимчивы и т.д. Мы, увы, не такие. Давай рассуждать трезво: ни национализм, ни даже церковность не являются скелетом русского народа. У нас вообще нет скелета.
Что же нас пока ещё держит? Что не даёт превратиться в жижу существу, у которого нет скелета?
Панцирь. Внешняя скорлупа.
И государство – это как бы и есть этот самый панцирь членистоногих, без которого мы бы давно превратились в медузу и – выброшенные на песок – высохли бы, обратившись в сколькое пятнышко.






































138. Ответ на 136, С. Югов:
Теперь о проблеме. Мне казалось очевидным бездарное и преступное уничтожение сил, талантов и времени наших людей. Давно хочу написать статью о хронофагии.
Но Ваша реплика показывает, что проблема сия не для всех очевидна. Находятся люди, которые не считают, что такая проблема вообще существует. Покуда имеется непонимание и неосознание наличия самой проблемы, то и проблема не будет решена… Прискорбно, очень прискорбно.
О пользе. Понятие «польза» в данном случае использую в евангельском смысле, имея в виду плоды, по которым надлежит оценивать каждого человека.
137. Ответ на 135, Потомок подданных Императора Николая II:
Нет чтобы похвалить за находку "откинувшийся лагерный иврит", Вы начали обвинять меня в антисемитизме.
Нет. Или уже нет. Скорее в некоторой заезженности Вашей пластинки.
офф
Меня давно уедает Ваше непрестанное желание подчеркивать мою социальную близость с некой прослойкой (мы называем ее по-разному), хотя по факту все последние годы эту прослойку я поливаю в хвост и гриву. Но я не могу избавиться от ее наследственных качеств, языка втч. Никто не может этого. Вы тоже вообще-то интеллигент, как раньше называли наш "класс", и разница между Вами и интеллигенцией Садового кольца Мск для какого-нибудь шофера за баранкой - эфемерна. Я пишу о порочности любой интеллигенции, независимо от качеств конкретных ее представителей (в духе переписки ВИЛа с МГ, все уже до нас известно, нет тут Америки и велосипеда). Вы же все время норовите представить эту порочность как нечто локальное, вот на Садовом кольце интеллигенты гнилые, а в глубинке особо хорошие. Мечтайте.
136.
Вижу в Ваших рассуждениях логическую ошибку, известную как "ошибка количества понятия".
Александр Валентинович, да и я ведь не утверждал, что по-Вашему - "никто". У Вас было "редко", а я напомнил, что не так уж редко. Вы, пожалуй, на это не обратили внимания.
Да и что понимать под "пользой"? Если узкокорыстную пользу -это и правда не по-русски. Но польза бывает ведь и иная.
135. Ответ на 132, В.Р.:
лагерный иврит
большой проблемой Полторанина, придумавшего это выражение, да что Полторанина, не только его, феерически гениальный Шафаревич споткнулся на той же кожурке - было то что все они ставили телегу (в частном случае - евреев) впереди лошади (=модели, где рулит образованный класс). Но сейчас уже мало кто делает данную ошибку.
Нет чтобы похвалить за находку "откинувшийся лагерный иврит", Вы начали обвинять меня в антисемитизме. Тут некто АпографЪ-бланкист, страдающий косовороткой головного мозга, только что назвал меня соплеменником Абрамовича, поэтому Ваши подозрения беспочвенны.
134. Ответ на 107, С. Югов:
Вижу в Ваших рассуждениях логическую ошибку, известную как "ошибка количества понятия".
Очень распространенная ошибка, суть ее заключается в следующем: оратор говорит о некоторых предметах, пересказчик - уже обо всех предметах.
Очень примитивная ошибка, свидетельствующая о низком логической культуре человека, допускающего её. Странно, что и Вам свойственны такие досадные промахи.
133. Ответ на 87, Александр Волков:
Предприимчивость – это способность извлекать прибыль из ресурсов и не любой ценой. Православие не запрещает предпринимательскую деятельность.
Ещё раз о понятии «русский»: оно не этническое. В конце концов, кто может со 100-процентной уверенностью сказать, что он русский на 100%? Думаю, в здравом уме такое никто не скажет.
132. Ответ на 131, Потомок подданных Императора Николая II:
лагерный иврит
большой проблемой Полторанина, придумавшего это выражение, да что Полторанина, не только его, феерически гениальный Шафаревич споткнулся на той же кожурке - было то что все они ставили телегу (в частном случае - евреев) впереди лошади (=модели, где рулит образованный класс). Но сейчас уже мало кто делает данную ошибку.
131. Ответ на 130, В.Р.:
Вы, ув.ВЛ, настолько нетолерантны к любой мысли, изложенной "правым" языком, что не можете ее перевести на нейтральный?
Здесь правый язык кстати уместнее. К материи ближе ))
Насчёт языка я уже высказывался - у "дорогого Дмитрия" правый суржик, а у Вас - откинувшийся (вышедший из заключения) лагерный иврит. Оказывается, он "правый".
Извините, что придирчив. К тому же я считаю, что это как раз дутая правизна шутки шутит с языком у "дорогого Дмитрия". Ну а Вы - просто сильно умный.
Поблагодарим модератора, который пропускает эту болтовню.
130. Ответ на 123, Потомок подданных Императора Николая II:
Вы, ув.ВЛ, настолько нетолерантны к любой мысли, изложенной "правым" языком, что не можете ее перевести на нейтральный?
Здесь правый язык кстати уместнее. К материи ближе ))
129. Ответ на 124, Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии:
И я Вас уважаю и люблю, как порядочного и честного человека. Всегда с интересом читаю Ваши комм.
А то, что мы с Вами иной раз спорим... Ну и что. Мы же мужчины.
В Советской Армии и на шахте я прошёл такую закалку...Спасибо за доброе слово.