
6 ноября 2025 года исполняется 190 лет со дня рождения итальянского учёного Чезаре Ломброзо.
Есть учёные, слава которых выходит далеко за пределы тех областей знания, где ими был сделан существенный вклад. К оным можно отнести Маркса, Дарвина, Эйнштейна, Мальтуса и, безусловно, Ломброзо. Однако подобная слава редко бывает однозначно положительной и главным образом потому, что широкая общественность, большая часть представителей которой не являются экспертами, неспособна адекватно и полноценно оценить вклад учёного, которому «посчастливилось» прославиться за пределами научного сообщества. Ходит легенда, что Карл Маркс, узнав об очередном ответвлении марксизма и придя к выводу, что этот «марксизм» не имеет никакого отношения к его учению, заявил: «Ясно одно, что сам я не марксист». Есть другая, подобная занятная история. В начале XX века популярность приобрела теория относительности Эйнштейна. И хотя широкая публика была заинтригована теорией, однако совершенно не понимала, в чём её смысл и принципиальная новизна. Популяризаторы науки просили гения подготовить краткое, популярное изложение своей теории. Эйнштейн отказался. Тогда был объявлен конкурс на написание подобной работы с назначением по тем временем солидной премии. Охотников нашлось великое множество, но с задачей справился лишь Бертран Рассел, отличающийся не только своей учёностью, но также изрядным литературным дарованием.
Ломброзо, напротив, совершенно не повезло: ещё не нашёлся популяризатор, способный без искажений доступно изложить его теорию преступности.
Для обывателя вся суть теории Ломброзо сводится к двум постулатам:
- преступность бывает врождённой;
- врождённая преступность обусловлена особенностями строения черепа и головного мозга т.н. «преступного человека».
Но такое понимание теории Ломброзо извращает самую её суть. Издавна повелось при изложении учения этого учёного непременно использовать логическую уловку, известную как «доведение до абсурда».
В базовой работе Ломброзо «Преступный человек» слово «череп» использовано лишь 4 раза, а слово «мозг» — 6 раз. В то же время слово «климат» упомянуто почти 30 раз. И в целом начало этого знаменитого труда не даёт основания полагать, что строение черепа и мозга, по Ломброзо, — основные факторы, обусловливающие преступность. «Всякое преступление имеет в происхождении своем множество причин, и так как причины эти очень часто сливаются одна с другой, то нам нет надобности рассматривать их каждую в отдельности», - так начинается книга, сразу после опубликования вызвавшая массовый психоз и не прекращавшуюся травлю Ломброзо.
В книге действительно рассмотрено великое множество причин, которые, по мнению Ломброзо, обуславливают преступность. Среди них — климат, тип местности (гористость либо низменность), преобладающий температурный режим, тип проживания людей (город либо деревня), плотность населения (скученность), тип профессии, уровень жизни и уровень образования, степень развития общества (варварство либо цивилизация), цвет волос (блондины и брюнеты), алкоголизм и наркомания, наследственность и т.д. и т.п. Внимательный читатель этой пререкаемой книги убедится, что строение черепа и мозга не преобладает среди причин преступности, в ней упомянутых.
В то же время справедливо будет отметить, что в другой работе Ломброзо «Новейшие успехи науки о преступнике», в самом деле, строению черепа и мозга придаётся чрезмерное значение как фактора, обусловливающего преступность. Но при оценке этой книги надлежит учитывать её структурную особенность. Работа сильно напоминает школьный реферат, то есть изложение чужих мнений, с обильным цитированием других работ, с добавлением несущественных и по объёму и по значению собственных комментариев.
«Новейшие успехи науки о преступнике» обладают меньшей самобытностью и самостоятельностью, чем «Преступный человек». Как следует из самих «Новейших успехов», эта книга написана Ломброзо и в связи с бурным развитием антропологии, и ввиду его неудовлетворённости тем анализом преступности, который он произвёл в своём «Преступном человеке». В конце концов, если бы преступность была обусловлена исключительно климатом, либо определённой местностью, либо уровнем образования, либо цветом волос, то все люди, имеющие определённый цвет волос, проживающие в определённой местности и т.д. и т.п., были бы преступниками. Но реальностью эта автоматическая обусловленность не подтверждается.
Ломброзо обратил внимание на то, что некоторые люди как будто бы имеют преступные наклонности (склонность), словно в них заложена сила, которая неумолимо подталкивает их к совершению преступления. Такую преступность Ломброзо называет врождённой. И лишь при случайном стечении обстоятельств «врождённый преступник» не совершает преступления: «Непроявившийся преступник, честный по случайности или по внешности, есть противоположность случайного преступника, - пишет Ломброзо. - К этому типу принадлежат многие политические деятели. Весьма часто политика, общественная борьба, иногда религия служат предохранительным клапаном или, скорее, прикрывают преступные наклонности: благодаря меньшему мизонеизму преступник скорее, чем честный человек, склонен к восприятию нового. Этим объясняется, почему люди, представляющие очень выраженный тип преступника, очень резкие невропатические аномалии, не только не совершали никакого нарушения общественного права, но, напротив, с высоким самоотвержением исполняли политические обязанности».
Основной недостаток теории Ломброзо заключается в игнорировании влияния нравственных факторов на преступность и главным образом на её предотвращение. Ответ учёного на такую критику нельзя признать убедительным: «Нас упрекают в том, что мы недостаточно внимательно исследуем влияние физической и нравственной среды. Относительно первого критика ошибается; нас, скорее, могли бы упрекнуть в противном, ибо мы написали обширное исследование, где разбирается исключительно влияние физической среды; относительно значения нравственной среды – упрек справедлив, но легко найти и оправдание: наши противники так много занимаются этими вопросами, старинные писатели придавали этому вопросу такую важность и так осветили его со всех сторон, что мы не считаем нужным заниматься им; не стоит тратить труда для доказательства того, что солнце светит».
Роль нравственного фактора, включая религию, этику, общественную мораль, не столь простой предмет для изучения, как представляется Ломброзо, который априорно исходит из того, что человека можно воспитать, пока «он поперек лавки ложится» и «пешком ходит под стол». Столь пессимистическая концепция воспитания и вредна, и неадекватна действительности, которая не раз показывала удивительные примеры преображения человека и даже заматерелого преступника (достаточно вспомнить евангельского благоразумного преступника).
Но есть в теории Ломброзо и здравые идеи, которые традиционно игнорируются и не замечаются. Вспоминается, мягко говоря, неудачная встреча Ломброзо с Толстым. Писатель в одном из своих писем необычайно для него лаконично подытожил эту встречу: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок». Сам учёный, который многого ожидал от этой встречи, оказался более словоохотливым. Его рассказ об этой провальной встрече «Моё посещение Толстого» проникнут обидой: мол, Толстой не только не понял меня, но даже не захотел меня выслушать. Иной раз так случается, что встреча двух великих людей рождает пустоту.
А между тем обоим было чем поделиться. Ломброзо мог бы поведать Толстому о силе преступных наклонностей некоторых людей, о великом значении труда и о том, как некоторые «врождённые преступники» неспособны осознать ценность и значение труда, болезненно его избегая. Концовка «Преступного человека» замечательна, своего рода гимн труду: «Тот факт, что преступник часто меняет род своих занятий, отдавая предпочтение тем из них, при которых расчет производится ежедневно, доказывает, что он вообще не способен ни к какому правильному, регулярному труду.
Но эта негодность его к постоянной работе отнюдь не доказывает, что он совершенно не способен к какой бы то ни было деятельности и находится в вечной инертности. Напротив, в известные моменты преступник проявляет значительную активность: так, например, некоторые виды преступлений, такие как воровство и мошенничество, требуют особенной подвижности и деятельности со стороны тех, кто ими занимается. Преступник питает отвращение, собственно, ко всякой правильной регулярной работе: он не может примириться с тем, что в обществе всякий его член должен в каждый известный момент отправлять то или другое назначение свое, подобно тому как в часовом механизме несет свою функцию каждая, даже мельчайшая часть его. Неспособные противостоять своим постоянно меняющимся капризам, будучи до известной степени инертными и в то же время импульсивными, преступники находятся в вечной войне с тем обществом, которое не соответствует их наклонностям».
О целительной силе труда написано и в Евангелии, и в «Моральном кодексе строителя коммунизма». Значение труда осознавалось и Толстым, который мог бы с большой пользой пообщаться с Ломброзо на эту важную тему, если бы изначально не был враждебно настроен к итальянцу.
Есть в работе Ломброзо сбывшийся прогноз. Учёный писал, что с ростом цивилизации и расширения образованности общества изменяется структура преступности и на первые места выходит мошенничество. Прогноз Ломброзо сбылся: ныне даже в России мошенничество — самое распространённое преступление, которое к тому же приобретает различные виды и формы.
Книги Ломброзо приобрели популярность не только из-за важности и злободневности поднятых в них тем, но также из-за изящества языка, ясности слога и доступности изложения. Всю свою жизнь учёный отбивался от критиков, в то же время осознавая, что «размеры критики уже сами по себе служат доказательством серьезного значения уголовной антропологии».
Действительно, в том числе благодаря Ломброзо центр общественного внимания сместился с преступления на самого преступника. И в этом смещении великая заслуга великого итальянца…
P.S. Выраженная в настоящей статье позиция является моим личным мнением!
Александр Валентинович Тимофеев, адвокат












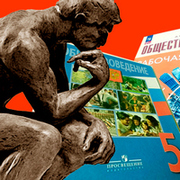







.jpg)


29. Ответ на 28, С. Югов:
28.
А как у них с формой черепа?
27.
26.
из письма Ф. Энгельса Конраду Шмидту, 5 августа 1890 г.—
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 37, с. 370.
25. Ответ на 23, РомКа:
24. Ответ на 23, РомКа:
23. Ответ на 11, Тимофеев Александр :
Время от времени появляются тревожные новости, указывающие на то, что есть лица (в том числе влиятельные), которым не терпится применить новые достижения науки для привлечения к уголовной ответственности «несостоявшихся преступников». Опасное дело.
Сейчас наука (социальная) шагнула далеко вперед - преступника можно тупо назначить и упечь. Никаких открытий не надо. Все открытия Сталин с Вышинским уже сделали
22. Ответ на 18, Потомок подданных Императора Николая II:
21. Ответ на 20, Владимир С.М.:
20. Ответ на 3, Тимофеев Александр :