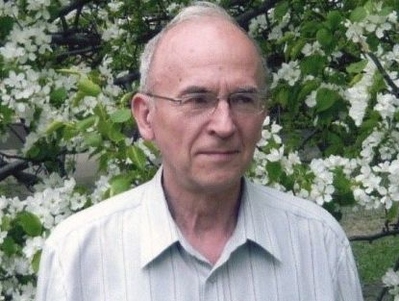
Влияние «цивилизованной» Европы на революционные процессы в царской России носило решающий характер.
Устоявшееся представление о внутренних противоречиях, порождающих революции «в отдельно взятой стране», носит определенный, лукавый оттенок.
И действительно, что мы знаем о движущих силах революции?
Только то, что страна разделилась на «красных» и «белых», и только они создавали то самое «противоречие», которое и определяло «решающий характер» революции?
Мы, русские, «ленивы и нелюбопытны»!
В 1517 году (за четыреста лет до февральской революции в России) Европа претерпела период реформации, о котором «история» либо «почему-то» умалчивает, либо придаёт ему незначительное влияние, либо наоборот, придает реформации положительный характер. А на самом деле, (как любят выражаться многие публицисты) это «явление» носило явно революционный характер. Заключался он в том, что верхушка европейского духовенства пошла на «раздробление» католического «лагеря» верующих на «отдельно взятые» религиозные «фрагменты христианства» – протестанты, лютеране, англикане, свидетели иеговы и т.д. «Назначенным» отцом реформации явился священник Мартин Лютер (Германия), якобы составившего знаменитые «95 тезисов», «разоблачающих» и «подправляющих» уставы и догмы католического вероучения.
Результатом развития этой реформации (во времени) было свержение королей и аристократов. Кроме того появился «новый» класс буржуазии, основным занятием которой была торговля, коммерция, финансовые операции. В общем – «прогресс», «свобода, равенство и братство».
Несмотря на еретические положения и «постулаты» католицизма, до поры до времени эта религия носила объединяющий (народы Европы) характер. Но, заметим, кстати, очевидно, католики Европы имели «своё» представление о христианской нравственности.
Почему?
В 1572 году «Варфоломеевская ночь» показала как моральный облик людей, придерживающихся католичества, так и дистанцию, насколько гугеноты (протестанты) отдалились от католической веры. Был сделан шаг, отдаляющий протестантов от Христа и практически направляющий их на путь «безбожия». Протестантизм хотел реформ в католицизме (реформации) – чтобы было «как можно лучше», а получилось – «как можно хуже».
Следует заметить, что существовал слой общества, который хотел, чтобы было «как можно хуже». Это были «торговые люди», которые считали, что религиозные догмы «мешают» международной торговле. В какой-то степени это напоминает «благотворительность на революцию» в России, когда некоторым промышленникам-старообрядцам казалось, что темпы производительности в стране недостаточно высоки. Но что бы там ни было, реформация носила «разъединяющий» характер; и её «устроители» это понимали.
Одним словом, в Европе произошла «неявная» революция. Число же явных революций в Европе за это время составило, наверное, ничуть не меньше десятка. Плоды этой революции пышным цветом расцвели и в России в декабре 1825 года, но были подавлены православными Христовыми воинами русской армии.
До 1812 года в высшем свете царской России процветал французский язык. Но после французского нашествия мода на него прошла. В 1814 году в Европе состоялся Венский конгресс, по которому России отходила Польша; вместе с которой в страну хлынули интернациональные европейские слои общества. Черта оседлости нарушалась ими повсеместно, так же как и правила торговли, аренды поместий. Более того, во второй половине девятнадцатого столетия ими был развязан террор, который унёс жизни многих губернаторов России.
Но всё это время разночинцы России, высшие слои аристократии, некоторые помещики, купцы имели связи с Европой, как центром «цивилизационного» человечества, культурного центра, центра «прогресса».
Человек, который посетил Европу, был ли он на отдыхе, лечился ли на водах, ездил ли по научному, военному, географическому или медицинскому поводу – пользовался высоким уважением.
Влияние, оказываемое Европой на путешественника из России, было огромным (за редким исключением). Это влияние было в состоянии изменить неустойчивое мировоззрение российского обывателя, направить его в революционное русло. Что и случилось со многими и многими персонами. Примеров тому множество, и мы не станем их здесь приводить.
В 1905 году состоялась репетиция революции.
В начале двадцатого века в России был организован «Союз русского народа», но изменить ситуацию в обществе он уже был не в состоянии.
В начале двадцатого века в России были сформированы многочисленные организации, имеющие связи и финансовую поддержку «на внешнем контуре». Предотвратить революцию в России было невозможно.
Здесь можно вспомнить (к месту и не к месту) организационные моменты, сопутствующие революции; отметим только, например, участие латышских стрелков в охране правительства в Кремле после его переезда из Петербурга в Москву. Поясним: в феврале состоялась революция, когда к власти пришел Керенский; в ноябре того же года в результате переворота к власти пришел Ленин – учился в одной школе с Керенским.
Керенский возглавил Временное правительство после революции, предполагая постепенно перейти к парламентской республике – многие его руководители предали Царя и подвергли его аресту; но власть перехватили большевики, которые хотели быстро провести революционные преобразования. Большинство эсэров перешли на сторону большевиков и пополнили интернациональную часть партии (большевиков). «Гражданская война» в России была «организационно оформлена» как война «белых» («за Царя») и «красных» («фабрики – рабочим, земля - крестьянам»), хотя упоминание «о Царе» в Белой армии - воспрещалось.
Несмотря на свершившуюся в России революцию, страна вышла победителем в Великой Отечественной Войне с фашистской Германией. И все это благодаря православной вере, которую сохранила основная часть населения России.
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его… Аминь.
Юрий Герасимович Уткин, православный публицист, кандидат технических наук







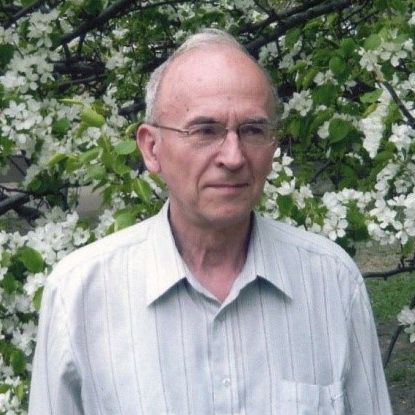


























6. Ответ на 4, Бузина Олесь:
5. Предотвратить революцию было невозможно
4. Ответ на 3, учитель:
3. Ответ на 2, Апографъ:
Это конечно же необходимое условие, но недостаточное. Достаточным оно стало, когда Сталин ввёл в армии элементы Русского Царского обихода - пагоны, ордена, упразднил политкомиссагов, открыл церкви и духовные школы. Таким образом проложил связь между Царской Россией и большенством Русских людей в России красной. Всякая власть в России обязана блюсти Православие, иначе она падает как пала безбожная советская власть.На Украине при Советской власти было православие. А теперь ересь униатчины . Строят Третий храм, как пишет И.Романов. Вот те на.
2.
Это конечно же необходимое условие, но недостаточное. Достаточным оно стало, когда Сталин ввёл в армии элементы Русского Царского обихода - пагоны, ордена, упразднил политкомиссагов, открыл церкви и духовные школы. Таким образом проложил связь между Царской Россией и большенством Русских людей в России красной. Всякая власть в России обязана блюсти Православие, иначе она падает как пала безбожная советская власть.
1. 1