
История России — это драма духа, воплощённая в материи государства, чей путь представляет собой последовательность метафизических взлётов и падений, где политическая форма всегда отражала состояние души народа. Православие стало не просто религией, но и внутренней осью русской цивилизации, архетипом, через который Россия понимала власть, страдание и миссию. Каждая эпоха, от языческой архаики до постсекулярного XXI века, была не просто сменой форм, а психоисторическим процессом вытеснения и возвращения сакрального. Принятие христианства придало смысл власти, но внесло трагическую двойственность: Россия всегда жила между крестом и мечом, соборностью и самодержавием, верой и утопией, иконой и топором. Политическая мысль здесь никогда не отделялась далеко от духовной: царь и святой, народ и Бог, империя и совесть составляли единый организм, переживающий свои неврозы и катарсисы, мучительно вопрошая, как соединить вечность и власть.
Дохристианская Русь представляла собой пространство архетипической множественности, где сакральное и власть формировали единый порядок. Народ ощущал себя частью коллективного организма, готового к внутренним изменениям, а князь выполнял функции защитника и хранителя духовного порядка. Психика народа была подвижна, и в языческом сознании, подобно миру до грехопадения, человек, не зная вины, стремился ритуалом восстановить равновесие миропорядка. Принятие христианства стало преображением веры — переходом от множественности духов к единому источнику бытия в Троице Христовой. Русь искала форму согласия, способную объединить разнородные племена, и христианство предложило иной способ связи с Божественным через Христа, где вера стала инструментом нравственного преображения. Совесть возникла как внутренний орган моральной меры, через осознание греха и личную ответственность перед Богом.
Крещение стало стратегическим актом централизации: князь получил сакральную легитимность, народ — внутренний ориентир. Церковь стала посредником между человеком и вечностью, формируя моральную дисциплину и культурную структуру. Соборность усилилась через общинные молитвы, а слияние сакрального и политического породило новую форму целостности — единство духа, власти и народа. Раннее православие стало ответом на стремление Руси к духовно-пространственному ориентиру, способному объединить разрозненные племена в единый народ, создавая равновесие между духовной и светской сферами. Народное Вече в Новгороде стало подлинно демократической формой самоуправления — проявлением соборности над властью князя, требуя от правителя не только силы, но и духовного соразмерения с волей общины.
Этот баланс начал трансформироваться с реформами Петра I, когда внутренний религиозный порыв, ранее направленный к Богу и общине, стал перерабатываться в верноподданность к государству. Из языка исчезли формы духовного равенства — «братие», «соборность», «мир» — уступив место словам «долг», «чин», «служба». Психологически вера стала переживаться не как откровение, а как обязанность, как нормативность социальной функции. Иконопись утратила символическую глубину, сменившись театрализованными, «портретными» образами, а храмовая архитектура отразила новую дисциплинарную геометрию, где вертикаль шпилей заменила луковичную соборность. Психоаналитически это означало вытеснение чувства живого богообщения и замещение его архетипом Отца-Государя — строгого, рационального, но холодного. Так в глубинах народного сознания оформилась новая форма святости — сакральность послушания, где совесть уже не спорит с властью, а находит в подчинении форму внутреннего оправдания. В XIX веке лозунг «За веру, царя и Отечество» закрепил эту триаду Уварова, где духовные нормы функционировали как механизм гражданской состоятельности, а соборность обеспечивала контролируемое согласие. Однако эти скрепы не выдержали предреволюционного кризиса самосознания, остро почувствованного Лениным: «Верхи не могут, низы не хотят». Кризис религиозного сознания совпал с коллапсом политической системы империи. Народное волеизъявление тщетно пыталось мобилизовать власть на отпор импортированной смуте, а соборность ослабевала. Общество оказалось на грани разрушения духовной вертикали, и психика народа перегружалась новыми, дезориентирующими импульсами западной культуры.
Октябрьский переворот 1917 года радикально разрушил традиционное религиозное сознание: церковь утратила государственную поддержку, духовная вертикаль была демонтирована. Народ лишился своих идентификационных исторических скреп, а архетипы соборности утратили силу. Психика общества столкнулась с глубоким внутренним конфликтом, и коллективное бессознательное оказалось разобщенным. Народ превратился в «быдло» — психологически уязвимое и манипулятивно управляемое, а духовная травма общества сохранялась десятилетиями. С падением империи государственная политика целенаправленно уничтожала религиозные символы, но в вакууме бездуховности возникло внутреннее сопротивление — диссидентское движение, выразившееся в подпольных формах религиозно-общественного творчества, прежде всего в феномене Самиздата. Творческая интеллигенция стала ядром духовного сопротивления, прервав линию полной духовной деградации. Однако, после разрушения традиционной веры государство создало суррогат духовности — «Моральный кодекс строителя коммунизма» (1961), ставший идеологическим эквивалентом Десяти заповедей. Место Бога заняла идеология, место церкви — партийная структура, а любовь к ближнему была заменена требованием безусловной преданности коллективу. Соборность трансформировалась в идеологическую форму коллективизма, встроенную в партийную вертикаль, где ее духовное содержание было вытеснено политическим функционалом. Партийная жизнь стала суррогатом духовного единства, а соборность, утратив метафизическое измерение, превратилась в инструмент идеологического контроля и поддержания системной стабильности.
Распад СССР стал для России геостратегическим и духовным поражением. Коллективное сознание было травмировано утратой — распалась не только имперская структура, но и сама логика исторической преемственности. Потеря Малороссии, стран Балтии и южного подбрюшья ослабила геополитический контур безопасности, а Россия, утратив стратегическую глубину, превратилась из империи в регионального лидера. Психика народа переживала дезориентацию, аналог утраты духовной сущности. Либеральные 1990-е стали эпохой разложения традиционных устоев и морального релятивизма. Идея свободы была подменена вседозволенностью, а духовные ориентиры — рыночными эквивалентами. Церковь использовалась как инструмент символического прикрытия реформ, лишённых нравственного содержания, и апелляции Ельцина к духовности диссонировали с реальностью приватизационного грабежа. Народ переживал когнитивный разрыв между декларацией ценностей и фактическим обнищанием. Архетип соборности был замещён инстинктом выживания, и этот период стал временем внутреннего раздвоения национального сознания. Сегодня историческая патологичность русской государственности коренится в разрыве сакрального и политического начал, закреплённом петровской реформой. Насильственное отделение духовного центра от политического породило хроническое расщепление идентичности — раздвоение между внутренней соборностью и внешней имперскостью. Современное состояние характеризуется хроническим психо-идеологическим дефицитом, с симптоматикой утраты смыслового иммунитета, коллективными фазами идеологического возбуждения, сменяющимися апатией и цинизмом.
Пути преодоления этого психо-идеологического вакуума включают возрождение духовных ориентиров через православие, культуру и историческую память, а также интеграцию исторической памяти и современных ценностей. Необходимо формировать новые формы соборности, основанные на духовной ответственности и коллективном осмыслении миссии. Современная Россия должна формировать стратегическую вертикаль, объединяя подлинно народную власть, дореформированное православие и осознание катехонной миссии как защиты цивилизационного пространства. Архетипическая соборность укрепляется через духовное, культурное и историческое легитимирование власти, а люди постепенно ощущают себя частью сакрального и национального целого, воспринимая государство как инструмент сохранения русской экзистенции.
Православие и историческая память создают устойчивый моральный и психологический контур, компенсируя последствия травмы. Прогноз условно благоприятный при терапии, ориентированной на духовно-онтологическое восстановление. Главный курс лечения — реинтеграция сакрального и государственного начал, возвращение политике функции служения, а не властвования. Необходима реконструкция национального сознания как живого организма, где вера становится нервной системой, а соборность — системой кровообращения. Выздоровление возможно при признании глубинной травмы и осознании исторической миссии России как Катехона — удерживающего мир от распада. Только через духовную саморефлексию и созидание внутреннего центра обеспечивается устойчивость, когда имперское и православное перестают быть лозунгом и снова становятся дыханием живой цивилизации.
Российская история, рассмотренная через призму психоанализа духа, выявляет хроническую патологию, которая является сутью Русской Экзистенции между Травмой и Миссией: это расщепление национального сознания, корнями уходящее в петровскую реформу. Эта реформа, будучи актом насильственной европеизации, демонтировала допетровский культурный гомеостаз, где вера (сакральное) и власть (политическое) дышали в унисон. Насильственное отделение духовного центра от политического тела Империи породило длительную культурную диссоциацию: внешняя имперская рациональность стала существовать отдельно от внутренней соборной ментальности народа. Это не просто политический сдвиг, а глубочайшая травма, приведшая к утрате естественного психодуховного ритма нации.
Главная клиника русского пути — это синдром утраты сакрального центра. Патогенез прошёл через несколько этапов: сначала через имперскую рационализацию, где духовность превратилась в функцию государственного послушания, психологически подменив живое богообщение архетипом Отца-Государя и породив сакральность послушания как форму внутреннего оправдания. Затем, в советский период, после революционного коллапса, власть заменила веру идеологией, создав суррогат соборности — партийный коллективизм, где мораль регулировалась сверху. Это привело к временному «симптоматическому облегчению» через идеологическую мобилизацию, но не излечило травму, лишь замаскировав её моральным кодексом, эквивалентным внешней дисциплине. Кульминацией стал постсоветский шок 1990-х годов, когда распад СССР обернулся не просто геополитическим, а экзистенциальным поражением: рухнула последняя, пусть и суррогатная, вертикаль смысла, спровоцировав психо-идеологический вакуум — состояние, где атомизированные интересы вытеснили коллективную идентичность. Текущее состояние характеризуется духовным нейрозом и культурной диссоциацией, где внешняя патриотическая риторика зачастую сочетается с внутренней неуверенностью и дефицитом подлинной, деятельной веры. Страна, как организм, ищет реинтеграции, стремясь вновь обрести себя как Катехон — не как государство-механизм, но как цитадель духа.
Для перехода от хронической травмы к устойчивой миссии необходимо устранить фундаментальные стратегические упущения. Ключевой провал современной России — это отсутствие работающего языка будущего. В течение веков страна жила заимствованными концепциями, и сегодня, несмотря на возрождение Православия и исторической памяти, не сформулирован единый, консистентный национальный нарратив, органичный русской цивилизационной традиции, но при этом направленный в будущее. Упущение в том, что восстановление веры и истории не сопровождается созданием национальной футурологии — образа желаемого будущего, который вдохновлял бы, как некогда «Москва — Третий Рим». Без такого образа государство всегда будет реактивным, а народ — дезориентированным.
Второе критическое упущение лежит в кадровой стратегии и архетипе элиты. Исторически русская элита была продуктом либо самодержавной воли, либо партийной селекции, а после распада СССР возникла рыночная элита, ориентированная на капитал. Главное стратегическое упущение — неспособность государства создать новый архетип управляющего слоя, который был бы компетентен, нравственно дисциплинирован и укоренён в цивилизационной логике. Для обеспечения стратегической устойчивости и технологического суверенитета необходима меритократия служения, где лояльность национальному курсу и долгосрочная ответственность заменяют личную выгоду. Текущий правящий слой, воспитанный в постсоветском цинизме, остается главным слабым звеном в конструкции Катехона.
Наконец, третье упущение лежит в организационной стратегии: анализом показано, что соборность трансформировалась в дисциплинарный механизм, но её подлинная суть — живая связь центра и периферии — была утрачена. Стратегическое упущение заключается в том, что Россия до сих пор не перешла от территориального администрирования к системно-разумному управлению, которое воспринимает страну как единый, сложный, кибернетический организм. Это требует устранения бюрократической имитации, создания замкнутого цикла стратегического производства (технологический суверенитет) и синхронизации всех звеньев. Суверенитет, как конечная цель, достигается не декларациями, а управляемостью всех критических процессов, где ни один из них не зависит от внешних интеллектуальных или производственных центров.
Прогноз остаётся условно благоприятным только при условии, что Россия перейдёт от компенсаторной (символической) политики к онтологическому восстановлению. Курс лечения — реинтеграция сакрального и государственного начал. Русский путь в XXI веке требует не просто возрождения Православия, а его использования как нервной системы цивилизации, обеспечивающей нравственную дисциплину и внутреннюю собранность. Финальная стратегическая конструкция должна опираться на три взаимосвязанных вектора, суммирующих все смыслы: преемственность смысла (синтез исторической памяти в единый национальный код), технологическая субъектность (обеспечение полной управляемости критических систем и способность к опережающему развитию) и нравственная дисциплина (формирование новой элиты служения и соборности действия). Только через это тройное усилие — Дух, Технология и Воля — имперское и православное перестанут быть лозунгом и вновь станут дыханием живой цивилизации, способной не просто выжить, но и выполнить свою Катехонную миссию — удерживать глобальный мир от окончательного распада.
Евгений Александрович Вертлиб / Dr.Eugene A. Vertlieb, Член Союза писателей и Союза журналистов России, академик РАЕН, бывший Советник Аналитического центра Экспертного Совета при Комитете Совета Федерации по международным делам (по Европейскому региону) Сената РФ, президент Международного Института стратегических оценок и управления конфликтами (МИСОУК, Франция)





















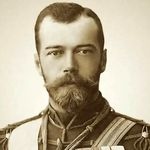












4.
«Распад СССР стал для России геостратегическим и духовным поражением.»
/////////////////
Россия тогда была отдельным государством, что ли – как следует понимать-то?
3.
«…а Россия, утратив стратегическую глубину, превратилась из империи в регионального лидера.»
///////////////
Это что – «демпфирование» с плагиатским уклоном известного посыла Барака» Обамы?
2.
«Октябрьский переворот 1917 года радикально разрушил традиционное религиозное сознание: церковь утратила государственную поддержку, духовная вертикаль была демонтирована. Народ лишился своих идентификационных исторических скреп, а архетипы соборности утратили силу. Психика общества столкнулась с глубоким внутренним конфликтом, и коллективное бессознательное оказалось разобщенным. Народ превратился в «быдло» — психологически уязвимое и манипулятивно управляемое, а духовная травма общества сохранялась десятилетиями. С падением империи государственная политика целенаправленно уничтожала религиозные символы, но в вакууме бездуховности возникло внутреннее сопротивление — диссидентское движение, выразившееся в подпольных формах религиозно-общественного творчества, прежде всего в феномене Самиздата. Творческая интеллигенция стала ядром духовного сопротивления, прервав линию полной духовной деградации. Однако, после разрушения традиционной веры государство создало суррогат духовности — «Моральный кодекс строителя коммунизма» (1961), ставший идеологическим эквивалентом Десяти заповедей.»
///////////////////
Пожалуй, «переплюнуты» все закордонные «голоса» Советской Эпохи?
И одновременно - ниженулевое (!) понимание духовной стороны вопроса.
1.
Жаль, что вера до сих пор под негласным запретом во многих областях.