
«Люди большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, около 60—70% из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова» (В.И. Ленин. Из письма И.Ф. Арманд, 1913 г.)
«Маркс встал на марксистские позиции» (Из ответа на экзамене)
Речь и пойдёт о марксизме. А потому хотелось бы извиниться за неточность в предыдущей статье «В трёх соснах-государствах». Следует читать: «о генетическом родстве идей марксизма и капиталистической цивилизации». Действительно, идея коммунизма как таковая – очень древняя и восходит она к народным традициям общинности и социальной справедливости. Откуда и пришла в труды Платона, Томаса Мора и иных.
К сожалению, ни один из комментаторов к помянутой статье не рассмотрел затронутых там проблем советской теории в работах Энгельса и Ленина. Вместо этого они опять начали «развивать» всякие «страсти – мордасти», и много в том преуспели. Но толку от этого не было и не будет. Разве что снова подтвердилось старое наблюдение тов. Ленина, вынесенное в эпиграф.
Люди, заучивающие слова, любят повторять мантры о неизбывном значении марксизма-ленинизма (при этом считая себя православными).
Но здесь речь не о бесконечном «растягивании» марксизма – вроде «безразмерного» свитера, а о том, как работают в истории не мёртвые догмы, а живые народные традиции и народная мудрость. И о том, как в нужное время иные вожди предпочитают живую жизнь мёртвым догмам. Если бы уже тот же Ленин де факто не сделал такого предпочтения, едва ли бы родилась Советская цивилизация. (Хотя не следует переоценивать роль личности в истории, но недооценивать её тоже не надо.
Обратимся к пониманию «коммунистической революции» в «маяке» марксизма» – Манифесте Коммунистической партии:
19-й вопрос: Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране?
Ответ: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними – главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, т.е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. Поэтому она осуществится медленнее и труднее всего в Германии, быстрее и легче всего в Англии…
Ну, что можно сказать по сему поводу? Все, кто знаком с азами новейшей истории, знают, что всё происходило с точностью до наоборот.
Как уже на раз говорилось, социалистические (используем более привычный да и более правильный термин) происходили только в крестьянских странах. А Англия, хоть и в глубоком кризисе, неизбежном при глобальной антисистеме, – но от революции далека как от других планет.
Да, сто лет назад творцы глобальной антисистемы боялись марксизма. Потому, прежде всего, что отождествляли его с Русской революцией и Советским строем. Со временем эти иллюзии исчезли. Они смогли купить немало марксистов – социалистов и социал-демократов. Те научили их подкупать рабочих и служащих – и тем застраховаться от революций за счёт сверхприбылей от колониального грабежа (так сказать, «по методу Урфина Джюса»). Так родилась и самая совершенная (но от этого не менее гнусная) система манипуляции массами. Впрочем, об этом я подробно писал здесь («И опять о фашизме»).
Теперь творцы и хозяева глобальной антисистемы боятся всех самобытных и свободолюбивых народов и всякой культурной самобытности. А вместо борьбы между буржуазией и пролетариатом имеем борьбу между «золотым миллиардом» и «глобальным Югом».
А что же тов. Ленин? Как теперь широко известно, он на деле отказался от догмы «Манифеста» и предпочёл ей реальность. Выдвинул благую по тому времени для России идею о победе революции первоначально в одной стране. При том не самой по западным понятиям цивилизованной.
Это отступление от классики марксизма его классик объяснил: «Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошибались в том, что мы начали не с того конца по теории (всяких педантов)»… («О кооперации»).
И сослался не на Маркса, а на Наполеона: «Помнится, Наполеон писал: «On s’engage et puis… on voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьёзный бой, а там уже видно будет».
«Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир или НЭП и т.п. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу…» («О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова)».
Это называли (и сам автор так полагал) «творческим развитием марксизма». Но не слишком ли широко трактуется это понятие, и что сказали бы об этом еде Маркс и Энгельс?
Люди, не умеющие думать, могут увидеть тут приписывание Ленину или Сталину, твердившим о своей верности марксизму и ленинизму – лицемерие.
Едва ли! Они были. Очевидно, искренни в своих этих взглядах. Но тот же Маркс учил различать субъективное мнение людей и объективный смысл их действий.
И ещё одну благую для России идею выдвинул тов. Ленин, отступив от классики марксизма. Идею о социалистическом отечестве.
Что говорит об этом «Манифест»?
Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность.
Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет.
Едва ли это было верно даже в 19 веке.
Здесь проявилась свойственная марксизму недооценка этноса, неверное понимание этничности. Но Ленин смог это преодолеть. Он-то исходил из победы социализма в одной стране! А за этим уже читалось сталинское построение социализма в одной стране. Одно отступление от «классики марксизма» влекло за собой и другие – во имя практики, во имя живой жизни, а не мёртвой буквы.
И он отвечал своим левым экстремистам – критикам, державшимся за букву: «Мы – оборонцы после 25 октября 1917 г. Я говорил это не раз с полной определенностью... Именно в интересах «укрепления связи» с международным социализмом обязательно оборонять социалистическое отечество. Разрушает связь с международным социализмом тот, кто стал бы относиться легкомысленно к обороне страны, в которой победил уже пролетариат» («О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности»).
А на позициях «буквы марксизма» оставались «слева» троцкисты, а «справа» – меньшевики, ставшие органической частью «белого движения» и вместе с эсерами призвавшими на Русь интервентов. Те и другие разделяют ответственность за развязывание Гражданской войны и все бедствия, с нею связанные.
Так что поблагодарим Бога за то, что даже в годы испытаний, связанных с революцией, возобладала не чужая теория, а народная мудрость, общинные традиции, богатство фольклора и, конечно, православная мораль, хоть и секуляризированная. О христианском характере советской нравственности говорили многие, от Г. Зюганова до Патриарха Кирилла, и говорили верно. Её также удалось отстоять в битве с многоликим троцкизмом.
Кстати, эволюцию взглядов Ленина хорошо последил С. Кара-Мурза в «Советской цивилизации» (вечная ему память!).
Так что если и был какой «мальчик», то был «светский фарисей» – меньшевик или троцкист.
В заключение приведём одно из признаний самого Маркса (недаром он писал полушутя, что он «не марксист») из письма в «Отечественные записки»:
Таким образом, события поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюции в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в её надысторичности.
Сергей Серафимович Луговской, историк, Москва














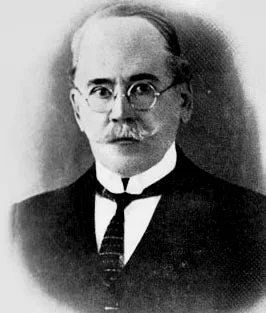





















90.
sgpi.ru
sgpi.ru
заголовок;
основное заглавие документа;
сведения, относящиеся к заглавию;
сведения об ответственности;
поисковые данные документа;
сведения о местоположении объекта ссылки в документе;
сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ — объект ссылки;
примечания.
sgpi.ru
sgpi.ru
Правила оформления
Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, расшифровка аббревиатуры может содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту. Если список сокращений отсутствует, название архивохранилища указывают полностью с сокращением отдельных слов и словосочетаний.
sgpi.ru
sgpi.ru
Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища. Используют сокращения: «ф.» (фонд), «оп.» (опись), «д.» (дело) и т. п. — в зависимости от того, какие обозначения приняты в данном архивохранилище.
sgpi.ru
sgpi.ru
library.petrsu.ru
Все элементы поисковых данных разделяют точками
89. Просто так.
БАСНЯ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Это был ужасно приставучий Козлёнок с крохотными рожками. Делать ему было нечего, вот он и приставал ко всем:
— Хочу бодаться! Давай бодаться!..
— Отстань от меня! — сказал Индюк и важно отошёл в сторону.
— Давай бодаться! — пристал Козлёнок к Поросёнку.
— Отвяжись! — ответил Поросёнок и зарылся пятачком в землю.
Подбежал Козлёнок к старой Овце:
— Давай бодаться!
— Отойди от меня! — попросила Овца. — Оставь меня в покое. Не к лицу мне с тобой бодаться!
— А я хочу! Давай пободаемся!
Промолчала Овца и сама отошла в сторону.
Увидел Козлёнок Щенка.
— А ну! Давай бодаться!
— Давай! — обрадовался Щенок и больно укусил Козлёнка за ногу.
— Постой! — заплакал Козлёнок. — Я хочу бодаться, а ты что делаешь?
— А я хочу кусаться! — ответил Щенок...
88. Ответ на 85, Русский танкист:
Можно вспомнить и о том, что творилось в писательской среде. Разгром революции 1905-1907 годов совпал с упадком литературы, забвением классического наследия. Именно в это время стал возможен какой-нибудь пошлейший Арцыбашев. Октябрьская революция (как бы ни хотели некоторые представить её продолжением этого разложения) явилась как нравственно очищающая сила.
87. Ответ на 79, С. Югов:
Конец связи.По данным IV Государственной Думы, с 1901 по 1914 год число жертв огня регулярных царских войск по митингам и демонстрациям рабочих, а также по сходам и шествиям крестьян, в том числе мирным, превысило 180 тысяч человек. Для сравнения: людские потери Ирана в полновесной фронтальной ирано-иракской войне 1980-1988 годов, где применялись все виды самых современных на то время вооружений, включая танки, авиацию, артиллерию, ракеты и химическое оружие, составили 196220 человек. Какой краской будем мазать данный факт, уважаемый?
86. Ответ на 79, С. Югов:
А на самом деле:
Ленина и Салина, которых надо рассматривать объективно исторически, как выдающихся деятелей прошлого, а не как идолов.
Вот так-то.
И мазать дореволюционную историю одной чёрной краской также недопустимо, как и советскую историю. История едина, как едина должна быть страна. Школа Покровского канула.
Конец связи.А Вы вообще внимательно прочли, что я написал? Или - что вы понимаете в мании величия, мелкие людишки?
85. Ответ на 81, Константин В.:
Совершенно верно! Богу было угодно, чтобы Россию (и не только её) спасли коммунисты.
Между тем даже самая строгая церковность ничего не гарантирует. А. Колпакиди всегда напоминает, что, например, Румынии была партия православных фашистов... Разве это не отличная иллюстрация к словам Г. Гейне, от которых наш оппонент презрительно отмахнулся?
Не исключено, что православных, способных спаси Россию, к тому времени уже не было. Такой пример. В Санкт-Петербурге в 1913 году число высших учебных заведений равнялось числу официально зарегистрированных публичных домов. Принимая во внимание, что число официально незарегистрированных публичных домов учёту не поддаётся, а официально незарегистрированных высших учебных заведений не бывает и быть не может, экстраполируем уровень нравственности предреволюционной "православной империи".84. Ответ на 76, Константин В.:
Прискорбно, к тому же, что наш оппонент не делает различия между "марксизмом" вульгарным и марксизмом высоким. Люди, далеко превосходящие мою скромную персону (включая А. Ф. Лосева), отмечали сходство ленинской теории отражения с православным богословием. Ср.: Бог "являет Себя очистившемуся уму как бы в зеркале, сам по себе оставаясь невидимым..." (свт. Григорий Палама).
Шарлатан Гумилёв запассионарил Маркса.
Очень удобно прохоровым-куршавельским (и абрамовичам, конечно).
83. Ответ на 79, С. Югов:
Только у Вас вместо неё - устав караульной службы...
82. Ответ на 77, С. Югов:
Хочется напомнить также, что уже в начале ΧΙΧ в. в русских духовных академиях преподавали, между прочим, Канта, Фихте, Шеллинга...
81. Ответ на 78, Русский танкист:
Совершенно верно! Богу было угодно, чтобы Россию (и не только её) спасли коммунисты.
Между тем даже самая строгая церковность ничего не гарантирует. А. Колпакиди всегда напоминает, что, например, Румынии была партия православных фашистов... Разве это не отличная иллюстрация к словам Г. Гейне, от которых наш оппонент презрительно отмахнулся?