
Хорошо известна ленинская фраза: декабристы разбудили Герцена. А может, лучше не будили бы? Читая некоторые его работы, лишний раз убеждаешься, насколько сложно переплетены корни русской мысли, в том числе мысли революционно-демократической. Конечно, и сами декабристы, и разбуженный ими Герцен были патриотами. Первые это доказали на поле боя, второй – жизнью, направленной, как ему казалось, на улучшение России. Но что это за улучшение? Возобновите в памяти, например, некоторые страницы герценовской статьи «Москва и Петербург». Сколько там иронии, а порой и грубой насмешки над древней русской столицей и её сонными бездельниками-жителями, не имеющими за собой ничего путного в прошлом, а в настоящем только подражающими Петербургу, да и то безуспешно. Вот когда сам Наполеон проехал по её улицам – это действительно было событие…
С другой стороны, Санкт-Петербург, по Герцену, вообще не имеет никакого прошлого, кроме Петра и его деяний. Единственное и главное занятие петербуржцев – служба, чины, деловые связи. Если Москва ещё тешится старыми боярскими и дворянским родословиями, то новой бюрократической столице до этого дела нет: всё происходит здесь и теперь, в настоящем. В общем, корчит из себя Европу Петербург, суетится по департаментам, однако, в целом, дальше карикатуры на эту вожделенную Европу не идет. Для этого нужна революция...
У Герцена, как известно, была личная драма в жизни: жена завела роман с революционным поэтом. Но гораздо более трагической оказалась судьба его мировоззрения, изначально построенного на идеализации Запада как нормы и образца для России. Православной духовной и культурной традиции страны для него как будто не существовало, а царская власть трактовалась лишь как варварская разновидность деспотизма. Дошло до того, что «Колокол» его звучал из Лондона на деньги барона Ротшильда (очевидно, «большого друга» России). При всем уме и образованности Герцена, ни то, ни другое не выходило у него за пределы принципиального европоцентризма – вплоть до эмиграции («релокации») на Запад и личного знакомства на этом пути с тамошними «свободой, равенством и братством». Тут уж приходится сослаться на «Письма издалека», где относительно «райского сада» Европы употребляются такие выражения, как «зловещее раздумие» и «патологический разбор». Мечта оказалась буржуазной химерой. Бывший ярый революционер предстал впоследствии сторонником русской поземельной общины и стал чуть ли не славянофилом; впрочем, ранние славянофилы и западники, по его же словам, смотрели в разные стороны, но сердце у них билось одно. Указанный переворот, кстати, во многом напоминает метанойю его старшего современника Чаадаева, тоже начавшего с описания России как «пустого мета» и кончившего утверждением, что мы самою судьбой предназначены к разрешению главных споров человечества («Апология сумасшедшего)».
Подводя итог, замечу, что дворянская революционность Герцена, нравится это кому-либо или нет, в определенных своих аспектах граничит с русофобией, а время отношения к текстам Ленина (в частности, к его статье «Памяти Герцена») как к священным скрижалям давно прошло. Педагогический университет в Санкт-Петербурге с 1920 года носит имя человека, который, мягко говоря, не любил ни императорского Петербурга, ни царственной Москвы. Я предложил бы присвоить Российскому государственному педагогическому университету имя выдающегося отечественного ученого Николая Яковлевича Данилевского – создателя фундаментальной концепции русского культурно-исторического типа. Да и петербургской редакции Радио России стоило бы не так часто повторять по утрам чтение упомянутой статьи Герцена «Москва и Петербург», особенно на фоне нынешних «братских» российско-европейских отношений.
Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор, научный руководитель Российского института истории искусств







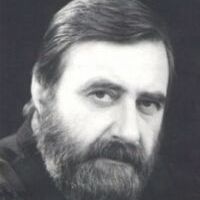







.jpg)


















15.
"Читая некоторые его работы, лишний раз убеждаешься, насколько сложно переплетены корни русской мысли, в том числе мысли революционно-демократической."
///////////////////
Какая здесь картинка "нарисовывается"? Русская мысль получается ветвистое древо? Корни мысли - это что может быть в образе?
14.
"Сколько там иронии, а порой и грубой насмешки над древней русской столицей и её сонными бездельниками-жителями, не имеющими за собой ничего путного в прошлом, а в настоящем только подражающими Петербургу, да и то безуспешно. Вот когда сам Наполеон проехал по её улицам – это действительно было событие…
…Дошло до того, что «Колокол» его звучал из Лондона…"
/////////////////
Ну чем не "смысловые" "связки" Истории?
"В синем небе, колокольнями проколотом,
Медный колокол,
медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал…
Купола в России кроют чистым золотом —
Чтобы чаще Господь замечал.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною —
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна…"
( Владимир Высоцкий, "Купола")
13.
"Первым вошёл в Рай разбойник."
/////////////////
Но с креста снят не был - физического наказания не избежал, хоть и раскаялся пред Господом…
Как это может "проецироваться" с позиции духовной (!) на группу "господ" с конкретными именами-фамилиями-явками-адресами "сдавших" СССР в Беловежье?
12.
"Хорошо известна ленинская фраза: декабристы разбудили Герцена. А может, лучше не будили бы?"
////////////////////
Так "система" же закономерно "направлялась-двигалась " к революционному катаклизму и предфинишно то явно разве не обозначилось опять же, например, Ходынкой как "сказывалось" в комментарии к недавней теме по царю Николаю II? Ведь именно такой - вряд ли представлявший будущие угрозы человек был, по сути, "на ходу" "востребован" Промыслом Божиим причем вовсе не для "мудрого" правления с дальнейшей перспективой "хозяйствования" для романовых, а завершения "лебединой песнью" - при "корявом" "хоровым" исполнением династией дотоле?
И ведь совсем несложно объяснить почему случилось именно так и где, в чем "провалились" не только тогда… Опять же "сказывалось" ранее, что и у "нас" полыхнул Манеж прям во время известного события по завершению "подсчета голосов"… Случайность? Происки поджигателей? Мы что, и впрямь полагаем, что Господу не под силу было пресечь "прорыв" "пуссиков" в Храм Христа Спасителя где настоятелем Патриарх Кирилл?
Каждое такое ЗНАКОВОЕ событие "нечто" "акцентирует" и наставляет-предупреждает, но "разбором полетов" человеки, как правило, склонны пренебрегать… И продолжают "петь" осанну, "где" надо было бы…
11. Ответ на 10, Потомок подданных Императора Николая II:
10. Ответ на 8, Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии:
"Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела."
////////////////////
Духовный крах, духовная драма… Получается, Ленин (Ульянов) не чурался соответствующего взгляда на "вещи" тем более, что сказано-то "к месту"?
Ну, и кому из нынешних "лидеров" доступна такая оценка причем "идущая" в ЕСТЕСТВЕ изложения-видения, а не встроенная "искусственность" как ныне даже у "некоторых" церковников? Владимир Ильич действительно гений…
Ну вот зачем Вы вслух такое говорите?
Маргиналом становитесь, как попы-большевики.
Попы-большевики... Это кто?
Ув. Константин, я не против Канта с Гегелем. И даже не против вульгарного материализма - как крайней формы атеистического космизма, т.е. максимально бездуховной формы пантеизма.
Прописывал тут раз -надцать о том, что вульгарный материализм МЛФ - всего-навсего одна из форм пантеизма, хотя комми гоготали мне в лицо, утверждая, что в их учении гипотезы о боге нет в помине.
Имеется в виду то, что пантеизм, как мы помним - это идея растворения Творца в творении, т.о. атеистический космизм предполагает, что в материальном мире присутствуют некие энергии, бывшие некогда иноприродными, но ставшими частью природы.
А вульгарные атеисты просто пошли дальше, и заявили, что так было всегда и ничего иноприродного не существует в принципе.
Нравится им быть говорящими социальными обезьянами - дело хозяйское. Пущай себе.
Но дело в другом.
Ленинцы истребляли Церковь.
И когда тут на форуме священник позиционирует себя большевиком, я просто недоумеваю.
Ленин - несомненно богоборец бесноватый.
и те, кто его почитает из числа как бы "православных" - просто вызывают недоумение у 99% верующих людей.
И мне странно, что священнослужители и тем более владыки, которые читают РНЛ, помалкивают об этом.
Ну, Бог им Судия.
3
Павел Тихомиров / 04.08.2025, 13:36
Подробнее:
https://ruskline.ru/news_rl/2025/07/31/v_chem_prichiny_tendencii_na_resovetizaciyu_u_rossiiskih_patriotov?page=4
9.
"Конечно, и сами декабристы, и разбуженный ими Герцен были патриотами."
////////////////////
Так и сегодня "куда ни кинь" - патриот на патриоте? "Вон", к примеру, что ни партия - так едва ли не разливанное море брызг-выражений патриотических чувств? И тех же "олигархов" кормящих "немытую Россию" кто обвинит в отсутствии патриотизма?
А вот коли "глядеть" сущностно-то - кого ныне причислить к самому главному из них?
8. Ответ на 7, Потомок подданных Императора Николая II:
"Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела."
////////////////////
Духовный крах, духовная драма… Получается, Ленин (Ульянов) не чурался соответствующего взгляда на "вещи" тем более, что сказано-то "к месту"?
Ну, и кому из нынешних "лидеров" доступна такая оценка причем "идущая" в ЕСТЕСТВЕ изложения-видения, а не встроенная "искусственность" как ныне даже у "некоторых" церковников? Владимир Ильич действительно гений…
Ну вот зачем Вы вслух такое говорите?
Маргиналом становитесь, как попы-большевики.
Попы-большевики... Это кто?
7. Ответ на 6, Александр Волков:
"Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела."
////////////////////
Духовный крах, духовная драма… Получается, Ленин (Ульянов) не чурался соответствующего взгляда на "вещи" тем более, что сказано-то "к месту"?
Ну, и кому из нынешних "лидеров" доступна такая оценка причем "идущая" в ЕСТЕСТВЕ изложения-видения, а не встроенная "искусственность" как ныне даже у "некоторых" церковников? Владимир Ильич действительно гений…
Ну вот зачем Вы вслух такое говорите?
Маргиналом становитесь, как попы-большевики.
6.
"Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела."
////////////////////
Духовный крах, духовная драма… Получается, Ленин (Ульянов) не чурался соответствующего взгляда на "вещи" тем более, что сказано-то "к месту"?
Ну, и кому из нынешних "лидеров" доступна такая оценка причем "идущая" в ЕСТЕСТВЕ изложения-видения, а не встроенная "искусственность" как ныне даже у "некоторых" церковников? Владимир Ильич действительно гений…