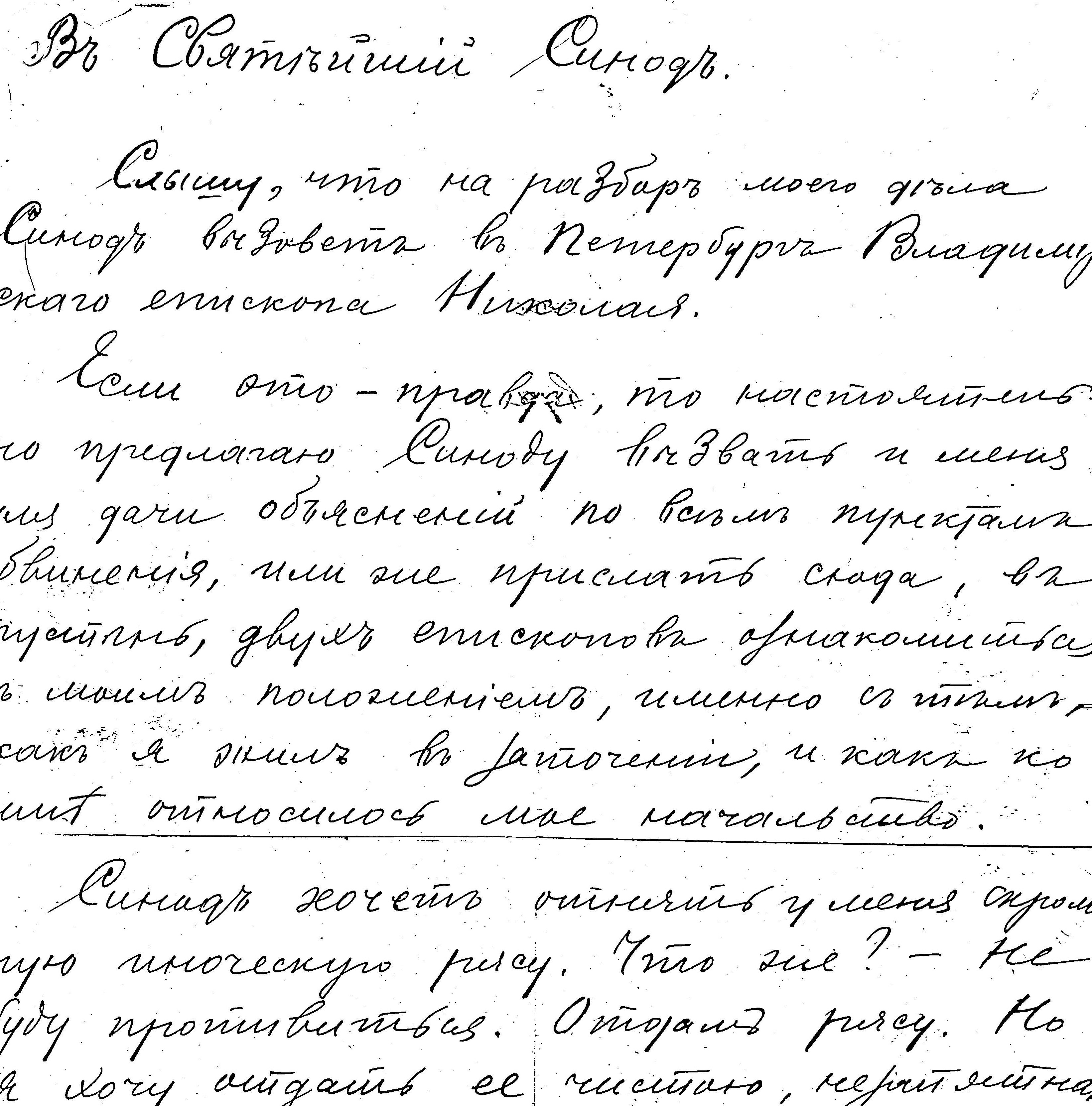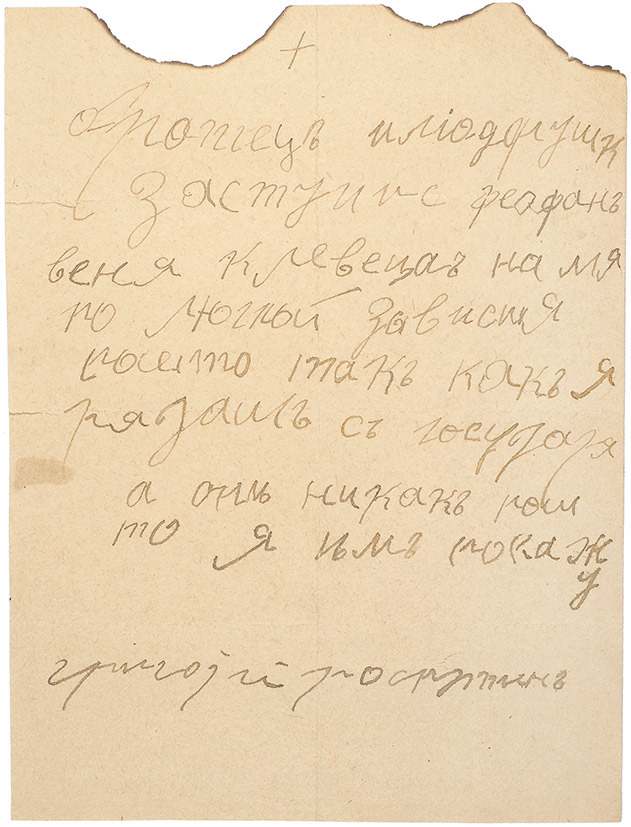Другие публикации астраханской исследовательницы Яны Анатольевны Седовой о скандально известном церковном и общественном деятеле предреволюционной поры иеромонахе-расстриге Илиодоре (Сергее Михайловиче Труфанове): «Непонятая фигура»; «Детство и юность Илиодора (Труфанова)»; «Преподавательская и проповедническая деятельность иеромонаха Илиодора (Труфанова)»; «Царицынское стояние» иеромонаха Илиодора (Труфанова); «Вклад иеромонаха Илиодора (Труфанова) в создание Почаевского отдела Союза русского народа»; «Незадачливый «серый кардинал» II Государственной думы»; «Иеромонах Илиодор на IV Всероссийском съезде Объединенного русского народа»; «Изгнание иеромонаха Илиодора из Почаева», «Конфликт полицмейстера Бочарова и иеромонаха Илиодора»; «Конфликт епископа Гермогена (Долганева) и губернатора гр.С.С.Татищева»; «О скорейшем переводе названного иеромонаха из Саратовской епархии...», «Отстаивая о.Илиодора, преосв. Гермоген отстаивал независимость Церкви…»; «Отец, а не обвинитель…»; «Единственная встреча»; «Скандальное паломничество иеромонаха Илиодора в Вольск»; «О.Илиодор Труфанов с паствой в Сарове (июль 1911 г.)»; «Хулидоры скандальничающего инока»; «Конфликт о. Илиодора Труфанова и полицмейстера В.В.Василевского»; «Иеромонах Илиодор и Григорий Распутин»; «Илиодоровы катакомбы»; «Дело епископа Гермогена».
***
Утром 28 января 1912 г. поезд, к которому был прицеплен вагон о. Илиодора, прибыл на станцию Гороховец. На перроне собрались власти – исправник, становой пристав и урядники. Из других вагонов высыпали корреспонденты. Но о. Илиодор не выходил.
Внутри происходил следующий диалог. Сытый по горло вчерашней пересадкой в Москве, произведенной под жандармским конвоем на глазах изумленной публики, о. Илиодор попросил сопровождавшего его жандармского полковника Долгова поставить вагон на запасной путь, чтобы не повторять соблазнительной картины. Однако полковник закричал:
– Выходите, без всяких рассуждений, нас тут десять человек, и мы не будем вас одного дожидаться.
– Я вас не звал, – возразил о. Илиодор, – и вы мне не нужны. До монастыря я могу доехать и один.
– Не рассуждать!.. Слушайте, что вам приказывают[1].
«Только один жандармский полковник в Гороховце, – вспоминал о. Илиодор, – хотел видеть во мне какого-то душегуба и отчаянного разбойника, но потом успокоился. Бог с ним!»[2].
Однако второй спутник о. Илиодора, господин в штатском, внял его доводам, вышел на перрон и попросил исправника отцепить вагон.
Когда поезд ушёл в Нижний Новгород, оставив на станции знаменитый вагон, о. Илиодор, наконец, вышел. «Вид у него утомленный», – отметил один из репортеров[3]. Иеромонах был в скуфье и подряснике, с союзническим значком на груди и любимым посохом в руках.
«Ссыльного инока сопровождает его брат. Илиодор с сосредоточенным видом, не глядя по сторонам, подходит к поданному экипажу и садится в него вместе с братом. В следующий экипаж влезают пристав с исправником. Дальше затряслись по камням два жандармских офицера. Наконец, замыкая кортеж, поспешно устремляются вслед отъезжающим корреспонденты, наскоро рассевшиеся в оказавшихся налицо кибитках. В таком порядке любопытный караван проследовал все 35 верст, отделяющие Гороховец от Флорищевой пустыни»[4].
Вспоминая это путешествие «на ретивых лошадях с бубенчиками», о. Илиодор особо остановился на корреспондентах. Перефразируя псалом, он писал: «О, газетчики! Куда я пойду от духа вашего, от лица вашего куда я убегу? Поеду ли в Новосиль – вы за мной! Повезут ли меня по дебрям Флорищевским – вы за мной! Бог с вами! Гоняйтесь, только не врите!»[5].
Кортеж прибыл к монастырю около полудня. Здесь о. Илиодора ждало неприятное открытие. Мало того, что бедного иеромонаха конвоировали на всем пути от Петербурга до Гороховца и от станции до обители. Оказалось, что монастырь взят под строгую охрану: стражники дежурили у святых ворот и других входов. Более того, даже по двору другие стражники следовали за о. Илиодором по пятам. Куда же он попал – в монастырь или в тюрьму?
Войдя в ворота, о. Илиодор прошел в келью настоятеля, архимандрита Макария. Ринувшихся следом корреспондентов стража не пропустила и во двор.
Первое знакомство иеромонаха и его нового начальника ознаменовалось ссорой. Гость просил оставить брата с ним на ночлег. О. Макарий, имевший на этот счет инструкции от архиерея, отказал. Однако когда о. Илиодор признался, что боится ночевать один на новом месте, настоятель уступил.
Скорее всего, речь шла также об охране, неприятно поразившей о. Илиодора. Но тут уступки были невозможны.
Вскоре томившиеся у ворот корреспонденты увидели, как иеромонах вышел из кельи настоятеля «точно ошпаренный». «Он что-то громко кричал, сердито стучал своим посохом». А следом шли стражники[6].
Едва успев войти в приготовленную для него келью, о. Илиодор вновь поссорился, на сей раз с жандармским полковником. «Был единственный случай, – объяснял иеромонах, – когда я здесь пришел в раздражение и вступил в пререкания с жандармским офицером, плевавшим на мое крестное знамение, за что каюсь и молюсь»[7]. Позже он предпочел забыть о благочестивой подоплеке этой стычки, изложив иную версию – ссора, дескать, началась с того, что офицер стал отдавать приказания «сыщикам-караульщикам» прямо в коридоре: «Так смотрите! Лучше караульте этого бунтовщика. Если провороните и он убежит, тогда всем вам каторга».
«– Потише, пожалуйста! – сказал я в отворенную дверь.
– Бунтовщик! Как вы смеете мне приказывать?! Я здесь по приказанию государя императора!
– А я здесь по чьему повелению? Не государя императора? Разве ты этого не знаешь?
– Сумасшедший монах!
– Дурак! – крикнул я и захлопнул дверь»[8].
В 4 часа раздался колокольный звон. Была суббота, начиналось всенощное бдение, и о. Илиодор по привычке направился в храм. Конвой не отставал. Войдя в церковь, о. Илиодор скромно встал недалеко от входа.
Служили в небольшом храме прп. Ефрема Сирина, старинном, с низкими сводами. Здесь собралась вся братия, кроме больного настоятеля. Сюда же явились корреспонденты, впущенные, наконец, в монастырь к началу службы. Сквозь полумрак они внимательно разглядывали того, за кем приехали в эту глушь, оказавшись свидетелями последней храмовой молитвы иеромонаха Илиодора.
«Одежда его тенденциозно проста. По виду это – простой послушник. Нет ни мантии, ни парадного клобука. Подрясник, перетянутый широким поясом. Грудь украшена союзническим значком. Он истово и усердно молился».Коллеге вторит другой репортер: «Окутанный полумраком, он истово молится, совершенно не обращая внимания на окружающих»[9].
Его сосредоточенность особенно удивительна, поскольку собрание представляло собой любопытную картину. Кроме монахов и корреспондентов, в храме находились чины жандармской и общей полиции. За каждым репортером стоял стражник, за о. Илиодором – целый конвой.
Героически выстояв в таком положении долгую монастырскую службу, окончательно рассерженный о. Илиодор принял решение, оказавшееся для него роковым. Он заявил настоятелю, что отныне будет сидеть в келье и не пойдет даже в церковь до снятия охраны с монастыря.
«Я иду в церковь, и полиция за мной. Это вводит в смущение братию», – объяснял потом о. Илиодор[10]. Позже он выразился еще точнее: «…я не мог под конвоем шести стражников, среди толпы любопытных людей, ходить в храм на молитву»[11].
Несомненно, бедному иеромонаху казалось, что добиться удаления конвоя очень легко и речь идет о небольшой отсрочке. Он не знал, что поставленный им ультиматум лишит его богослужения на многие годы.
Еще в день приезда во Флорищеву пустынь следившие за о. Илиодором корреспонденты выяснили, что ему запрещено священнослужение. Он отнекивался: «Видно, кто-нибудь из братии в заблуждение ввел»[12].
В начале февраля газеты снова стали указывать на соответствующее решение Синода, сообщенное, по некоторым сведениям, архим. Макарию в частном письме[13].
По другой версии, архиепископ Владимирский Николай, в чьё ведение поступил теперь о. Илиодор, «порекомендовал ему воздержаться от совершения богослужений» ввиду январской попытки уклониться от ссылки[14].
Впрочем, этот вопрос поначалу носил чисто академический характер ввиду отказа иеромонаха ходить в храм.
Во второй половине февраля Синод, получив от владимирского архиепископа успокоительные сведения, по-видимому, частным порядком постановил разрешить флорищевскому узнику священнослужение. Но появилось новое затруднение, касавшееся числа участников его служб.
Известно, с одной стороны, об отказе о. Илиодора от приглашения служить соборне, а с другой – о его готовности служить в одиночку. «Другую неделю хлопочу, чтобы мне одному, без богомольцев, разрешили служить литургию три раза в неделю в одной маленькой пустующей церковке», – писал он еп. Гермогену[15]. Однако архиеп. Николай не позволил.
Таким образом, узник остался и без храма, и без священнослужения.
Свято-Успенская Флорищева пустынь была основана в XVIIв. на левом берегу р. Лух, а с 1764 г. считалась заштатным монастырем. На 1912 г. здесь жили 80 человек братии, из них 20 иеромонахов.
Монастырь находился в глуши, среди «непроходимых и необозримых дремучих лесов», отделенный 35 верстами от ближайшего жилого места – г. Гороховец. «Здесь все точно отрезаны от мира», – писал корреспондент, приехавший с о. Илиодором[16].
Уединенное расположение Флорищевой пустыни способствовало тому, что она стала играть роль ссыльного монастыря. К приезду о. Илиодора здесь находилось еще 12 ссыльных монахов.
Режим монастыря на вид казался строгим. Трижды в день братия собиралась в церкви, где два монашеских хора пели по столбцам. «Братья молится усердно. Служба совершается истово», – писал о. Илиодор под впечатлением от первого флорищевского всенощного бдения[17].
Но, познакомившись с жизнью монастыря ближе, он переменил свое мнение.
Уже на шестой день проживания в пустыни о. Илиодор говорил: «До моего прибытия сюда братия вела жизнь совсем не монашескую»[18].
Через девять месяцев пребывания в монастырских стенах он писал, что до его приезда «озорные послушники устраивали кулачные бои, форменное мордобитие»[19].
Впоследствии же Сергей Труфанов дал монастырю следующую убийственную характеристику: «Флорищева пустынь – это не обитель, а дом терпимости. Здесь почти каждый монах имеет женщину, а то и две»[20].
Будь это свидетельство единственным, его можно было бы отнести на счет озлобленности автора, известного своей привычкой к клевете. К тому же оговорки о. Илиодора о перемене порядков с его приездом показывают, что он писал с чужих слов. Но ему вторил некий аноним, подписавшийся как «сельский иерей, ревнующий о благе Церкви, близкий от Флорищ»:
«…Флорищевская братия до ссылки туда о. Илиодора тихо там почивала, пила, ела. Во главе с своим архимандритом по коровнице имела. Уж очень нравственно распущена. Там все живут с бабами. Существует у них скотный двор, и там коровниц уж слишком много»[21].
Другие источники делают более скромные, но тоже весьма неблагоприятные для братии замечания.
Сотрудник «Старого Владимирца» вспоминает, как, проезжая Флорищи и отъехав уже от стен монастыря, обратил внимание, что по пути встречаются пешие женщины, и у каждой под мышкой четверть водки.
«– Куда несете? – спросил я женщину.
– Во Флорищи, барин.
– Обыкновенная здесь история, барин, – заметил ямщик, – носят послушникам»[22].
Даже сам архиеп. Николай в одном из рапортов мимоходом признает наличие в числе флорищевской братии «иеромонаха с небезупречным прошлым» и неких лиц «отчасти и недостаточно твердых в жизнеповедении»[23].
Следует еще раз подчеркнуть, что Флорищева пустынь была местом ссылки. В 1908 году, рассуждая о другой, игравшей ту же роль, пустыни – Китаевской, – архиеп. Антоний Волынский писал: «Судить по ней о русском монашестве не то же ли значит, что судить об армии по дисциплинарному батальону?»[24]. Таким образом, он косвенно признавал, что ссылаемые лица могли приносить в монастыри неблагочестивые нравы.
Не вдаваясь в подробности чудовищных обвинений, предъявлявшихся современниками к Флорищевой пустыни, приходится заключить, что атмосфера, в которую угодил о. Илиодор, существенно отличалась от традиционной монастырской в худшую сторону.
Режим узника определялся инструкциями, присланными настоятелю архиепископом Николаем. Св. Синод же медлил с распоряжениями, отдав, таким образом, иеромонаха во власть местного духовенства.
Келья для о. Илиодора была приготовлена особой комиссией еще 22 января. Сначала хотели предоставить ему две комнаты, но затем отдали их охране, а для о. Илиодора выбрали соседнее помещение, в одну комнату, с трехаршинной передней. Расположенные в отдельном небольшом корпусе-просфорне, эти келии были избраны, очевидно, в силу их обособленности, а отведённое иеромонаху помещение находилось в конце коридора, за последней дверью. Два окна о. Илиодора, выходившие на лес и реку, были закрыты железными решетками, третье, с видом на монастырский двор, оставалось нетронутым.
Келья иеромонаха была небольшой, «шагов шесть в длину и три в ширину»[25]. Всю ее обстановку составляли кровать, два стола – письменный и обеденный, табуреты и аналой. Для одежды – только гвоздь.
Сначала о. Илиодор охарактеризовал свое новое жилище как «маленькую, сухую, уютную келейку», впрочем, «с железными решетками» и «не больше одиночной тюремной камеры». По свидетельству архиеп. Николая, никакого недовольства отведённым помещением иеромонах не выражал. Однако через несколько дней после приезда о. Илиодор уже жаловался: «Видите, как я живу, в какой келье!», сознаваясь, что «возроптал», но затем смирился. Вскоре келейник уже пугал илиодоровцев рассказом о «темной и сырой келье». Наконец, в мемуарах Труфанова «уютная келейка» превратилась в «маленькую сырую комнатку с гнилыми полами, с развалившейся печкой и с прочными железными решетками в очень узеньких окнах»[26].
Келья была вскоре обустроена о. Илиодором по его вкусу. Окна закрыты войлоком, вероятно, для маскировки тюремных решеток. Кроме того, о. Илиодор заменил кровать и матрац двумя досками, положенными на табуреты, поскольку в Царицыне привык спать на сосновой скамье. Позже это аскетическое ложе украсилось «прекрасным одеялом», присланным узнику П.А. Бадмаевым от имени некого члена Государственной думы[27].
Отказ о. Илиодора от кровати был сочтен демонстрацией. «Биржевые ведомости» писали, будто он жаловался на жесткую постель: «Смотрите, как меня гонят», – приказав принести два мешка с сеном. Для расследования вопроса о кровати был командирован член консистории протоиерей Алексий Беляев. Ввиду присутствия некоего «постороннего лица» о. Илиодор предпочёл дать письменный ответ: «Досточтимый о. протоиерей, не соблазняйтесь и пусть владыка не соблазняется относительно моей постели. Ради выяснения истины заявляю вам, что я уже четвертый год сплю на голых досках». Затем в письме И.А. Родионову иеромонах еще раз опроверг газетное сообщение из «области нечестивых легенд», указывая, что избрал жесткую постель «совершенно добровольно, а для чего – это никому не нужно знать». Наконец и сам репортер, на которого ссылалась «Биржевка», объявил, что «мешков с сеном в келии не было, а постелью иноку служили две положенные на табуретки доски, покрытые простыней и байковым одеялом. … Что касается обстановки, то в келье кроме постели, было два стола, несколько табуреток и аналой, более же по размерам кельи ничего не могло поместиться и следовательно не было вынесено»[28].
Как уже говорилось, за стеной кельи о. Илиодора находилась охрана. Еще за неделю до его приезда в этой импровизированной караульной поселились три агента полиции. С водворением узника их число выросло до четырех, а вся Флорищева пустынь стала буквально кишеть представителями общей и жандармской полиции.«В соседних кельях разместились сыщики, на дворе сыщики, у святых ворот вооруженные стражники, в гостинице полковники и пристава», – писал о. Илиодор[29].
Как показал первый день, полиция не спускала глаз с бедного иеромонаха. «…я шага не могу ступить без того, чтобы за мной не пошла орава стражников», – жаловался он[30]. Один из них, Яков Набатов, вел даже дневник о жизни о. Илиодора.
Выходить за ворота узнику не дозволялось. По этой причине о. Илиодор за весь срок своего заключения ни разу не смог посетить баню, располагавшуюся за монастырской стеной.
Узнику было запрещено принимать посетителей в своей келье. Свидания с мирянами дозволялись только в монастырской трапезной, в присутствии старшей братии, причем с разрешения настоятеля. Корреспонденцию и телеграммы полагалось отправлять лишь с ведома настоятеля.
Кроме полиции, за о. Илиодором следила и братия во главе с настоятелем. Насельникам, командировавшимся для присутствия при свиданиях узника с посетителями, прямо вменялось в обязанность доносить об услышанном. На собранных сведений и личных наблюдений архимандрит потом строчил рапорты.
Словом, для о. Илиодора был установлен тюремный режим. «Я думал, – говорил иеромонах посетившему его Н.А. Чернышеву, – что тут я Богу молиться буду, что успокою мою грешную душу, что тут обитель святая, а здесь острог, вместо братии вооруженные стражники». Себя о. Илиодор сравнивал с «колодником или каторжником», жизнь за стенами монастыря именовал «волей», обитель потом назовет «Флорищевой темницей» или просто «тюрьмой», а о своем отъезде из нее выразится так: «Когда я освободился из пустыни…»[31].
Бросалось в глаза несоответствие между этим режимом и официальным решением Св. Синода о всего лишь переводе иеромонаха в другую епархию. «В указе-то я назначен сюда в число братии, а привезли меня хуже арестанта: сыщики, стражники...». О. Илиодор жаловался настоятелю на министра внутренних дел, обещавшего обойтись без полицейского надзора:«До чего могут дойти дела государственного правления при подобных больших людях, которые не сдерживают своего слова»[32].
Не помышляя в те дни о побеге, узник недоумевал о причинах столь строгих мер. «И чего следят! Явился я добровольно и никуда не уйду»[33].
Из всего вышеизложенного понятно, что обстановка, окружившая во Флорищах о. Илиодора, не благоприятствовала его духовной жизни. Со стороны могло показаться, что он как монах попал на своё место. Он и сам поначалу так думал, но быстро разочаровался. Кроме того, следует иметь в виду, что о. Илиодор – представитель учёного монашества, а не монастырского, и что значительную часть его служения составляла пастырская работа. Недаром он в сердцах крикнул одному из своих посетителей: «Я не монах! Я – пастырь, вот я кто!»[34].
Опасаясь еще худшего, чем ограничение свободы, узник неизменно оставлял в своей келье кого-нибудь на ночлег – сначала брата, затем келейника, вопреки прямому запрету начальства[35].
На другой день после приезда о. Илиодор послал Бадмаеву оптимистическую телеграмму: «Дорогой Петр Александрович. Доехал благополучно. Проживаю хорошо. Все просимые подробности посылаю с братом. Он едет сегодня. Прошу вас напечатать мои описания в газетах. Молюсь. Ожидаю Царской милости. Надеюсь на Бога и на своих горячих друзей. Любящий иеромонах Илиодор». В обещанном письме он отметил: «Мне здесь жить хорошо»[36].
Тем же оптимизмом дышали первые, февральские, газетные сообщения об узнике: он «держится бодро, почти весело», «свыкся с обстановкой и проявляет удивительную жизнерадостность»[37].
Даже изобилие стражи и сыщиков сначала забавляло о. Илиодора: «Все это для меня одно развлечение». Глядя на свою охрану, узник однажды в шутку заметил, что пусть, мол, его друг Родионов приезжает «во всем вооружении и непременно с пикой и шашкой»: «Тогда померяемся силами»[38].
Благодушие о. Илиодора во многом объясняется его надеждами на предстоящее помилование. «Но я верю, – писал он Бадмаеву, – что пройдет немного времени, и я по воле Божией и воле Царской буду отдан своим детям и царицынский муравейник православия опять будет процветать во славу Божию. … Верю, радуюсь и ожидаю Царской милости возлюбленным моим царицынским духовным детям»[39]. То же самое он говорил репортерам.
Шансы казались высоки. Еще в конце января один из братьев Труфановых, получив будто бы телеграмму из Петербурга, заявил, что не пройдет и трех недель, как о. Илиодор вернётся в Царицын. Илиодоровцы называли даже конкретную дату – 17 февраля, трехсотлетняя годовщина кончины патриарха Гермогена, когда так естественно было бы вспомнить о тезоименитом ему ссыльном архипастыре, а заодно и о его протеже.
Сам о. Илиодор придерживался более умеренного прогноза – «опала с него и епископа Гермогена будет снята через полтора, самое большее два месяца»[40]. Сказано это было 2 февраля, и речь, несомненно, шла о Пасхе, совпавшей в том году с Благовещением (25 марта). В беседе с Р. Карцевым о. Илиодор уточнил, что ждёт освобождения «к Святой неделе», т.е. Светлой[41]. Надежда была так сильна, что он даже беспокоился о предстоящем путешествии:
«– А тепло на дворе?
– Ясно, тает. Совсем весна.
Он оживился.
– К половине марта, значит, дороги совсем испортятся. Как же я тогда поеду отсюда?
От радостного возбуждения он даже с кровати встал, и лицо его просветлело. Он был уверен, что к половине марта все будет решено и он вернется в Царицын»[42].
Слухи о предстоящем на Пасху помиловании обоих ссыльных лиц передавали и газеты.
Надеждами о. Илиодор щедро делился с паствой, обещая ей в письмах и телеграммах свое скорое возвращение, а также посрамление врагов православия.
В ожидании скорого освобождения о. Илиодор сидел тихо, воздерживаясь от обычной шумихи. В первом рапорте архиеп. Николай свидетельствовал о примерном послушании и истинно монашеской скромности узника[43].
Свое духовное настроение тех дней о. Илиодор выразил в следующих словах: «Испытание нужно переносить со смирением. Испытание укрепляет нашу душу, его надо встречать с радостью»[44].
Даже ненависть к Распутину на время ослабла в душе узника, и он начал молиться за врага.
Это был уже не тот о. Илиодор, который только на днях рвался в Царицын, чтобы «засесть с народом в монастыре». О своем дерзком плане узник вспоминал с ужасом: «Я даже рад, что не попал теперь в Царицын. Бог знает, что могло бы случиться»; «Я очень рад теперь, что указ о моем заточении застал меня не в Царицыне. Что бы было там, – Господи Боже!»[45].
Кроме того, о. Илиодор пересмотрел свои взгляды на политическую деятельность духовенства, которую раньше неизменно отстаивал: «Если меня вернут в Царицын, я буду только паству свою в вере наставлять. Больше ничего. Политику брошу»[46].
Как пастырь о. Илиодор скорбел о своём монастыре и его богомольцах. О Царицыне узник отзывался «с большой грустью, боясь, что его паства разбредется»[47].
Очевидно, о. Илиодор был осведомлён о январских событиях в его монастыре – закрытии входа для мирян и назначении заведующим обителью о. А. Строкова, «которого Гермоген всегда звал Макбетом». «…Вопли моих возлюбленных духовных детей, от которых меня так немилосердно, жестоко оторвали, тревожат душу мою», – писал иеромонах[48].
Отныне он был обречён бессильно наблюдать, как его преемники разрушают его дело. «Жаль мне Царицына! – говорил о. Илиодор. – Из ничего я создал многое. … Обидно, что все это, созданное с большим трудом, рушится. Не ведают, что творят. Но я не представляю себе, что будет без меня и где они найдут другого Илиодора?»[49].
С горя узник отважился обратиться напрямую к новому саратовскому епископу, преосв. Алексию, с телеграммой, в которой просил сохранить царицынский «муравейник» и ходатайствовать о возвращении иеромонаха в Царицын. «К делу», – начертал преосвященный на этой мольбе[50].
Поначалу настоятель предполагал дать о. Илиодору послушание чтеца. Но, отказавшись выходить из кельи, узник тем самым уклонился и от всех обязанностей по обители. Никаких послушаний он так и не нёс до конца своего заточения.
«Здесь я отдыхаю, – говорил о. Илиодор. – Забот у меня нет. Не то, что в Царицыне, где на моем попечении было 70 человек, которых надо было обуть, одеть и накормить»[51].
В письме Родионову, отметив, что «живет так хорошо, как никогда не жил», о. Илиодор подытожил: «Если только принимать во внимание временное, скоропреходящее, тленное, то Царицын для меня ссылка, каторга, а Флорищево отдых»[52].
Пищей, получаемой из монастырской трапезной, о. Илиодор был доволен: «Ем так роскошно, как никогда не ел в Царицыне»[53].
Живя на всём готовом, о. Илиодор, однако, нуждался в деньгах, которых у него никогда не водилось.
Правда, при нём оставались 400 руб., взятых им еще в декабре из кассы царицынского отдела «Братского союза» для приобретения типографии и теперь оказавшихся свободными ввиду полного крушения этого проекта. Однако щепетильному иеромонаху даже в голову не приходило посягнуть на деньги, которые он считал не своими. Сдав их на хранение настоятелю, он о них забыл: «Приехал я сюда, рубля не осталось в кармане. Думал – как буду жить?»[54].
Но царицынская паства не оставляла узника в беде и постоянно снабжала его средствами. «…Теперь с каждой почтой пятьдесят-семьдесят рублей присылают. Последние гроши...»[55]. Кроме денег, бывшие прихожане присылали и привозили ему одежду и разные гостинцы.
По-видимому, именно недостатком средств объясняется попытка Александра Труфанова по возвращении из Флорищевой пустыни забрать монастырских лошадей. Получив их когда-то в подарок от паствы, о. Илиодор вправе был считать их своими и теперь, вероятно, намеревался продать. Но полиция воспрепятствовала этой попытке.
Поначалу посетители отмечали, что узник «мало изменился, только немного похудел и глаза утратили свой блеск»[56].
Но затем начал сказываться недостаток движения, света и воздуха. Узник жаловался на полный упадок сил, на то, что «слаб» «телом»[57].
«Недавно брат приезжал ко мне, – вышел я погулять, чуть не помер! Такое сердцебиение!.. И ночью случается. Вскочу с кровати, встану спиной в угол, чтобы не упасть, и молю Бога, чтобы не умереть без покаяния»[58].
Слабость узника подтверждали и другие лица. Келейник утверждал, что о. Илиодор все время болен, ест лишь кусочек хлеба и огурец. В марте Кондурушкин, посетив узника, отмечал желтизну его лица.
Отказавшись от храмового богослужения, о. Илиодор попытался восполнить это лишение келейным правилом и аскезой. Одолжил у соседа требник. На аналое один из гостей углядел «большую церковную книгу»[59].
«День у него проходит в молитве, – писало «Новое время». – Он подвергает себя испытаниям и старается придать своему житью еще более тяжелые условия»[60]. Ради умерщвления плоти, узник, как уже говорилось, заменил свою кровать голыми досками.
Однако аскетические упражнения о. Илиодору теперь не давались. «Силы телесные настолько упали, что десять поклонов положу, и уже голова кружится», – сообщал он преосв. Гермогену 4 марта[61].
Поэтому досуг флорищевского узника мало-помалу перешел в сугубо светскую плоскость. «Старый Владимирец» сообщал, что о. Илиодор целыми днями читает и пишет[62].
Что же он читал? Сам он сообщал Бадмаеву, что «получает почти все столичные газеты»[63]. Читал, кроме того, московские и царицынские. Упоминал, например, о левом «Раннем утре», об октябристском «Голосе Москвы».
Кроме газет, о. Илиодор читал «массу писем», приходившую на его имя, и «охотно» отвечал. «Вот, смотрите, письма пишут, жалуются, плачут, деньги шлют»[64].
Но главным направлением его работы был не эпистолярный жанр. В первые же недели своего заточения о. Илиодор стал писать книгу о Григории Распутине. Ее замысел был подсказан запиской, наспех набросанной в бадмаевском доме. Уже родилось и название – «Святой черт». Очевидно, флорищевские наброски затем легли в основу знаменитого памфлета.
По-видимому, о. Илиодор подумывал также написать мемуары: он говорил Кондурушкину о другой своей книге и спрашивал, можно ли собрать все газетные статьи о себе за прежнее время.
Если верить журналу «Рампа», иеромонах не гнушался и художественным словом: во время заключения он написал пьесу «В весеннем саду» на сюжет из монастырской жизни, «в спокойных элегических тонах»[65].
С архиепископом Николаем (Налимовым), в чье ведение поступил теперь о. Илиодор, его отношения сразу же не сложились. Труфанов уверял, что почва была создана завистью робкого архиерея, «сбежавшего с Кавказа во время революции», к яркому проповеднику: «Не переваривал моей деятельной натуры». Кроме того, оказалось, что в 1908 г. преосв. Гермоген выступил против назначения брата архиеп. Николая, протоиерея Тимофея Налимова, ректором Санкт-Петербургской духовной академии[66].
Познакомившись, преосв. Николай и о. Илиодор быстро невзлюбили друг друга.
Личность своего последнего архиерея Труфанов описывал с присущей ему злобой: «Епископ Николай – человек больной, невменяемый, подвержен пьянственному пороку»[67].
В свою очередь, преосв. Николай дал весьма схожую характеристику самому о. Илиодору, доложив Синоду, что иеромонах не вполне здоров и его нервная система требует продолжительного лечения.
Уже первые шаги преосв. Николая показали, что он не намерен церемониться со своим знаменитым узником. «Он начал преследовать меня прежде, чем я успел дать ему какой-либо повод к этому», – жаловался Труфанов. Действительно, первый рапорт преосв. Николая об о. Илиодоре не содержит ничего предосудительного[68].
По-видимому, именно архиерею о. Илиодор был обязан установленным для него с первых же дней тюремным режимом.
По водворении иеромонаха во «Флорищевой темнице» преосв. Николай предъявил ему неудобный вопрос о том, где о. Илиодор прятался перед отъездом в ссылку, «и о роде занятий в это время»[69]. Разумеется, узник, изо всех сил поддерживавший в те дни легенду о своем пешем паломничестве, не смог дать вразумительного ответа.
Окружив о. Илиодора чрезмерными стеснениями, преосв. Николай попытался дотянуться даже до его брата Аполлона, для чего попросил Синод через ректора Санкт-Петербургской духовной академии сократить число отпусков, дававшихся для поездок во Флорищеву пустынь.
Притеснения со стороны архиерея продолжались до конца пребывания узника в пустыни. В эти месяцы о. Илиодор обвинял архиеп. Николая в «крайне неотеческом и даже не христианском», а затем и «подлом» отношении к себе[70].
Не удалось о. Илиодору найти общего языка и с архимандритом Макарием, в чьё непосредственное ведение поступил узник.
«Седой сухощавый старичок», обремененный «ревматизмишкой», был «в отчаянии»[71] от свалившейся на него напасти. «Помру скоро я с о. Илиодором, – жаловался о. Макарий. – От начальства указ за указом, а он не повинуется... Лично я ему от души сочувствую, как перед Богом, по искренности говорю вам, сочувствую. Конечно, трудно ему. … Только губит он себя непокорством, губит...»[72].
Однако о. Илиодор не заметил никакого сочувствия, характеризуя отношение к себе настоятеля как «чисто формальное, чиновничье, но никак не монашеское»[73].
В свою очередь, сам иеромонах относился к настоятелю «укорительно и с небрежением». «Не отдавая ему должного почтения, позволял даже лежа его принимать в своей келии, – сетовал архиеп. Николай, – в разговорах с ним проявлял резкую настойчивость в своих незаконных требованиях – раздраженным повышенным голосом»[74]. Впрочем, принимать лёжа – это еще полбеды. Зачастую о. Илиодор вовсе отказывался принимать о. Макария, не пуская его в свою келью.
Братия Флорищевой пустыни приняла о. Илиодора «не особенно благожелательно»[75] ввиду водворившегося с его приездом строгого режима.
«И вот теперь их довольная тихая жизнь нарушена, – сообщалось в вышеупомянутом анонимном письме. – Привезли опального администрация. Полиция. Паломники – высокие. Пришлось подтянуться. Днём не пойдешь на скотный двор и к себе не пустишь»[76].
Коротко указав на «совсем не монашескую» жизнь братии, о. Илиодор заметил: «Теперь все стало строго, и я боюсь, что это вызовет озлобление против меня»[77].
Флорищевские монахи избегали о. Илиодора, равно как и он их. Всем, кроме старшей братии, общение с о. Илиодором было воспрещено. «В монастыре братия от меня разбегается, – писал он. – Архиеп. Николай запретил им беседовать со мной, чтобы я их не развратил. Строгую бумагу прислал архимандриту насчет этого»[78]. Впрочем, в свете настойчивых слухов о неблагоповедении флорищевской братии, скорее следовало бы опасаться обратного влияния.
Что до о. Илиодора, то он сторонился новых собратьев из страха за свою жизнь, боясь, что среди озлобленной на него братии «найдется подкупленный предатель»[79].
Раз «Биржевые ведомости» сообщили о попрёках, которыми изводил о. Илиодор настоятеля и братию, причём одному монаху будто бы кричал следующее: «В моих ногах, говорит он, валялись генералы и сановники. Меня боялись враги. Передо мной трепетали министры. А вы смеете мне прекословить и хотите, чтобы я подчинился вашим распоряжениям. Вот скоро решится моя участь. Я сгонял с мест разных сановников, – найду и на вас управу. Всех вас разнесу и камня на камне не останется»[80].
О. Илиодор был изумлен этой заметкой: «Ну за что, за что на меня так клевещут! Я ничего подобного не только не говорил, но даже и не думал». В доказательство он отметил, что не видится ни с кем из братии, кроме духовника и келейника[81].
Духовника о. Илиодор избрал себе сам, «самовольно», как подчеркивал преосв. Николай. Этот «высокий, старый и робкий человек с проеденными на монастырском хлебе зубами и жидкими косичками волос, выбивающихся из-под черного клобука», «глухой», «как тетерев», отличался простотой и наивностью, чем, вероятно, и привлек симпатии узника: «игумна выбрал себе в духовники, игумен ему понравился, так пусть, говорит, игумен ко мне и ходит». Впрочем, преосвященный характеризует его как «иеромонаха с небезупречным прошлым»[82].
Со своей стороны, настоятель возложил на избранника о. Илиодора деликатное послушание – присутствовать при его свиданиях с посетителями. Благодаря этому обстоятельству имя духовника фигурирует в многочисленных донесениях о. Макария начальству. Звали этого игумена о. Иоанникий.
Роли соглядатаев исполняли и другие насельники Флорищевой пустыни. На этом поприще особенно преуспел келиарх иеромонах Авраамий, обладавший несомненным талантом к полицейской деятельности. О. Авраамий искусно собирал сведения об узнике, подслушивая его разговоры, расспрашивая приезжих из Царицына и даже выклянчивая у них всякую всячину, казавшуюся ему уликой, будь то фотографический снимок или книга с песнопениями.
С обычной меткостью о. Илиодор характеризовал келиарха так: «Авраамий не священное лицо, а полицейский», а тот жаловался, что «столько принял оскорблений от о. Илиодора, что становится не в силу все это переносить»[83].
Праздник Сретения ознаменовался для узника следующим событием. Келейник принёс карточку от некоего нижегородского газетного сотрудника, члена «Союза русского народа», с просьбой о встрече. О. Илиодор согласился.
Вскоре в келью вошел седобородый странник в долгополом кафтане и валенках, с сумой за плечами. Под этим костюмом скрывался интеллигентный молодой человек, а в суме лежал фотографический аппарат. Так о. Илиодор познакомился с Б.М. Ржевским.
Гостю без труда удалось войти в доверие к узнику, оторванному от друзей и нуждавшемуся в сочувствии. Видимое благочестие – Ржевский подошел под благословение даже к о. Иакову, случайно заглянувшему в келью, – монархические убеждения, ссылка на дорогой сердцу о. Илиодора Нижний Новгород – все говорило в пользу посетителя. Роднил собеседников и дух авантюризма.
Беседа продолжалась два часа. Иеромонах доверчиво рассказывал о своей жизни в заточении, о надеждах и опасениях, о единственном, как ему казалось, виновнике своей ссылки – Григории, об «энергичных мерах», которые надлежит принять против последнего, и т.д. Позже о. Илиодор уверял, что на вопрос гостя, что из сказанного можно напечатать, ответил: «Ничего!»[84]. Но такая наивность чрезмерна даже по его меркам. Не из сострадания же к незнакомому человеку репортер проник к нему, предприняв столь героические усилия. О. Илиодор не мог не понимать, что говорит для печати, и пользовался этим.
В конце беседы Ржевский с разрешения хозяина сделал фотографический снимок. О. Илиодор позировал в профиль, сидя у стола.
Простившись с узником, разохотившийся репортер продолжил фотосъемку в монастырском дворе под самым носом у стражников и городовых. Ошеломлённые видом странника с фотографическим аппаратом в руках, полицейские чины задали необыкновенному гостю ряд вопросов, но воспрепятствовать съемке не решились.
Окончив дело, Ржевский не отказал себе в удовольствии похвастаться гороховецкому исправнику тем, как ловко одурачил полицию.
– Это, значит, вы все и в газетах напишете? – растерянно спросил тот.
– Уже телеграмма послана[85].
Телеграмма и напечатанная на следующий день беседа стали сенсацией. Талантливые московские репортёры, гнавшиеся за о. Илиодором по пятам от Москвы до Флорищ, не сумели перемолвиться с ним даже словечком. А тут двухчасовая беседа!
Проникший к узнику как единомышленник, Ржевский, однако, в своей статье не удержался от ироничного замечания: «Беседа наша длилась два часа и является характерной для Илиодора, наивно полагающего, что он выполняет большую политическую миссию и поэтому пал жертвой сложной интриги»[86].
Вскоре в «Биржевых ведомостях» за подписью «В. Б-ий» появилась заметка по мотивам той же беседы, приукрашенная анекдотами. Сообщалось, в частности, будто о. Илиодор демонстративно приказал унести кровать и заменить ее двумя мешками с сеном, прибавив: «Смотрите, как меня гонят».
Почувствовав себя обманутым, иеромонах через Родионова опроверг эту публикацию[87].
Ржевский поспешил откреститься от второй статьи и от опубликовавшего ее органа: «Сотрудником еврейских газет вроде "Биржевых ведомостей" я никогда не был и не буду». Объяснив недостоверность анекдота о вынесенной кровати, репортер объявил все напечатанное о его беседе с узником «сплошной ложью». Свидетельствуя о. Илиодору свое «полное уважение как к искреннему ревнителю веры православной», Ржевский принёс ему извинение за то, что невольно дал повод «еврейской печати обливать его клеветой». В заключение указал свой адрес для «г. В. Б-ого», как бы приглашая его секундантов[88].
На следующий день был опубликован ответ «В.Б-ого»: «"Моя заметка о житии о. Илиодора в Флорищевой пустыни была основана на непосредственных сообщениях лиц, проживающих в той же самой пустыни вместе с о. Илиодором. При таких условиях отвечать на личный выпад г. Ржевского против меня считаю совершенно бесполезным»[89].
Таким образом, были приложены все усилия к разграничению Б. Ржевского и В.Б-ого и восстановлению репутации первого из них как патриота. Однако вопрос о том, не одно ли это лицо, остаётся открытым. После трюка с гримировкой вполне можно было ожидать от Ржевского газетной полемики с самим собой, по примеру его знаменитого собрата Баяна (И.И. Колышко).
Впоследствии Труфанов утверждал, что за визитом репортера стоял нижегородский губернатор А.Н. Хвостов: «Когда я был в тюрьме, губернатор послал его ко мне, чтобы узнать, в чем причины моей ссоры с царем»[90]. Возможно, это объяснение родилось после следующей их встречи, в 1916 г., когда Ржевский действительно прибыл к Труфанову по поручению Хвостова, тогда министра внутренних дел. Не исключено, впрочем, что экстравагантное вторжение репортера в тщательно охраняемый монастырь имело под собой более серьезную подоплеку, чем погоня за сенсационным материалом.
В первые дни по приезде о. Илиодор пытался разными способами добиться снятия охраны. Помимо упомянутого ультиматума – отказа посещать храм – он просил также своих друзей похлопотать в Петербурге. В письме Бадмаеву, предназначенном на самом деле для публикации, иеромонах остроумно повествовал:
«Все это для меня одно развлечение, но братия, отцы-пустынники, недоумевающе размышляют, как это их святая обитель мгновенно обратилась в острог. Смущение смиренных пустынников смущает меня. Успокаиваю себя тем, что я в этом менее всех виноват. Отец архимандрит в отчаянии. Я утешаю его, уверяю, что я слова здесь не произнесу, пальцем никого не трону. Я всей честной православной России даю торжественное слово, что я беззаконно Флорищеву пустынь не покину, а вы, друзья, похлопочите, чтобы смиренных отцов-пустынников не мучали, чтобы сняли в обители военное положение. Ради Господа похлопочите»[91].
Вняв этой просьбе, Бадмаев обратился к товарищу министра внутренних дел И.М. Золотареву. На короткий период охрана была снята, четыре сыщика-соседа покинули обитель, а о. Илиодор получил позволение принимать посетителей в своей келье. «Теперь же к нему вход разрешен, и иеромонах охотно принимает паломников, с которыми подолгу обо всем беседует», – отмечало «Новое время»[92].
Сам же он предпочел оставаться в затворе – во-первых, по болезни, а во-вторых, прячась от нескромных взглядов: «Многих любопытных стесняюсь»[93].
Свободным человеком о. Илиодор прожил всего несколько дней. В начале февраля, узнав о выходке Ржевского, власти поспешили вернуть прежний режим в несколько изменённой форме. У ворот вновь появилась стража. Узнику было запрещено получать газеты. Наконец, свидания допускались, как и в начале, только в трапезной под наблюдением старшей братии, которой предписывалось доносить о содержании разговоров.
Поначалу о. Илиодор лишь посмеялся над этим распоряжением: «Хорошо, я пойду, только чтобы монах далеко сидел»[94]. Но затем стало не до шуток. Иеромонах наотрез отказался принимать посетителей по указанному порядку, ссылаясь на болезнь, препятствующую ему ходить в трапезную.
«А о. архимандрит не верит, что я болен и не могу выходить, – с детским лукавством улыбнулся Илиодор. – А я очень больной!..»[95].
Болезнь болезнью, но острота вопроса заключалась не в месте свиданий, а в наблюдении за ними. О. Илиодор не терпел присутствия посторонних лиц при своих разговорах, где бы они ни происходили. «…декорации из старшей братии он не желает видеть даже у себя в келье; его возмущает это и возбуждает нервы»[96].
Распоряжения начальства иеромонах саботировал в присущей ему манере – принимал кого хотел и как хотел, выпроваживая являвшихся наблюдателей и запирая дверь изнутри на крючок. Преосв. Николай уверял, что о. Илиодор при этом угрожал «разнести всю обитель»[97]. Но вот свидетельство С. Кондурушкина о том, как узник весьма почтительно упрашивал игумена не дежурить в сенях: «Ну, как же мы можем разговаривать, когда почтенный, старый человек будет за дверью стоять?! Идите, доложите о. архимандриту, что все слава Богу! Я не убегу, и гость меня не унесет, бороды не приклеит... Пожалуйста, подите...»[98].
В другом случае, когда воронежец Р. Карцев привёз о. Илиодору гостинцы от преосв. Гермогена, то был сначала не впущен во двор. Затем о. Макарий, приняв гостя, разрешил ему пройти в келью иеромонаха на 15 мин., после чего наказал немедленно выехать на станцию. Однако соскучившийся по людям о. Илиодор продержал Карцева у себя целых три часа, настаивая, чтобы тот оставался, покуда полиция не вызовет.
«Помру скоро я с о. Илиодором, – жаловался о. Макарий. – От начальства указ за указом, а он не повинуется...»[99]. О неповиновении было доложено обер-прокурору В.К. Саблеру и затем Св. Синоду.
Таковы были условия, при которых о. Илиодор ввязался в большую политическую игру.
Провожая в ссылку как еп. Гермогена, так и о. Илиодора, Бадмаев принял меры против публичных разоблачений Григория с их стороны. «Перед отъездом, – писал лекарь, – я усиленно уговаривал их хранить молчание о г. Новом, говоря, что государю императору неизвестно ваше истинное побуждение, которым вы руководствовались при разговоре с г. Новым. Когда государь узнает правду, он сам разрешит вопросы, волнующие всех»[100].
Поначалу оба ссыльных лица последовали этому совету. Однако в феврале, когда пошли слухи о якобы задуманной Григорием газетной кампании, еп. Гермоген заявил, что в таком случае даст ответ – «выступит с серьезными данными, из которых будет видно, что преследует Распутин и кто он такой». Такое отступление от плана вызвало беспокойство о. Илиодора, который с оказией передал владыке просьбу «потерпеть, не волноваться и не писать никому о Гришке»[101].
В феврале газеты опубликовали несколько бесед своих сотрудников с Григорием, предоставив, таким образом, слово другой стороне. «Старец» отрицал приписываемую ему роль в деле еп. Гермогена и о. Илиодора. Затем сотрудники обратились к Бадмаеву, прося прокомментировать эти беседы. Он начал тянуть время, опасаясь лишнего шума.
Тем не менее, Бадмаев сознавал, что комментарий может последовать от самих еп. Гермогена и о. Илиодора. Поэтому лекарь, наконец, решился выступить в защиту опальных лиц и 17 февраля отправил Государю письмо, заготовленное, судя по его тексту, еще в январе. В этом письме Бадмаев изложил весьма идеализированную версию событий, произошедших 16 декабря 1911 г. на Ярославском подворье, когда «епископ Гермоген и иеромонах Илиодор —фанатики веры, глубоко преданные царю, – нашли нужным мирно уговорить г. Нового не посещать царствующий дом».
Письмо заканчивалось туманным намёком о возможности безболезненной ликвидации «всего этого дела», очевидно, руками автора, вновь пожелавшего предложить властям свои услуги...
Надежды о.Илиодора подкрепил необычный сон, которому он, по своей привычке, придал огромное значение.
«Видел я, будто мы с владыкой Гермогеном идем вслед за возом. Воз полный. Владыка за кучера. А я иду за ним. На одной руке у меня филин сидит, ногами царапается и клювом ущемить меня хочет. Да клюв-то у него на самом конце костяным шариком сросся. Подошли мы к крутому оврагу. Прямо ехать круто, а в объезд виднеется отлогий путь. Хотели было в объезд, да решили прямо ехать. Уж почти совсем овраг переехали, на изволоке встала лошадь. Я свободной рукой хотел подсобить, подтолкнуть воз, а воз уж выехал. На берегу царь стоит, встречает. Говорит владыке: "А я тебя уж давно жду!". Оглянулись мы, а на объездной-то дороге трясина; кабы поехали в обход, потонули бы. На руке у меня филин все сидит. Хочу его зарезать, ножичек складной открываю свободной рукой, да туго сложен, не открыть. В это время филин огадил меня, вспорхнул и улетел, зашуршал крыльями в лесной чаще... Пропал. Вот я и толкую этот сон, что все окончится для нас с владыкой благополучно».
Что до филина, то о. Илиодор находил в его образе портретное сходство с фотографической карточкой Григория, снятого в монашеском одеянии. «Глянул, и чуть в обморок не упал. Филин, настоящий мой филин, какой у меня во сне на руке сидел. Господи Боже! Даже страшно стало!..»[102].
В дополнение к январской записке о. Илиодор понемногу пересылал Бадмаеву разные свои воспоминания о Григории и его кружке. В то время как весь Петербург имел копии этой записки, у автора не осталось даже черновика, поэтому он путался и местами повторялся. Дополнения, в отличие от январского текста, не соблюдали хронологический порядок и представляли собой обрывочные сведения, более или менее скандальные и весьма сомнительные, в основном – малоправдоподобные россказни, будто бы услышанные от Григория.
Александр Труфанов, которому брат ранее велел привезти письма Царской семьи, адресованные Григорию, добрался до Флорищ не без приключений. Получив отпуск еще 24 января, он откладывал отъезд, вероятно, в ожидании, пока местопребывание брата определится. Когда же, наконец, 2 февраля Александр попытался покинуть город, то был задержан железнодорожными жандармами.
По распоряжению начальника Саратовского губернского жандармского управления, датированному еще 30 января, в случае отъезда из Царицына Труфанов-младший подлежал обыску на вокзале с отобранием переписки и препровождением ее лично полк. Семигановскому[103]. По-видимому, последний получил сведения, что гонец везёт важные бумаги.
Однако Александра было не так просто взять с поличным, и в конфискованном жандармами архиве из 59 писем, 38 открыток и двух черновиков всеподданнейших телеграмм не оказалось искомых писем. Их он повёз брату, а остальной архив остался полк. Семигановскому.
Во Флорищевой пустыни Александр прожил, вероятно, пару недель. «Он ухаживает за иеромонахом и печется о нем», – отмечало в те дни «Новое время»[104]. В сопровождении брата о. Илиодор отважился даже выйти погулять во двор.
Таким образом, за короткий период во Флорищах появилось поочередно двое Труфановых, не считая самого узника. В представлении преосв. Николая два гостя, по-видимому, слились в одно лицо, вследствие чего он попросил пореже отпускать студента Труфанова из Санкт-Петербургской духовной академии.
Погостив у брата, Александр к концу февраля вернулся в Царицын. А 26 февраля газеты уже сообщают о его попытке увести монастырских лошадей[105]. Затем, по словам Труфанова-старшего, его брата постигло наказание: «За визит ко мне его немедленно без суда лишили места псаломщика и отдали в солдаты…»[106].
Получив письма, о. Илиодор поспешил собственноручно переписать их «даже со всеми ошибками». «…копии сии мною сняты 1912 года, февраля 8 дня в кельи Флорищевой Пустыни, Гороховецкого уезда, Владимирской губернии»[107].
Внимательно изучив эти документы, о. Илиодор убедился, что они вовсе не так значительны, как ему раньше казалось. Теперь был вынужден признать: «Письма эти, мне кажется, сами по себе ничего особенного не представляют». Однако сам факт знакомства Царской семьи с Григорием казался иеромонаху предосудительным: «когда примешь во внимание, кому, какому нераскаянному развратнику они написаны, то кожу морозом дерет и страшно становится за алтарь русского народа – за царскую благословенную семью. Ведь она – наша святыня драгоценная! И смотришь, какой опасности она подвергается, а вместе с нею и все наше государство»[108].
За письмами во Флорищеву пустынь явились трое: старый знакомый о. Илиодора ковенский союзник Г.К. Гнатовский, госпожа А.П. Коробович из Вильны, а также некий Николай.
Первых двоих Труфанов называет посланниками то преосв. Гермогена, то Родионова. Действительно, принадлежность к Западному краю роднит обоих посетителей со ссыльным епископом. «Я не знаю, для чего он их у меня потребовал», – писал о. Илиодор[109]. Впрочем, еп. Гермоген, несомненно, лучше распорядился бы этими документами, чем его бывший протеже.
Министр внутренних дел А.А. Макаров со слов г-жи Коробович объяснял доверение ей писем иначе – узник опасался, что их могут отобрать при обыске. Да и сам о. Илиодор упоминал, между прочим, что в момент передачи документов его «слишком торопили, пугали обыском и прочими страхами»[110].
Что до Родионова, то связь посланников с ним подтверждало его письмо о. Илиодору, привезенное Гнатовским.
Третий гость, Николай, был прислан Бадмаевым.
По словам Труфанова, все трое приехали «в один час». Последовала сложная процедура: «Я передал подлинники писем Родионову через Гнатовского, а Коробович Гнатовскому и послу Бадмаева вручил[а?] копии этих писем». Позже оказалось, что Николай не получил даже копий, которые о. Илиодор якобы «в суматохе» забыл вложить в конверт. Исправляя свою оплошность, иеромонах с самыми наивными интонациями сообщил Бадмаеву: «Если копиями не удовлетворитесь, то я думаю, что очень скоро получите от владыки оригиналы. … Но я полагаю, что для нашего дела достаточно иметь только одни копии»[111].
Причины этих пертурбаций знал, наверное, только сам о. Илиодор: то ли он потерял доверие к тибетскому приятелю, ссылаясь на владыку для правдоподобия, то ли решил для подстраховки задействовать второй канал пересылки.
Первый комплект при помощи члена Г. Думы Замысловского и «одного казачьего офицера» – очевидно, Родионова, – был передан Макарову, причём инициатива передачи принадлежала последнему. Министр отдал эти письма Государю при очередном докладе.
Второй же комплект Бадмаев отдал общественным деятелям из Г. Думы, от которых письма пошли гулять по рукам, породив огромный соблазн и как будто подтверждая гнусные сплетни о Государыне.
На основании полученных от о. Илиодора материалов, а также собственных сведений Бадмаев составил для председателя Г.Думы Родзянко проект доклада «правительству и выше». «Сведения о Грише знакомят нас с положением Григория Ефимовича в высоких сферах», – так начинался этот документ, отсылая к заголовку илиодоровского сочинения – «Гриша». По-видимому, проект составлялся как пояснительная записка к нему. В значительной степени Бадмаев позаимствовал аргументацию о. Илиодора, и даже настойчиво употребляемый тибетским врачом термин «святая святых» применительно к царствующему дому отсылает к процитированному выше замечанию иеромонаха о «святыне драгоценной»[112].
Основываясь на материалах Бадмаева, Родионова и других лиц, председатель Г. Думы 26 февраля сделал Государю устный доклад о Григории, не имевший, впрочем, особого успеха. Узнав об этой попытке, преосв. Гермоген через Родионова передал Родзянко своё благословение.
Когда первые, идиллические, недели затвора минули, душевное состояние о. Илиодора переменилось к худшему. Один из посетителей описывал его так: «озлобленный, больной и одинокий»[113].
Привыкший к толпе, о. Илиодор тяжело переносил одиночество и так и не сумел войти в роль затворника. «Вижу, батюшке трудно быть одному без почитателей, он волнуется, возмущается», – отмечал его гость[114].
Не менее трудным оказалось после бурной царицынской деятельности вынужденное безделье. Узник негодовал, что «сидит без дела». «Дали, говорит, мне размахнуться вон как широко, допустили, говорит, а теперь заперли"...», – так жаловался о. Илиодор своему флорищевскому духовнику[115].
«Этого своеобразного "Прометея" приковывают вдруг к скале, – писал один из журналистов, посетивших Флорищеву пустынь. – Следят за каждым шагом, унижают обысками, лишают общения с людьми, ему приятными, не дают газет, к которым он привык. Даже затворившись в своей камере-келье, он не один: в окно смотрит чужой человек, ставший ненавистным. "Прометей" рвется, но цепи сильнее его»[116].
Соль, утратившая свою силу, проповедник, потерявший возможность проповедовать, теперь казался ни к чему не пригодным. Еще недавно легко преодолевавший пешком десятки верст во главе крестного хода, ныне о. Илиодор не имел сил даже выйти во двор.
Очень тяжело на флорищевском узнике отразилась разлука с его покровителем преосв. Гермогеном. По-видимому, им не удалось даже наладить регулярную переписку. «С Гермогеном Илиодор сношений не поддерживает и послал ему лишь телеграмму с извещением о прибытии в пустынь», – отмечал Ржевский в начале февраля[117]. Так, краткими телеграммами или письмами, переданными с оказией, шло отныне их общение.
Несмотря на расстояние, владыка, конечно, не забывал своего протеже. «Судьба иеромонаха Илиодора его немало волнует, – рассказывал Чернышёв, – и мы немало беседовали о нём. К нему владыка относится весьма любовно и верит, что в близком будущем иеромонаха Илиодора поймут лучше, а тогда мнения о его поступках значительно изменятся»[118].
В первые же дни заточения о. Илиодора владыка прислал ему письмо с просьбой не волноваться и всё упование возложить на Владычицу мира. Вскоре передал гостинцы, провизию, одежду и, на словах, – благословение. О. Илиодор передал ответ так же на словах, а 4 марта отправил с нарочным письмо, в котором сообщил еп. Гермогену, что «горюет»[119].
Сбылась надежда некоего преосвященного, в ноябре 1911 г. говорившего сотруднику «Речи»: «Иеромонах Илиодор нуждается в хорошем руководителе, и необходимо во что бы то ни стало разлучить его с преосвященным Гермогеном»[120].
Однако «хорошего руководителя» во Флорищах не нашлось. Новый духовник, по-видимому, не имел на о. Илиодора никакого влияния. Руководство явилось извне.
Во-первых, эту роль играла печать, в том числе левая. Впрочем, с 1 марта узнику было запрещено получать газеты.
Во-вторых, о. Илиодор читал фундаментальный труд немецких профессоров «Вселенная и человечество», второй том, доказывавший происхождение человека от обезьяны. 7 марта эту книгу видели раскрытой на странице с рисунком «Скелет старого гориллы, поставленный рядом со скелетом европейца». «Молюсь, читаю книгу "Вселенная и человечество"», – так узник описывал свой досуг в те дни[121].
Наконец, новые друзья, о которых будет сказано ниже, тоже оказывали свое влияние на иеромонаха.
Говоря об условиях своего содержания во Флорищевой пустыни, о. Илиодор употреблял весьма сильные выражения о «муках», принятых им и его паствой, о предании его «на истязание», об «издевательствах» и т.д. В ноябре договорился до следующего художественного описания своего полуареста: «Связали меня, заткнули мне рот, избили, изранили и бросили в темницу»[122].
Такие речи были, конечно, крайне несправедливы по отношению к флорищевской братии. Когда иеромонах написал настоятелю (25 апреля): «Целых три месяца меня немилосердно мучили», – тот в сердцах заметил: «Не его мучают, а он всех мучает»[123].
Однако терминология о. Илиодора любопытна тем, что раскрывает его внутреннее отношение к происходившему.
Узник утешался мыслью, что страдает за правое дело – обличение Распутина, а следовательно – «за честь царя-батюшки и за чистоту Невесты Христовой – Церкви Божьей», «за отечество, за честь Царя, за твердость Царского трона»[124].
«И в этом году, – писал о. Илиодор, – я с яростью восстал за честь Их [т.е. Императорской четы], ибо Священный Престол Их был для меня великой святыней, идеалом государственного устройства. Если я всегда готов был пролить за Них кровь свою, то как я мог умолчать, когда видел, что честь Их подвергается опасности. Только то печальное обстоятельство, что Они окружены людьми, не говорящими Им правды, клевещущими на меня и трепещущими пред Ними не из чувства благоговения, а из-за страха, как бы их неправда не открылась Им, – соделало меня преступником пред Ними. Я же свое "преступление" считаю подвигом»[125].
Однако противоречие между этим «подвигом» и отношением властей смущало о. Илиодора. «Те, во имя кого я пламенел, бросили меня сюда, как котенка», – негодовал он[126]. Он был оскорблен не только за себя, но и за «Великого епископа Гермогена». Их, «блюстителей чистоты и невинности Невесты Христовой», «изобличителей» Распутина, члены Синода «с ожесточенной злобой отдали на пропятие»[127]. Поставленная перед выбором между развратником и двумя великими подвижниками, высшая духовная власть предпочла первого. Приблизительно так видел положение флорищевский узник.
Таким образом, два главных авторитета о. Илиодора – православие в лице Синода и самодержавие – были поколеблены одним-единственным человеком. «На святыни мои Гришка наплевал, гад корявый!..» – восклицал иеромонах[128].
В конце февраля С.С. Кондурушкин, известный тогда писатель, выпустивший два тома «Сирийских рассказов», прислал иеромонаху письменную просьбу о встрече.
Очевидно, о. Илиодору польстил интерес такой важной особы к его персоне. Он был знаком только с одним писателем – И.А. Родионовым, который стал одним из его лучших друзей и написал о нем небольшую книжку. Пусть и этот пишет.
И изнывающий от одиночества о. Илиодор поспешил пригласить Кондурушкина во Флорищи. «Мне хотелось с вами по душе поговорить...», – обмолвился иеромонах[129].
Явившись в монастырь, писатель имел удовольствие испытать на себе новый режим свиданий, установленный для узника. Беседовать полагалось в трапезной при свидетелях. Однако о. Илиодор ловко уклонился и от трапезной, и от свидетелей в лице пожилого игумена, которого узник с чрезвычайной почтительностью убедил сначала остаться в коридоре, а затем и вовсе уйти из-под двери.
Поначалу гость разочаровал: молодой (всего на шесть лет старше), под благословение не подходит, вместо этого пожимает руку. Новый Ржевский?
«– Да уж со мной часто так бывало. Подойдут по-хорошему, а потом и насмеются... По-своему переиначат, выдумают...
– Но без взаимного доверия нам, может быть, не стоит и разговора начинать?
– Нет, нет!.. Простите, – сказал он, улыбнувшись неожиданно детской, застенчивой улыбкой. – Ничего, слава Богу!.. Это я так... по ошибке...».
Лед был сломан, и они быстро разговорились. Изголодавшийся по слушателям узник жаловался на притеснения, болезни, клевету левых газет и, конечно, на Григория, о котором поведал «много интересного».
Но разговор часто выходил из области насущных вопросов. Оказалось, что в заключении о. Илиодор задумался о своей политической деятельности: «Все-таки, объясните, почему же такая злоба на меня? Таким, как изобразила меня левая печать, я сам себе противен. Точно я разбойник или зверь какой кровожадный». В ответ собеседник уклончиво советовал «разобраться, вдуматься, – где же правда и где неправда!..».
Ультраправому монаху и левому писателю было о чем поспорить. Кондурушкин неизменно брал верх, а о. Илиодор путался, уступал, сознаваясь, что «слаб» в споре. Шаг за шагом писатель склонял собеседника на свою сторону. «Вот он медленно идет за вами мыслью по новой дороге, соглашается. "Да, да, это я понимаю, это правда". Вдруг попал на прежнюю, привычную тропу. И лицо его становится жестким, страдающим и непримиримым. "Евангелие... православие... самодержавие, народность"».
В целом оба собеседника остались довольны друг другом. О. Илиодор показался Кондурушкину «человеком искренними страстным в своей искренности». Узник, в свою очередь, проникся доверием к своему гостю. Так началась их долгая дружба.
Писатель прожил в монастыре три дня. Как и подобает паломнику, посетил два богослужения – как раз попал на Мариино стояние. Храм показался ему похожим на «гроб», в котором «закоченели на всю жизнь» монахи. Сравнительно с ними, «жуткой разноголосицей» распевавшими кондак Великого покаянного канона, о. Илиодор выглядел «современным». И это в устах Кондурушкина большой комплимент. «Какая радость! – восхищался писатель. – Живой! Один, среди мертвых...».
С этим «особо радостным, любовным чувством» он теперь думал об о. Илиодоре, продолжая посещать его и подталкивать по «новой дороге». В чём она заключалась, видно из осторожного вопроса Кондурушкина игумену: «А вы не слыхали, чтобы кто-нибудь из монашества уходил?». – «Есть такие, – был ответ. – Только уж потом плохо живут. Бог наказывает».
В свою очередь, о. Илиодор успел привыкнуть к писателю. Когда тот зашёл попрощаться, узник даже расстроился: «Уже уезжаете? Опять я один. Спаси вас Господи, навестили...». Приглашал в Царицын. Проводив Кондурушкина, казалось, «заплакал, утирая по-детски кулаками глаза».
По записям, сделанным во Флорищах, Кондурушкин опубликовал в «Речи» небольшую статью с характерным заголовком «Мятущийся Илиодор»[130]. Этому бесценному материалу изрядно навредила авторская подача. Кондурушкин многое додумал невпопад, неверно расставил приоритеты, слишком много писал о своих размышлениях и слишком мало о герое статьи. Однако она все-таки представляет огромный интерес, свидетельствуя о главном: к этому времени (7-9 марта) о. Илиодор усомнился в своих «святынях».
Связанный цензурными соображениями, Кондурушкин писал об этом уклончиво, но в личной переписке выразился точнее: «Илиодор, по-видимому, находится в состоянии большого раздумья и сомнений в той области, где он так недавно страстно веровал, и причиной этого, по-видимому, был Распутин. Этот, по его выражению,"корявый мужичишка гад" огадил в сознании Илиодора многие прежние святыни, за которых он как иерей ежедневно молился в ектениях...»[131].
Следует подчеркнуть, что в риторике о. Илиодора слово «святыни» означало «идеалы» и обычно подразумевало самодержавную власть. «В ектениях» поминали Царствующий дом и Св. Синод. Следовательно, речь не о сомнениях в вероучении.
Кондурушкин определил о. Илиодора как «человека верующего». «Я прежде всего верую в Евангелие. Верую, Господи, и исповедую... – перекрестился он на образ, приподнимясь с лежанки». «Жизнь по Евангелию – вот мой идеал, – говорил иеромонах. – Тому же и свою паству учил...».
В те самые дни, когда Кондурушкин и о. Илиодор беседовали о Григории во флорищевской келье, общественные деятели вновь вынесли этот вопрос на кафедру Государственной думы. Формальным поводом стало обсуждение сметы Св.Синода.
Нападки В.Н. Львова (2-го) и В.М. Пуришкевича на обер-прокурора заставили преосв. Митрофана (Краснопольского) выступить с возражением. Он первым нарушил негласное табу на обсуждение дела еп. Гермогена. Гвоздём этой речи стало полное отрицание роли Григория в январских событиях. «Я не осведомлен и не знаю тех таинственных сношений и влияний, о которых здесь говорят частным порядком, я стою на почве фактической, и с этой стороны я определенно и ясно, по долгу пастыря, должен сказать, что никакой связи, ни исторической, ни внутренней связи нет между постановлением Св. Синода и делом и именем Распутина». Такое твердое заявление от «неосведомленного» оратора, не являвшегося членом Св. Синода, выдает официозный характер речи. По мнению преосв. Митрофана, еп. Гермоген вторично допустил ошибку, когда, «потерпев урон за свою резкость, он виновника своего несчастья стал искать в лице какого-то Распутина»[132].
Вслед за еп. Митрофаном апология действий Св. Синода была продолжена другими депутатами в священном сане – о. А.М. Станиславским и еп. Евлогием (Георгиевским), повторившими тезис о том, что еп. Гермоген пострадал не из-за Григория. «Самая мысль о том, что Св. Синод в своем решении руководится какими-то темными, сторонними влияниями, мне кажется нелепой, чудовищной и глубоко оскорбительной для высшего церковного управления», – говорил преосв. Евлогий[133].
Что до Саблера, то он, трижды за неделю поднимавшийся на думскую кафедру, тщательно обошел стороной вопрос о еп. Гермогене и Григории, за исключением мелкой фактической поправки.
Но особую остроту и историческую славу тем прениям заслужило обсуждение не дела саратовского архиерея, а, как выражается Родзянко, «распутинства».
Еще 5 марта эту тему поднял не связанный с центром соглашениями П.Н. Милюков. В его речи впервые с думской кафедры прозвучал главный антираспутинский тезис: Григорий – не просто странная и, возможно, безнравственная фигура, а влиятельное лицо, способное свалить таких крупных людей, что на их фоне еп. Гермоген даже не упомянут.
Теперь Гучков, чье болезненное самолюбие не снесло произнесения исторического тезиса устами конкурента, не мог сдержаться. Хорошо подготовившись, поменявшись очередью с П.В. Каменским, он 9 марта торжественно взошёл на кафедру и в мертвой тишине прочёл по бумажке свою самую знаменитую речь, в которой Распутину приписывалось огромное влияние, «пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти». «Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах, кто вертит ту ось, которая тащит за собой и смену направлений, и смену лиц, падение одних, возвышение других?». Вторая половина речи была посвящена упрекам в адрес духовных и светских властей за их бездействие, главным образом, обер-прокуратуре и лично Саблеру, который, дескать, «не исполнил своего долга»[134].
Надо отдать должное таланту Гучкова, ухитрившегося раздуть сенсацию из того, что Н.Е. Марков 2-й, перебив оратора, справедливо назвал «бабьими сплетнями». На основании трёх перечисленных в записке о. Илиодора имён якобы ставленников Распутина (Саблер, еп. Варнава (Накропин), П.С. Даманский) и пары других слухов Гучков создал концепцию, которая определила направление общественной мысли в последующие несколько лет. «Вы все знаете», – говорил оратор, прекрасно понимая, что, наоборот, это его слова станут откровением для слушателей.
Взволнованный речью Гучкова Саблер поспешил взять слово, чтобы постулировать, что «обер-прокурор Св. Синода знает свой долг». Через три дня, поразмыслив, спрятался за формальный отвод: «Ответ за свою деятельность он даст своему Государю и Господу Богу, а не тем гг. депутатам, которые, не имея к тому никакого законного основания, готовы вызвать его к ответу»[135].
В целом следует отметить, что в Думе образовалось два течения, объединившее, казалось, непримиримых врагов. Против Саблера выступили Львов 2-й, Пуришкевич, Гучков, гр. А.А. Уваров и др. На стороне обер-прокурора оказались правые, включая обоих епископов.
О. Илиодор внимательно следил за ходом обсуждения распутинского вопроса в Г. Думе. «Я, сидя во Флорищевой пустыни, в темнице, ломал голову: "Почему же это о запросе ничего не слышно?"»[136]. Особый интерес иеромонаха вызвали, конечно, мартовские прения, тем более что Гучков отчасти говорил с его слов и тем самым представлял собой как бы его рупор. Сам Труфанов писал, что этот депутат, а также Пуришкевич основывали свои «громовые речи» на его записке «Гриша»[137].
Не получая газет с 1 марта, о. Илиодор узнал об этих прениях с запозданием и, по-видимому, после отъезда Кондурушкина. Но, узнав, был потрясен тактикой Саблера, думских епископов и отмежевавшихся от Пуришкевича правых депутатов.
«Вы, – писал впоследствии о. Илиодор Св. Синоду, – послали своих слуг (еп. Евлогия и Митрофана) в Государственную Думу на всю Россию и на весь мир объявить, что у Вас под мантиями "святого" черта не скрывается. И это была неправда. "Святой" черт скрывался у Вас и теперь скрывается … Наконец, чтобы дополнить меру беззакония Вашего, сам охотник Саблер, в Государственной думе на упреки в том, что Синод покрывает хлыста, отвечал громко с трибуны: "Он только исполняет свой долг!". – Что это? Шутка? – Быть может, Вы с кем-либо другим и можете так шутить, но со мною нельзя; нельзя! Не позволяю так издеваться над моими идеалами, потому что за них кровью плачено»[138].
Еще более о. Илиодора потрясла поддержка, полученная Саблером вне Г. Думы. По газетным сведениям, Синод поднес обер-прокурору особый адрес, а «высшие сферы» одобрили выступление Саблера в Думе.
«Вы в Синоде, этом Поместном Соборе Русской Церкви, охотнику, коршуну, насильнику (В.К. Саблеру) торжественно читали хвалебную грамоту, называя его, Саблера, – защитника и покровителя хлыста Распутина, – исповедником», – негодовал потом иеромонах[139].
В довершение всего, оказалось, что Григорий, которого совсем недавно власти убедили отбыть на родину, возвращается обратно в Петербург. Ходили слухи, что он едет с целью противостоять хлопотам о помиловании еп. Гермогена[140].
«Когда прочитал речь Саблера, правых негодяев, – писал о. Илиодор Кондурушкину, – узнал о телеграмме арх[иепископа] Антония Саблеру, об адресе Св. Синода ему же, о том, что выступление Саблера в Г[осударственной] д[уме]в высших сферах принято сочувственно и Гр. Распут[ин] едет в Петербург, то скорби моей, негодованию моему нет предела... Сердце мое так сильно заболело, что я другой день чувствую себя полуживым... Идеалы мои поруганы и втоптаны в грязь. И кем же? Носителями этих идеалов!»[141].
Таким образом, главная претензия о. Илиодора к Св. Синоду заключалась в том, что иерархи «под своими широкими мантиями сокрыли "святого" черта – Григория Ефимовича Распутина»[142].
По господствовавшему тогда учению Святейший Синод рассматривался как постоянный Поместный Собор[143]. «А я-то, бедный, вплоть до настоящего времени считал Синод поместным собором, непогрешимым, действующим по изволению Духа Святого. Да и я ли один так думал? Не вся ли русская православная Церковь считала Синод органом Духа Святого, живущего в Церкви и управляющего Ею?»[144].
Недостойное, по мнению о. Илиодора, поведение было несовместимо с этим статусом Синода.
Как выразился по другому поводу В.С. Пикуль, «в бунтарской душе Илиодора что-то хрустнуло». Сейчас не только хрустнуло, но и сломалось, раз и навсегда.
Теоретическую сторону вопроса о. Илиодор разработал позже. Пока он просто решил демонстративно порвать с прошлым.
Потеряв, по-видимому, интерес к кампании, предпринятой Бадмаевым, о. Илиодор задумал собственную: дописать свою страшную книгу о Распутине («Святой черт») и напечатать ее за границей.
«Я не желаю умереть, не сказавши всей правды... Но сказать в России невозможно, ибо правда моя – действительно правда страшная... Ее придется говорить за границею. Говорить ее надо непременно мне. Значит, само собою напрашивается вывод о моем сане... Я готов на все, ибо у меня отняли все духовное, идеал, чем я жил, и дали мне только ссылку, истрепанные нервы и больное, очень больное сердце...». Так писал о. Илиодор своему новому другу Кондурушкину, прося совета[145].
Адресат, сочтя «страшный» замысел флорищевского узника наивным, отсоветовал писать. Но иеромонах не отказался от своего замысла, лишь отложил его осуществление.
Так за первые же два месяца флорищевского заточения о. Илиодор растерял все свои «святыни». Разочарование в Синоде, злость на Григория, полутюремный режим, отказ ходить в храм, запрет священнослужения, одиночество, разлука с наставниками и паствой, скорбь о крахе его дела в Царицыне, страдания от газетной травли, бездуховная атмосфера ссыльного монастыря, наконец, открытие либерализма – все это подорвало фундамент мировоззрения узника. Началась его деградация.
[1] Новое время. 7 февраля 1912.
[2] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[3] Саратовский листок. 31 января 1912.
[4]Там же.
[5] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[6] Новое время. 2 февраля 1912; Саратовский листок. 31 января 1912.
[7] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912.
[8] Бывший иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов). Святой черт. Записки о Распутине. М., 1917. С.152.
[9] Новое время. 2 февраля 1912; Саратовский листок. 2 февраля 1912.
[10] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[11] Святой черт. С.163.
[12]Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[13] Саратовский вестник. 7 февраля 1912.
[14] Доклад об Илиодоре в Синоде // Саратовский листок. 25 февраля 1912.
[15]Там же. 17 марта 1912.
[16] Святой черт. С.148; Саратовский листок. 31 января 1912.
[17] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[18] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[19] Красный архив. Т.2 (15). М.-Л., 1926. С.111. Письмо о.Илиодора И.Г. Щегловитову 27 октября 1912.
[20] Святой черт. С.172. Ниже автор сообщает несколько малоправдоподобных фактов о кощунствах, якобы творившихся в обители.
[21]Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф.797. Оп. 76 (1906 г.), III отделение 5 стол. Д.162 е. Л.37 об.
[22] Цит. по: Саратовский вестник. 25 января 1912.
[23]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.2, 2 об. Рапорт архиеп. Николая 28 апреля 1912 г.
[24] Митрополит Антоний (Храповицкий). Нравственность черного и белого духовенства (Ответ М.О. Меньшикову). Режим доступа: http://dugward.ru/library/mitr_antoniy/antoniy_nravstvennost_chernogo.html
[25] Цит. по: Фомин С.В. «Ложь велика, но правда больше…». М., 2010. С.70.
[26] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912; Доклад об Илиодоре в синоде // Саратовский листок. 25 февраля 1912; Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912; РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.16 об. Рапорт архим. Макария архиеп. Николаю 25 апреля; Святой черт. С.151.
[27] За кулисами царизма (Архив тибетского врача Бадмаева). Л., 1925. С.8.
[28] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912; Ржевский Б. Письма в редакцию // Новое время. 21 марта 1912.
[29] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[30] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[31] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912; Красный архив. Т.2 (15). М.-Л., 1926. С.110. Письмо о.Илиодора Щегловитову 27 октября 1912; Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912; Святой черт. С.151, 152; The mad monk of Russia Iliodor. Life, memoirs and confessions of Sergei Michailovich Trufanoff (Iliodor). New York, 1918. P.297; Святой черт. С.85.
[32] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912; РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.1 об.
[33] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[34] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[35] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912; РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.2.
[36] Новое время. 31 января 1912; Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[37] Фомин С.В. Ук. соч. С.71; Н.М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912.
[38] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912; Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912.
[39] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[40] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[41] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[42] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[43] Доклад об Илиодоре в Синоде // Саратовский листок. 25 февраля 1912.
[44] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[45] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912; Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[46]Там же.
[47] Фомин С.В. Ук. соч. С.71.
[48] Святой черт. С.160; Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[49] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[50] Саратовский листок. 10 февраля 1912.
[51] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[52] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912.
[53]Там же.
[54] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[55]Там же.
[56] Фомин С.В. Ук. соч. С.71.
[57] Красный архив. Т.2 (15). М.-Л., 1926. С.111. Письмо о.Илиодора Щегловитову 27 октября 1912.
[58] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[59]Там же.
[60] Н.М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912.
[61] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[62] В местах ссылки // Новое время. 14 февраля 1912.
[63] За кулисами царизма. С.7.
[64] Н.М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912; Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[65] Саратовский вестник. 28 декабря 1912.
[66] Святой черт. С.173.
[67]Там же.
[68]Там же; Доклад об Илиодоре в Синоде // Саратовский листок. 25 февраля 1912.
[69]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.1.
[70]Там же. Л.1 об.; Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО). Ф.6. Оп.1. Д.304. Л.205 об. Письмо о. Илиодора своему приверженцу 14 сентября.
[71] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[72] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[73]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.1 об.
[74]Там же. Л.2.
[75] Саратовский листок. 31 января 1912.
[76]РГИА. Ф.797. Оп. 76 (1906 г.), III отделение 5 стол. Д.162 е. Л.37 об. – 38.
[77] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[78] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[79] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[80] Биржевые ведомости. 23 февраля 1912.
[81] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912. Известно, впрочем, что узник дружил со своим соседом о.Иаковом, «хорошим человеком» (Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912).
[82]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.2; Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[83]РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.33, 35 об. Записка из следственного производства по делу об иеромонахе Илиодоре.
[84] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912.
[85] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[86]Там же.
[87] Родионов И. Монах-бунтарь // Новое время. 13 марта 1912.
[88] Ржевский Б. Письма в редакцию // Новое время. 21 марта 1912.
[89] В.Б-ий. Новое время. 22 марта 1912.
[90]Iliodor. P.297.
[91] Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[92] Н.М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912.
[93] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[94] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[95]Там же.
[96] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[97]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.2, 2 об.
[98] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[99]Там же.
[100] За кулисами царизма. С.11. Записка Бадмаева Николаю II 17 февраля 1912 г.
[101] Н.М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912; Саратовский листок. 17 марта 1912.
[102] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[103] ГАВО. Ф.6. Оп.1. Д.304. Л.36.
[104] Н. М-в. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 19 февраля 1912.
[105] Саратовский вестник. 26 февраля 1912.
[106] Святой черт. С.155.
[107] За кулисами царизма. С.8, 10.
[108]Там же. С.7.
[109]Там же. С.8.
[110]Там же.
[111] Святой черт. С.155.
[112] За кулисами царизма. С.12-13.
[113]Литературное наследство. Т.95. М.: Наука, 1988. С.981. Письмо Кондурушкина Горькому 20 марта 1912.
[114] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[115] ГАВО. Ф.6. Оп.1. Д.304. Л.152 об. (это написано летом, но характерно для всего периода заточения); Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[116] Саратовский вестник. 12 декабря 1912.
[117] Б.Р. Илиодор в ссылке // Голос Москвы. 5 февраля 1912.
[118] И.М. Вести об епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре // Новое время. 31 января 1912.
[119] Святой черт. С.153; Саратовский листок. 17 марта 1912.
[120] С.Г. "Непонятый пастырь" // Речь. 20 ноября 1911.
[121] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912; Вселенная и человечество: история исследования природы и приложения ее сил на службу человечеству. СПб., 1904. Т.2. С.179.
[122] Красный архив. Т.2 (15). М.-Л., 1926. С.111. Письмо о.Илиодора Щегловитову 27 октября 1912; Святой черт. С.173; РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.7 об. Отречение о. Илиодора.
[123]РГИА. Ф.796. Оп.191 (1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143е. Л.17, 18.
[124] Красный архив. Т.2 (15). М.-Л., 1926. С.111. Письмо о.Илиодора Щегловитову 27 октября 1912; Письмо о. Илиодора [Бадмаеву] // Новое время. 2 февраля 1912.
[125]РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.10 об. – 11. Отречение о. Илиодора.
[126] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[127]РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.2 об. Отречение о. Илиодора.
[128]Он же. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[129]Он же. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912.
[130] Кондурушкин С. Мятущийся Илиодор // Речь. 1 апреля 1912; Он же. Мятущийся Илиодор (Окончание) // Речь. 3 апреля 1912.
[131]Литературное наследство. Т.95. С.981.
[132] Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912 г. Сессия пятая. Часть III. Заседания 84-119 (с 5 марта по 28 апреля 1912 г.). СПб., 1912. Стлб.173, 170, 172, 175.
[133]Там же. Стлб.183, 575.
[134]Там же. Стлб.582-585.
[135]Там же. Стлб.586, 852.
[136] Святой черт. С.95.
[137]Там же. С.154. Разумеется, это преувеличение, особенно относительно Пуришкевича.
[138]РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.3-3 об. Отречение о. Илиодора. Саблер именуется здесь «охотником» ввиду образного сравнения Церкви с подстреленной чайкой.
[139]Там же. Л.3.
[140] Саратовский листок. 17 марта 1912.
[141]Литературное наследство. Т.95. С.982.
[142]РГИА. Ф.796. Оп.191(1910 г.), отделение V, стол 2. Д.143ж. Л.2 об. Отречение о. Илиодора.
[143] Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910 г. Сессия третья. Часть II. Заседания 33-64 (с 20 января по 6 марта 1910 г.). СПб., 1910. Стлб.1551.
[144] Святой черт. С.169.
[145]Литературное наследство. Т.95. С.982.