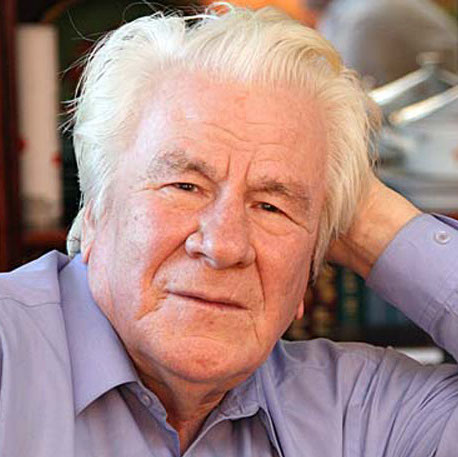III. А гуси летели высоко, высоко…
VI-VII. В полях. Ночи-ноченьки
IX-X. Дон Кихот из Обрядовки. Ночной сторож
Бесплатная лекция
XI
В моих тетрадках уже много историй и все они сроднились со мной и остались в душе. Но вот что странно: проходят дни и недели, а я никак не могу прерваться – отдохнуть от писательства и потому часто спрашиваю себя – что стоит за твоими страничками, дорогой наш Семён Петрович, есть ли здесь какая-то цель? Но этот вопрос у меня без ответа. Правда иногда мне кажется, что я пишу какую-то большую, длинную повесть под названием «Прощания и встречи», и эта повесть закончится лишь тогда, когда закончится сама жизнь. А моя Аннушка по этому поводу выразилась ещё поточнее: твои, мол, тетради, Сенечка, это, конечно, дневник, и нечего тут гадать. А, может быть, так и есть. Ведь я пишу о тех, кого уважал и любил, с кем делил многие свои печали и радости, – и это сущая правда. И примеров этому – океан. И о многих из этих людей я уже написал. Но таких историй не убывает, но у меня ещё много сил. Вот и сейчас я думаю – с кого мне сегодня начать? Но что думать – начинай с долгожителей. К примеру, расскажи о Паниной Марии Прокопьевне, ведь ей скоро исполнится восемьдесят лет. Конечно, это редкий возраст по нынешним временам, но она – молодец! К тому же всё ещё живёт одна, без помощников, – и сама топит печи и стряпает хлеб и даже садит немного картошки – надо же что-то на зиму… И вот однажды эта старушка меня здорово удивила. Но это даже не удивление, а что-то побольше, и я об этом не забываю. А ведь прошло с того дня два десятка лет. Но, пожалуй, расскажу обо всём по порядку. И начну, как говорится, издалека. Ведь сделать это очень легко, потому что и сам я, как не крути, – долгожитель. Да и с памятью у меня – всё в порядке, слава Богу – не жалуюсь.
Так вот: помнится, ещё в советские времена в наши деревни приезжали очень странные люди. Их называли – лекторы. В те годы ещё не было в сельском быту телевизоров, и потому лекторы у моих земляков пользовались уважением и даже почётом. А всё начиналось с объявлений, то есть с афиш. Правда, это слишком громко сказано, – в жизни всё было проще. И занимались этим наши сельские активисты, а это, как правило, учителя. И вот кто-нибудь из них находил большой лист бумаги и на нём крупными буквами выводил: «Сегодня, в шесть часов вечера, в клубе состоится лекция о международном положении». Лектор обкома партии такой-то... Вход бесплатный. И всё это вывешивалось возле нашего магазина на старом дощатом заборе.
И вот – лекция. Клуб, как всегда, переполнен. Деревенский народ любит всякие зрелища, представления. И лекции всегда слушали со вниманием, а потом начинались вопросы. В связи с этим случались часто смешные истории. Помню, один лектор каждые две-три минуты наливал в стакан воды и эту воду с каким-то остервенением выплёскивал в горло. Наверное, в этом горле что-то пересыхало, а может быть, волновался. И вот лекция закончилась, пришло время вопросов. И сразу же с первого ряда напористый голос:
– Товарищ лектор, у тебя стаканчик не освободился?
В зале, конечно же, громкий смех, оживление. Доволен и тот – кто задавал вопрос. А это был Колька Полудинцев – наш деревенский пьяница и балагур. Но странное дело, сам лектор почему-то юмора не понял и стал извиняться:
– Прости, дорогой, я стакан, видимо, задержал. Но нет проблем – я его мигом освобожу.
И освободил. Допил остатки воды и даже крякнул от удовольствия. А после этого в зале снова веселье, и даже раздались аплодисменты. Словом, лекция удалась.
А в другой раз лектор рассказывал о Есенине. Но стихи поэта, видимо, не держал в памяти, а читал их по книге. Это, конечно, всем не понравилось. Но народ у нас добрый, и потому никто не шумел. Зато после лекции не возникло вопросов, и это смутило лектора. И тогда он сам решил задавать вопросы. А в зале сидели в основном школьники, зато первый ряд, как всегда, был особенный. Там расположились наши старички-пенсионеры. Вот к ним и обратился лектор:
– А теперь признавайтесь – кто из вас тоже балуется стихами? – В зале гробовое молчание. И тогда он спросил по-другому:
– Я хочу узнать, кто из вас сочиняет стихи и рассказы, а может, даже сказки про какую-нибудь Бабу-Ягу или Емелю-дурачка?
Но в зале продолжалась тишина, и тогда лектор достал платочек и стал протирать очки. Делал это он долго, старательно и, наконец, снова заговорил:
– Значит, играем в молчанку? Но я понима-а-а-ю…
Последнее слово он вытянул в какую-то насмешливую верёвочку, но не успокоился. И стал давать всем советы:
– Если стишки кому-то не по зубам – не унывайте. А лучше вырастите огурец или морковку. Земля у вас – голимые чернозёмы. Брось в неё камень – и вылупится арбуз. Так что выше голову, милые. Есенин тоже был из деревни, а мы его – рядом с Пушкиным... Вы не согласны? Кто не согласен – пиши заявление. Ну, что?
Но в зале по-прежнему тихо, люди точно окаменели. И тогда лектор поднял правую руку – видно, просил внимания. И сразу же из зала выкрик:
– Чё замолчал, не тяни резину! – Передние ряды зашумели, и лектор вскочил со стула. А голос сердитый:
– Резина тут ни при чём, так что подведём итоги. – И в этот миг у него свалились очки, но он их поймал на лету и стал энергично протирать и дышать на оправу. И при этом что-то шептал про себя и гримасничал. А потом всё изменилось: к его столику вдруг подошла какая-то старая женщина в очень странной одежде. На ней было тяжёлое тёмное платье, а на голове такой же тёмный платок. И платок был надвинут на лоб и почти закрывал глаза. Но всё равно я узнал её. Это была Мария Прокопьевна Панина – старенькая колхозница-инвалид. Её избёнка стояла от моего дома в каких-нибудь ста шагах. И вот старушка оказалась у самого столика, а потом посмотрела в зал. И сразу заговорила. А голос какой-то робкий, униженный – и ещё с хрипотцой, как будто в горле что-то мешает. И вот что она сказала:
– Люди добрые, простите меня, не ругайте, но я тоже... тоже... – И она запнулась, наверно, разволновалась. И лектор пошёл ей навстречу:
– Но что значит «тоже»? Правда, догадываюсь. Вы, значит, тоже пишете стихи? Ну как? Угадал?..
– Какой ты бойкий, догадливой, а я вот не бойка, но давно уж пишу. Да, да, я не вру, – такой грех на себе таскаю...
– Это не грех. В тюрьму за это не попадают... – Лектор засмеялся, а в зале зашумели. И этот шум почему-то ободрил старушку. Она даже помахала кому-то рукой и сказала громко, уверенно:
– В тюрьме я ещё не бывала, а вот бумагу давно мараю и сейчас я вам почитаю...
– И правильно сделаете, а мы послушаем, – лектор поправил очки и ещё хотел что-то добавить, но старушка его перебила:
– А меня не надо упрашивать. Так что послушайте... – И она начала читать, а голос стал звонким, напористым, как у молоденькой:
– Я из простой семьи – хорошой,
Отца моёва звали Прошей,
А жила я трудно, одиноко –
За мной глядели – око в око... Ну как?
– Ну что вам сказать, – лектор снова многозначительно поправил очки, – рифмой вы овладели, но о вашей жизни я мало узнал. А хотелось побольше. Да и стиль у вас – одни кочки. Кстати, вы знакомы с этим словом? Я о стиле опять...
– Кого ты сказал? У меня ведь пять классов всего да шестой коридор. Я там полы мыла, техничкой устроилась, меня из жалости взяли, ведь в деревне голодуха была. И я едва берега не хватила, а сколько наших-то примерло. Таку войну пережили...
И тут лектор её остановил:
-- А вот это, милая, к стихам не относится. Понимаете!?
Последнее слово он произнёс как-то зло и напористо, и старушка сразу сникла, ужала плечи, а потом робко, почти заискивающе, попросила:
– Можно ещё почитать? У меня и о жизни есть, я вам немножко по-быстрому...
– Ну, раз по-быстрому, то читайте, – лектор рассмеялся, и старушка тоже приободрилась. И голосок направился - стал ещё громче, уверенней:
– А вы меня не ругайте. Я ведь за всяко просто, так что послушайте. Это будет про жизнь... – И она повернулась к залу, и голос снова зазвенел:
– Я Богу не крестилася, не молилася,
А на широком поле, на колхозном
С Божьей помощью очутилася...
Она вдруг оборвала себя, может, разволновалась. И голос сразу угас:
– Ладно, пора заканчивать. Хорошего, как говорят, понемногу... Она хмыкнула и поправила платок на голове. А лектор разулыбался:
– Я вас хорошо понимаю, да, да. Вы себя в обиду – ни в коем разе. Вот и Есенин наш был не из робких. Считал себя великим, единственным...
Но старушка опять его перебила:
– Ты меня шибко-то не ругай, я ведь и частушки могу, сочиняю. Хочешь списать?
– Но если сочиняете, то почитайте. А лучше всего пропойте!
– Это чё ты удумал? Кака я тебе певица? Это вон Зыкина с нами с утра до вечера, а мы и довольны. Да и чё говорить: мы люди маленьки, ниже мыши...
И в зале опять зашумели, кто-то даже начал свистеть. Это, наверно, с самых задних рядов. А лектор в это время занялся очками – протирал их платочком, примеривал. Наконец, вспомнил про старушку:
– Ну, где ваши частушки? Покажите хотя бы одну...
– Одну можно, но осторожно. Она у меня зубастая... – Старушка расправила плечи и стала рубить воздух ладонью:
– Вся милиция знакома,
Вся милиция – родня,
Давали мне четыре года,
А просидел всего два дня...
Ну, как? Могу и ещё...
В зале смех, кто-то зааплодировал, зато лектор сделался серьёзным, прямо воинственным. И заговорил строгим голосом:
– Если ждёте моей оценки – откройте уши. Во-первых, про милицию – это зря. Ваша частушка порочит честных людей. Наша советская милиция – верный помощник партии, а вы... а вы... – он прямо задохнулся от гнева, – и старушка поникла и опустила голову, а потом чуть слышно спросила:
– Можно ещё почитать? Может, чё-то поглянется. Разрешаете?
– Не разрешаю. Хорошего, как говорят, понемногу. Так вы недавно выразились. А пока – мой совет...
– Какой? – напряглась старушка и даже про платок забыла. Он сполз ей на плечи. А лектор вдруг стал смеяться. Вроде и причин никаких, а он сдержаться не может. Как говорят, закатилась горошинка... Наконец, остановился и произнёс нараспев:
«За мной гляде-е-е-ли око в око...» Это я вас цитирую. Прямо классика!
– Кого ты сказал?
– Не кого, а чего... – поправил лектор и опять рассмеялся, но теперь уже зло, с раздражением. И такие же выдавил из себя слова:
– А совет мой такой – давайте-ка закругляйтесь со своими стишками. Да и не по возрасту вам. А лучше займитесь огородом – посадите огурцы, лучок, можно даже морковочку. Я эту тему уже озвучивал двадцать минут назад. И думаю - повторяться не стоит... – и он посмотрел на старушку долгим пристальным взглядом, точно увидел впервые. А та совсем поникла, и голосок – опять тихий, придавленный:
– Я всё, миленький, поняла. Я ведь ишо в уме. Только не суди меня, не казни... – и у неё затряслись плечи, и она стала всхлипывать. А потом осторожно, еле-еле переступая ногами, точно приговорённая к какой-то пытке, стала пробираться к двери. В зале наступила тягучая, зловещая тишина.
И тут возник опять Колька Полудинцев:
– Товарищ лектор, зачем обругал старуху?! У нас за это штрафуют...
Его голос потонул в шуме и криках, кто-то стал выходить из зала. И я тоже вышел вместе со всеми. А на улице, как сейчас вижу, стояла весна. Цвела черёмуха и вся была в белом сиянии, в каких-то немыслимых ароматах. И надо было радоваться, но куда там. Моя душа просто мучилась, изнемогала, точно я в чём-то виноват перед этой старушкой, а из-за неё – виноват перед всем белым светом. И я сжал горло ладонью, будто я какой-то предатель. Да, да предатель, а кто же ещё? Ведь мог бы за неё заступиться, мог бы, мог бы, но почему промолчал, почему?.. Господи, я же виноват перед ней, навсегда виноват. И тут я увидел её. Она ещё далеко не ушла, а теперь даже остановилась возле скверика у самого клуба. Рядом была скамейка, и она на неё присела. А я подошёл поближе, и она сразу меня заметила и спросила:
– Ты пошто за мной увязался? Как будто я кака-то воровка или баба дурна. А всего делов-то – пишу стишки, сама себя веселю, а может, бегу от смерти...
– Не надо об этом. Нам ещё жить да жить, а вы...
И тут она меня остановила:
– А ты, я погляжу, человек сердобольной. Я как-то тебя не сильно знаю. В одной деревне, а точно поврозь. Да и время нонешно ахово – все по норам да по углам. А то давай – посиди со мной, – и она передвинулась на скамейке и опять попросила:
Посидим рядком да поговорим ладком, – она задышала тяжело и как будто заплакала. Так и есть, – она промокнула платочком глаза. И я попробовал её успокоить:
– Не надо себя убивать. Этот лектор – дурачок, недоумок. А вы плачете, а зачем? Он не стоит вашей слезинки.
– Ну чё. Я, видно, старуха слезлива. Я и в доме старости всем мешала... – Она затихла, а я сразу спросил:
– Вас разве туда отправляли? Я живу рядом, а выходит, не знал.
– Кого узнать-то. Меня ведь туда родна сестра упекла. Я не хотела, вся изревелась, но она – ни в каку. Видно, напужалась, что стану нахлебницей. А если, мол, расхвораюсь, то меня с ложечки надо кормить. Вот и сдала меня, да. Но мне в этом доме не ложилось. Да и куда там, хужей не бывает. Если только в тюрьме. Но там ещё, слава Богу, не побывала... А ты чё замолчал? Я вот трещу, как сорока, и поди надоела?
– Нет, нет, я слушаю.
– А раз слушашь, то слушай дале. Значит, не пожилось мне там, не схотелось. Да и как? Ведь всё по команде. Пойдёшь в столову и там приказ – снимай с головы платки и шапки! И только потом за стол. А как поешь – так опять кричат – верхнюю одёжу можно одеть, аха. Так и жили, милый, – снять да одеть!.. А в баню если, то опять строем, – прямо стыдоба. А как зайдёшь в парну – так снова не слава Богу, – горячу воду, мол, экономьте, на вас-де не напасёшься. А лечили нас – сроду не догадашься...
– Ну, как?
– А всех подряд - валидолом. – Она схохотнула и поправила платок на голове. Потом глубоко-глубоко вздохнула, точно заболело в груди. И голосок притих – еле слышно:
– Так вот, – голова заболит – суют валидол. А сдыханья не станет – опять таблетка. И фельшер ишо грозит – не станешь глотать – откреплю от столовой. Но я всё равно хитрила. Возьму в рот эту белу лепёшку и пожую для вида, а потом выплюну со слюной. Так што всего там натерпелась, потому и ушла...
– Пешком что ли? Это, поди, далеко?
– Зачем пешком – на автобусе, на колёсах. У меня деньжонки скопились от пенсии. На билет хватило да ишо осталось. Вот и заявилась домой, а дом-то ветерком сдуло. Его племянничек разобрал на дрова. Чего, мол, гнилушки. И всю зиму этим топил. А по весне сам куда-то слинял. Говорят, в Тюмень убрался за длинным рублём. Там денежки, слыхала, висят на берёзах. Он возле них и пропал. Так што – ни слуху, ни духу. Поди, не живой... А ты всё молчишь, наверно, надоела?
– Что вы, что вы...
– А ты не выкай, я не привыкла. – Она схохотнула и взглянула внимательно на меня. Мне показалось, – ей ещё что-то надо сказать. Так и есть:
– О чём мы? Аха... Я тебе про племянника. Он, значит, у нас потерялся, хоть в милицию заявляй. А про сестру даже нечё сказать. К тому же она вскорости померла. И домишко её перешёл ко мне. Я там вымыла полы, побелила стены и, благословясь, зашла. Но я там жила не одна. Ко мне ещё собачка Ветка прибилась, и стало нас двое. Но недолго так пожили, порадовались, ведь Ветку мою убили. Хулиганишки чё-то бросили, она, бедная, съела – и лапки кверху. И больше не встала. Но я другу Ветку заведу, да мне ишо стишки помогают. Они – рядом, возле меня. И я – не одна, как будто с кем-то живым говорю. А теперь чё делать – не знаю...
– 0 чём вы?
– А ты не хитри. А может, такой недогадливый? Мне же запретили бумагу марать. Ишо под суд отдадут.
– Кто запретил?
– Вот те раз. Ты же сам слыхал, как он хохотал надо мной, издевался. А ишо в обкоме работат. Да, поди, врёт. Но ему же наши-то верят, – и она показала рукой на окна. Они горели как-то ярко, призывно, и свет от них падал широкими полосами. Наверно, окна в клубе открыты. И еле успел об этом подумать, как услышал громкий смех, голоса. И она тоже услышала:
– Ишь гогочут, как гуси. И меня обмарали и опозорили.
– Не берите в голову, наши люди не виноваты. Это лектор всех задурил.
– А ты, выходит, с ним заодно. Мог ведь за меня чё-то сказать, заступиться за старую – раз такой сердобольной... – И она всхлипнула и затрясла головой. А потом что-то забормотала, но слов не понять. Но как ей помочь, как утешить? Ну как?! И от бессилия и от этой тяжелейшей вины я совсем растерялся. А она уже смотрела на меня, как на врага. И душа моя сжалась от боли, и я встал со скамейки. И она тоже поднялась, но продолжала всхлипывать, как дитя. А мне стало так плохо, как будто меня сдавили какой-то чугунной доской, – и вдруг какой-то голос, может быть, даже мой стал без конца повторять – а ведь она права, права и нет тебе прощения, нет, и не будет. И тут перебил его другой голос:
– Я тебя, поди, пообидела? Но это так – не со зла... Да и скоро помру я. отчалю. Так что прости Марию Прокопьевну и не ругай за стишки... – она ещё хотела что-то сказать, но, подумав, махнула рукой. А потом медленно-медленно пошла от меня. Ноги её тяжело ступали, как будто утопали в песке. Я ждал – может, всё же оглянется, что-то скажет, но не случилось. И опять я присел на скамейку, – и в тот же миг на меня хлынули голоса. Что это, что? Но сразу же догадался, – значит, всё в клубе закончилось, и лектор, наконец, затих и отпустил всех по домам. И мне бы тоже встать и пойти, но не было сил. Да и в душе – тяжело, тяжело, ещё миг – и расплачусь. А почему – никто мне не скажет... Может, от каких-то непрощённых грехов своих, а может это уже сигналы с того берега, с которого нет возврата. Вот и Мария Прокопьевна туда собралась. Господи, милосердный Господи, прости меня за неё. Прости, не суди...
Вредный старик
XII
Вот и попрощался я с Марией Петровной Паниной и стало мне грустно. Так бывает, когда провожаешь на вокзале очень близкого человека. И вот тронулся поезд, застучали колёса, и ты коришь и упрекаешь себя, – ну и почему ты отпустил от себя эту дорогую, родную душу, почему не задержал ещё хоть на день, на два, но поезд уже далеко, далеко, и ты начинаешь утешать себя – не плачь, мол, и не страдай, всегда будут ещё новые встречи, обязательно будут…
Так сейчас и со мной: я обязательно ещё вспомню про Марию Прокопьевну. Но в моей голове уже встаёт другая история и другой человек. Он тоже из этого племени стариков-долгожителей, он даже старше меня лет на пять. Да что говорить – скоро в моей Сосновке будут читать одни старички-инвалиды, да и тех уже жалкая кучка. Правда, я недавно уже написал об этом, а сейчас повторю – да, умирает моя деревня и скоро останутся от неё – только мои тетрадки-дневники. И кто-то однажды найдёт их, откроет и, может быть, скажет спасибо старому учителю Стародумову, который попытался сохранить что-то… Сохранить и утешиться.
Но я немного отвлёкся. Ведь пора уже спросить – ну кто же у тебя этот другой человек? Так вот: зовут его Тимохин Сергей Николаевич, и он тоже – бывший учитель и когда-то работал в Сосновской школе – вёл уроки истории и труда. Но почему труда? Да потому что Сергей Николаевич чувствовал дерево, как настоящий художник. Он даже сам делал мебель и много ещё чего. А самое главное – этот человек был для меня большим другом, а, может быть, даже и старшим братом, с которым я всё делил пополам. И вот сегодня мы с ним угодили в это гнилое болото, которое называется старость. Что поделаешь – угодили, но не будем унывать и рвать на себе рубашку. Да и сам Сергей Николаевич постоянно меня убеждает – «жить, Сенечка, надо до конца и не надо хныкать». Таков он – мой друг и мой брат. Но если уж сказать откровенно, то сам он уже живёт так долго, что стал забывать свою жизнь. Но она, милая, конечно, его не забывала и постоянно напоминала о себе – то тяжёлыми ночными думами, то такими же горькими снами. И хорошо бы от них отгородиться, закрыться, но только как – подскажите? Конечно, можно поставить на дверь надёжный замок, а вот с душой – не получится. И часто она шлёт такие сигналы, от которых замирает дыхание. И бывает это обычно тогда, когда за окнами дождь или метель, а в стены дома стучится ветер. Совсем, как сегодня… Но хватит, наверное, философствовать, ведь меня ждут тетрадки.
И вот я уже за столом и думаю – с чего мне начать. А для начала хочу представить, что делает сейчас Сергей Николаевич. И сделать очень легко, потому что вся его жизнь – как на ладони. Да и судьбы наши похожи: сами живём в Сосновке, а вся родня наша – в городе и давно. Но мы от этого не страдаем. Правда, я наверно, не прав. Конечно же, мы маленько страдаем, переживаем, потому что тяжело старикам в одиночестве, в тишине, ведь эта тишина порой, как в могиле. Но что поделаешь, если душа прицепилась к нашей Сосновке, как колючка к костюму… Но хватит, хватит об этом. К тому же я хотел представить, что сейчас с моим другом? Ведь за окном метель и от стужи потрескивает земля, а самое главное – не с кем перемолвится словом. Но такое уже давно, так что пора и привыкнуть. И Сергей Николаевич, конечно, привык ко всему, притерпелся, да и дел вокруг – выше крыши. И мой друг не сидит на месте, старается и потому сам без помощников топит печи, готовит себе обед и даже стирает бельишко. А стирает, понятно, не он, а машина, зато полы в доме моет сам хозяин, хотя это женское дело. Но что поделаешь, ведь хозяйку он схоронил ещё четыре года назад и теперь живёт по-сиротски. Правда, сирота мой друг – только с виду – в городе у него есть сын Гриша и внук Василёк, но это, как говорится, уже другая история. К тому же я сижу и гадаю – что сейчас делает сам Сергей Николаевич? И в моей тетрадке – пока ни строчки и мне даже хочется отложить перо и прилечь на диване. Говорю об этом честно и откровенно, потому что нам, старикам, в такую погоду хочется натянуть на себя одеяло и полежать в тишине. Но тишины-то как раз и нет, ведь за окнами целый день гуляет метель и потому тяжело, одиноко. Думаю, такую же тяжесть таскает в себе и мой Сергей Николаевич. Даже и не думаю, а точно знаю, ведь мы с ним, как близнецы-братья и нас разлучит только смерть. Но до этого ещё далеко, так что забудь это слово, а лучше садись за стол и работай! О, Господи, что это, откуда такие приказы, откуда? Но ведь и так ясно без всяких вопросов, – это же душа моя заговорила, потребовала, и я ей подчиняюсь…
И вот опять сажусь за стол и открываю свои тетрадки. И сразу в глазах встаёт, поднимается Сергей Николаевич. Он передо мной, как живой, настоящий, его можно потрогать руками. Да, да, это правда. И я даже отчётливо представил, как он стоит сейчас у окна и хочет там что-то увидеть. Но за окном – сплошная белая мгла и ветер клонит к земле старый тополь. Ещё миг – и сломает. И Сергей Николаевич чувствует это и сжимает плечи. А потом что-то бормочет, двигает шеей, точно давит ворот рубашки. И так проходит минута, другая, а он всё ещё стоит у окна – и весь в думах. Но что всё-таки с ним, что его взволновало? Но, видимо, этот вопрос без ответа, – просто он беседует сам с собой, у стариков такое бывает. Вот и Сергей Николаевич, возможно, спросил: «Ну как дела, старина? Одолеешь ли эту зиму?» Но ему, конечно, никто не ответил, и у него сразу разболелась голова, и боль такая, что он достал таблетку. Но и таблетка не помогла – и на него тяжёлым камнем навалилась тоска. И он даже подумал – не уехать ли завтра с утренним автобусом в город, ведь там сын и внук Васенька, а на кухне постоянно гремит посудой сноха Галина. Но как только вспомнил Галину – так сразу под сердцем ожил какой-то раскалённый, злой уголёк, – и Сергей Николаевич отошёл от окна. Он решил отдохнуть. А я опять отчётливо представляю и словно вижу, как он медленно, по-медвежьи шагает по комнате, как потом укладывает себя на диване. Ему почему-то холодно, зябко, и он укутывает ноги толстым одеялом. Теперь всё сделано и хорошо бы уснуть. Но сон не приходит, потому что в голове опять поднимается Галина. И сразу, точно по чьёму-то злому приказу оживает сердце. Оно болит и ноет, точно туда попала заноза. И эта заноза всё-таки существует и её зовут – Галина. Ведь из-за неё он и стал редким гостем у сына. И ничего не изменишь, ведь он уже давно понял, что чем-то не угодил снохе, а теперь ещё его старость. А стариков не все любят, а почему – пойди угадай. Да и как угадаешь, если сноха постоянно ворчит, что от него чем-то несёт, хоть нос зажимай. Тяжело это слышать, но возразить нечем. К тому же кто-то считает, что у всех стариков – есть этот запах – то ли земли, то ли старой осины. Но это, конечно, бред, наговоры и к тому же – у него всё по-другому. Да – по-другому, потому что он каждую неделю ходит в баню и всё бельё у него простирано и проглажено, и это делают его руки. Но разве убедишь Галину. Она всё равно его долбит и долбит. Правда, иногда он пытается защитить себя, но куда там, – сноха сразу вспыхивает, как спичка, а в голосе злоба: «Замолчи давай, вредный старик! Тебя бы пора – в психушку…» Но Сергей Николаевич не сдаётся и так же резко её обрывает: «Ты, голубушка, не ори на меня! И не сочиняй про меня романы. Я ведь ещё в своём уме, я не умер…» Но Галина его не слушает и опять за своё: «Хватиит, миленький, помолчи. А то позвоню куда надо и вызову санитаров…» И после этих слов он замолкает. Ему становится страшно, потому что он знает, что Галина способна на всё. Она действительно может сдать в психушку. А если такое случится, то сын не поможет. Он ведь раб у своей жены и с первых дней у её колен. Что и говорить – подкаблучник. Очень точное слово. И как-то сгоряча, после тяжёлого разговора, он так и обозвал сына. Обозвал – не подумал, а Галина это услышала и с тех пор не может простить… О, Господи, может, хватит об этом, а лучше бы заснуть сейчас, отдохнуть. Но сна нет и нет, и он тяжело ворочается под одеялом. А в комнате уже холодно, а дрова лежат на веранде. И он боится туда идти, потому что откроешь дверь, и холод бросится в комнату, так что надо терпеть и хорошо бы одеть что-то тёплое. А раз решил – надо сделать, и я опять представляю и даже вижу, как он медленно, в два приёма, поднимается с дивана и подходит к гардеробу. А потом о чём-то задумывается и вдруг резко дёргает дверку. И вот уже в руках у него толстый вязаный свитер. Он его одевает через голову, а сам что-то бормочет. А я думаю, что он просто очень доволен, ведь свитер хоть и старенький, но хорошо греет. И теперь можно по-настоящему отдохнуть, и Сергей Николаевич опять направляется к дивану. Но делает несколько шагов и замирает, потому что за стеной – какие-то звуки. Потом гремит ведро и катится по полу. И все эти чудеса – на веранде. А потом проходит ещё минута-другая, и звуки опять оживают – значит надо что-то делать. Но что? А если это воры? Правда, все давно знают, что в этом домике кроме книг и старых журналов ничего не найти, а это по нынешним временам стоит копейки. «Так что успокойся, не дёргайся и воров не ищи…» Он сказал это про себя и сразу же в голове посветлело. И Сергей Николаевич даже набрасывает на плечи курточку и идёт посмотреть, что там – на веранде. Но там – пусто, и вёдра лежат на месте. Тогда кто всё же стучал, кто хозяйничал на веранде? А может быть, мыши? Ну, конечно! Ведь начались холода, и мышки рвутся к теплу и хотят попасть в дом. Эти мысли совсем его успокоили, и он возвращается в комнату и опять ложится на диван. Закрывает глаза и пытается наконец-то заснуть. Но ничего не выходит, к тому же на веранде снова какой-то шум. Сергей Николаевич весь замирает, прислушивается и вдруг до него доходит – это же у меня в голове шумит, да, да, у меня… А может он уже сходит с ума и может права Галина, когда угрожает психушкой? Он так подумал и тут же что-то случилось. И надо бы это видеть, ведь он приподнял голову и кому-то погрозил кулаком. А потом крикнул: «Нет, милые, не дождётесь! Не будет вам ни психушки, ни моей смерти!..» Но тут же голос сорвался, и голова упала на подушку. И если б кто-то спросил – кому он так угрожает? – Он бы, наверное, промолчал, не ответил. Да и кому спросить, ведь в доме он был один, а за окнами – уже ночь.
А ночами все люди спят и хорошо бы ему… И такое случилось, и он начал медленно-медленно засыпать. И заснул бы, конечно, но опять в сознании поднялось это слово – психушка. Нехорошее, надоевшее слово, и Сергей Николаевич стал с ним бороться – переключать себя на другое. И может бы, душа успокоилась, но он вдруг вспомнил, что однажды он уже побывал в этой психушке. А случилось это очень-очень давно, в прошлом веке. Он только что закончил пединститут, и его взяли в молодёжную газету. А вначале был испытательный срок – целый месяц. И за это время надо было показать себя, в чём-нибудь отличиться. И он с головой ушёл в работе. А для начала сделал репортаж о врачах скорой помощи. Об этих врачах он написал, как о героях. И репортаж всех взволновал, а редактор даже выписал премию и отметил в приказе. Но этого ему было мало, и он решил опять отличиться и выбрал на этот раз психдиспансер. Его, правда, отговаривали – не пиши, мол, об этих людях, они же как марсиане. Ведь там увидишь такое, что потом и сам чокнешься, и никто не поможет. Но он сказал себе – раз решил – надо делать. И поехал на задание…
А сейчас он вспомнил, как волновался перед дорогой, как не спал всю ночь и читал до утра какие-то брошюрки и справочники, а пришло утро, – и он сел в автобус. И этот автобус повёз его на дальнюю городскую окраину, где был диспансер. И ехали долго, но наконец приехали. Диспансер располагался в стареньком кирпичном здании под шиферной крышей. И к зданию трудно подойти, к тому же перед самыми воротами стояла большая лужа, в которой плескался чей-то гусь. А вокруг – ни души. Но вот ворота открылись и показались люди. Их было человек пять, а может побольше. И они шагнули прямо в лужу, а ведь могли бы и обойти. Но они, видимо, думали о другом и шли молча, прижавшись друг к другу. И самое удивительное, – они шли прямо на него, и он посторонился. Но на него даже никто не взглянул, и это опять удивило. Что за странные люди и что за одежда? Ведь на них были какие-то серые, длиннополые халаты, а в руках у каждого – махровое полотенце. И он подумал – наверное, они собрались в баню, ну конечно же, – в баню. Так и есть – он угадал, потому что вскоре из ворот выскочила весёлая черноглазая бабёнка и заворковала: «На помывку, мальчики, побыстрее! Сейчас попаритесь и обкатитесь, а за вами отправим девочек. Не возражаете?» Но ей никто не ответил, а она продолжала чему-то радоваться, но вот только чему?..
А потом он зашёл в корпус и огляделся. К нему сразу подошёл высокий мужчина в белом халате и очках в роговой оправе. Такие очки обычно носят учёные люди или большие начальники. И голос оказался такой же – очень важный, сердитый:
– Вам кого? – Мужчина кашлянул и замолчал. Потом поправил очки и снова спросил: – Вы в какую палату? У вас есть пропуск?
Он показал ему журналистское удостоверение и тот поднёс его близко-близко к глазам и стал изучать. И делал это как-то брезгливо, насмешливо, не проронив ни слова. Наконец, ему надоело молчать, и он процедил сквозь зубы:
– А что вас интересует? Я хотел бы услышать. У нас ведь особый контингент. – Он с каким-то значением произнёс последние слова и даже опять повторил:
– Да, особый. Правда, недавно нас уже проверяли.
– Я не контролёр, я – из газеты… И хочу написать об очень хорошем, достойном враче… – Он ещё хотел что-то добавить, но мужчина прервал:
– Ну что ж – дерзайте. Правда у нас тут все достойные, так что… – Он фыркнул и достал носовой платок. Потом бережно протёр платком подбородок. – И вдруг рассмеялся:
– Кстати, был такой случай. Приходил к нам один, похожий на вас, и насочинял потом с три короба и даже напечатал в газетке. А потом сам у нас оказался. И я его лечил, доводил до ума.
– Значит, вы – доктор? Тогда, может быть, познакомимся?
Мужчина поморщился и не стал отвечать на вопросы. А потом присел на стул, который стоял у стены, и раскрыл журнал «Иностранная литература». И сразу углубился в чтение, словно забыл обо всём. Иногда только поправлял ладонью очки, – они почему-то плохо держались, и это, наверное, раздражало. Да и журнал скоро наскучил, и он положил его в колени и чему-то улыбнулся. Но только чему? Может быть, девушке? Та появилась из самой глубины коридора и уставилась на доктора. И тот брезгливо поморщился и даже не переставил свой стул. Но девушка продолжала смотреть туда, где он только что сидел и читал журнал. Лицо у ней было какое-то застывшее, точно обледенело. Такие лица часто бывают у мёртвых. Может, о чём-то похожем подумал доктор и потому резко поднялся со стула. А может он на что-то решился и вспомнил о посетителе. Так и есть:
– Вот что, гражданин журналист. Давайте я проведу вас к главному врачу, а то нет времени. К тому же сегодня я – дежурный по корпусу. А главный вам всё расскажет и, если угодно, покажет. Ну как – решайте!
И не дождавшись ответа, шагнул вперёд. И вот они уже идут по длинному, скучному коридору, в конце которого тяжёлая дверь, обитая жёлтой клеёнкой. Перед дверью они остановились и доктор сказал:
– Давайте ваш пропуск, я сделаю отметку. – Он достал из кармашка авторучку и расписался в бумажке. А потом протянул ладонь:
– Ну вот – до свидания. И не забывайте, у нас тут все хорошие и достойные. Но только не советую сюда попадать… – Он рассмеялся и похлопал его по плечу. И голос такой же весёлый, уверенный:
– А когда выйдет ваша статья? Оставьте и для меня экземпляр. А впрочем – забудете, но я, так и быть, – прощаю… – И он опять похлопал его по плечу, и всё это доктор проделал левой рукой, а в правой руке у него был журнал «Иностранная литература». Он, видно, не мог с ним расстаться. Да, да, так и есть. Ведь когда он пошёл обратно по коридору, то раскрыл журнал и стал читать его на ходу. И теперь стало ясно, почему этому человеку не хватает времени, – но, видимо, всё время читает, читает…
Но Бог с ним – с этим доктором, в конце концов, – надоело… И только успел так подумать, – как в голове опять встала Галина. Он сразу занервничал, приподнял голову с подушки и огляделся. В комнате бродил полумрак и стало ещё холодней. Наверное, всё же надо сходить за дровами. Он поёжился, поводил плечами, – и в этот миг за стеной опять что-то падает, куда-то катится, потом останавливается, и всё затихает. И он вдруг догадался – это же ветер. Ну конечно, конечно! Он сегодня врывается во все окна и щели, пугает и злится и, наверное, задумал что-то такое, такое… И не надо гадать, ведь всё на виду. Этот злодей хочет поднять вверх его домик, а потом бросить его с высоты. А что потом, что? – И у него сжимается горло и трудно дышать. И чтобы успокоиться, – он поднимается с дивана и подходит к окну. А там, в ограде, всё та же белая мгла. Но теперь она живая, совершенно живая, потому что колышется, движется и куда-то плывёт. И всё это делает ветер, хулиган ветер и тяжело на это смотреть. Да, тяжело, и Сергей Николаевич перебирается опять на диван. Кладёт под голову подушку и закрывает глаза. А потом говорит себе – надо спать, спать, надо обязательно спать!.. И, наверное, сбылось бы это желание, но внезапно ожил сотовый телефон. А там:
– Сергей Николаевич, это вы?
– Ну я, кто же ещё… – И у него сжались плечи, потому что узнал голос Галины. А голос не умолкал:
– Звоню, чтобы вы срочно приехали. Я завтра с утра – в больницу, ложусь на обследование, а Васю не с кем оставить. Ведь вы знаете, что муж мой с утра допоздна – на работе. Так что давайте – с первым автобусом… – Она остановилась, потом задышала громко-громко, будто поднялась в гору. А через секунду опять:
– Значит, договорились? Я два раза не повторяю… – И ещё что-то сказала, но он её перебил:
– Нет, не договорились! Я к вам не поеду… Хоть убейте – не могу. Ведь сейчас зовёшь, а приеду – начнёшь терзать… – Он замолчал, потому что испугался собственных слов. Надо бы, конечно, сдержаться, но как, как! Ведь всё, что копилось в нём за долгие годы – вдруг подступило к горлу и прорвалось. И ничего не вернёшь. А Галина уже пошла на приступ:
– А ну повтори, что сказал! Повтори и немедленно!
И он повторил:
– Я остаюсь у себя. И к вам не поеду. Буду доживать здесь до смерти…
– Значит, зимовать там собрался? А может пугаешь? Смотри, дорогой, доиграешься. А всё-таки ты приедешь?
– Нет, нет и нет… – он почувствовал, что задыхается, и хотел уже отключить телефон, но там снова Галина:
– Ну что с тобой делать, вредный старик? Ведь вы с народом никогда не считались…
– Кто это вы?
– Не притворяйся – сам знаешь. Это твои друзья-коммуняки довели нас до черты. Ещё бы год-два и всё полетело бы к чёрту. Но, слава Богу – пришли наши ребята, и у Гайдара хватило ума. Жаль, что он рано ушёл. Он бы всех вас отправил в психушку, чтоб не мешали… – А потом в трубке что-то зашелестело, какой-то песочек просыпался, но это всего лишь секунду. И вот секунда прошла – и снова голос Галины:
– А теперь подведём итоги. Я всё-таки жду и два раза не повторяю. И так: ровно в десять будь у нас, и я сдаю тебе внука. Посидишь возле Васеньки, полистаете книжки, он у нас любит картинки… Ну как – всё понял, запомнил? А не понял – так запиши на бумажке.
– Всё понял, но не приеду… Я остаюсь навсегда в Сосновке. – Он сказал это тихо-тихо и нажал на кнопку. Телефон замолчал, и Сергей Николаевич поднялся с дивана. А потом нашёл свою курточку и вышел на крыльцо. Ветер уже начал стихать, и небо очистилось. И там, высоко-высоко, за тысячи вёрст, обозначились звёзды. Они тихо-тихо мерцали, и этот свет успокаивал, утешал. И Сергей Николаевич вдруг подумал – как хорошо, что у него есть свой дом, своя родная деревня и разве можно это однажды бросить, оставить. И сразу, сразу же, почти мгновенно ему стало легко-легко, будто помог какой-то волшебник. Но никого рядом нет, и он поднял глаза на звёзды. Они всё так же тихо мерцали и успокаивали, и он вдруг услышал, как стучит его сердце. Но что с ним, куда оно заспешило? И Сергей Николаевич улыбнулся – ну что за вопросы. Ведь ему сейчас захотелось, прямо мучительно захотелось увидеть своего Васеньку – внука. В последний раз они вместе разучивали песенку, да так и не дошли до конца. И вот сейчас она поднялась в голове:
Баю, баюшки-баю,
Спати Васю укладу.
Люли да люли –
Прилетели гули,
Стали гули ворковать
Васю стали усыплять…
И Сергей Николаевич повторил вслух – «Васю стали усыплять… Он повторил и заплакал. А в голове поднялось – «Что же будет через год с моим Васенькой? А через десять лет, через двадцать? А вдруг появится новый Гайдар?.. Но нет, нет, ни за что…» – И у него сжались плечи. И он поднял глаза к небу и стал молиться.
…А я отложил перо и задумался. Я почему-то очень устал. Эта история про Сергея Николаевича просто измучила меня, обессилела. Да и как же иначе. Ведь мне всё время казалось, что мне не поверят. И кто-то даже скажет – чудак этот старик Стародумов – писал и рассказывал вроде про своего друга, а получилось так, – точно писал про себя. И как теперь разделить эти две судьбы? А я скажу в ответ – а вы не разделяйте, не надо. К тому же я написал в самом начале, что мы с ним, как близнецы-братья. Да и все старики друг на друга похожи: все они дорожат своими старыми друзьями. Ведь с ними связана молодость и начало жизни. Вот и мне опять вспомнился один старый друг, мой школьный товарищ. Звали его Лёня Шутов и моя история связана с ним. Но надо, как говорится, всё по порядку. Об этом я и буду сейчас писать. А началось всё это на наших семи холмах – в моей родной, незабвенной Сосновке.