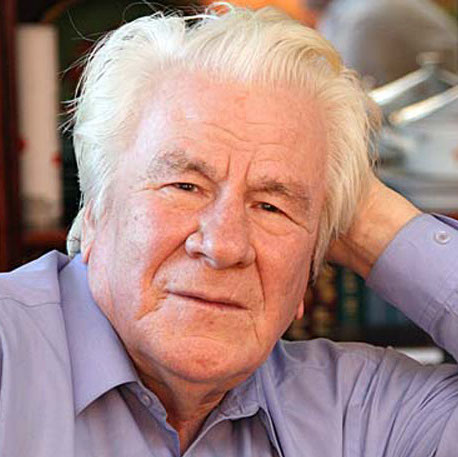III. А гуси летели высоко, высоко…
VI-VII. В полях. Ночи-ноченьки
IX-X. Дон Кихот из Обрядовки. Ночной сторож
XI-XII. Бесплатная лекция. Вредный старик
В гостях в друга
XIII
Лёня Шутов родился и жил у нас. Я даже сидел с ним на одной школьной парте. И такое было до десятого класса. А потом он уехал в институт, и теперь он – биолог и живёт в соседнем селе – Тарасовка. Там же и определилась его судьба. Но свою родную улицу он не забывает и часто приезжает в Сосновку. А я, конечно, жду эти встречи, ведь что ни говори – друзья детства…
Вот и в этот раз мы увиделись и не могла наговориться. Правда, встреча была по очень печальному поводу, – мы провожали в последний путь старого учителя Ивана Григорьевича. Почти каждый житель нашей Сосновки учился у него. Он отдал школе сорок пять лет. Почти вся жизнь, даже немыслимо... И за все эти годы он ни разу не позволил себе заболеть, ни разу не лежал в больнице... И такой внезапный конец! Да и когда ждёшь его и разве готовишься?.. Жил, ходил человек, улыбался тебе и здоровался и вот уж лежит весь в венках. А рядом играют трубы, и эта глуховатая печальная музыка растекалась вокруг, как дымок. И почему-то мешала. Хотелось постоять молча, задуматься, заглянуть в себя, что-то вспомнить, а эта музыка все время отвлекала, отбрасывала, да и на музыкантах, на их щёчках сиял румянец. Не утерпели всё же – приложились. Иван Григорьевич бы им не простил. Нет, нет, не простил бы. Он вел чистую и скромную жизнь. Наверное, потому, что преподавал биологию и всегда дружил с птицами и животными и взял от них много привычек. Вот и тогда его провожали и люди, и птицы. Они кружились над толпой и кричали. Особенно много было грачей. И пока мы шли до кладбища, они всё кружились над нами и что-то высматривали. Иногда они снижались совсем низко-низко, еще б миг – и они опустились бы на венки. Но в последний момент почему-то раздумывали. Наверно, боялись музыкантов, их больших неуклюжих труб.
Со мной рядом был Лёня Шутов. И я ещё раз повторю – это мой школьный товарищ. Он пошёл по стопам Ивана Григорьевича и преподавал биологию в сельской школе. Эта Тарасовка ему полюбилась, там он нашёл невесту, женился и купил большой дом. Об этом доме он мне тогда и рассказывал. Играла музыка, и многие плакали, под ноги из машины бросали сосновые веточки, а Лёня не унывал:
– Понимаешь, у меня дом на две половины. Да, да! Как жили дворяне. На одной половине – Рита, а на другой – мой кабинет.
– Лёня, потом, потом... На нас уже смотрят, – умолял я его и брал за рукав, но он точно не слышал, глаза призывно блестели:
– А ты ко мне приезжай! Мы купили корову, индюшек. А какая у нас рыбалка! Ты обалдеешь. Понимаешь, я завел бредешок. Неводок небольшой – метров семь, но весь карась теперь мой...
– Леня, о чем ты? Мы же за гробом... – Ну прости, я ведь соскучился. Зову, зову, а ты всё не едешь... Ну, конечно, друг, говорят, подождет. – Он усмехнулся, расстегнул плащ и стал смотреть куда-то на облака. Кожа на лице у него золотилась, точно у юноши, и я не вытерпел:
– Лёня, а ты помолодел!
– Да! Ритку свою догоняю. Ей недавно двадцать восемь исполнилось, а сама молодая, как комсомолка… Вот так, дорогой. Комсомольцы – беспокойная семья!.. Комсомольцы! — последние слова он даже пропел вполголоса, – и я чуть не вскрикнул от боли. Лёня, мол, да что ж ты делаешь. Вот уже кладбище начинается.
Толпа теперь двигалась по широкой аллее. Музыка уже не играла, и стало легче дышать. Птицы тоже не кричали, притихли. Грачи сидели на деревьях целыми семьями. Вид у них был спокойный, даже торжественный. Многие из них чистили клювами перышки, другие внимательно разглядывали толпу. Лёня задел легонько мое плечо:
– Послушай, ты хотел бы стать птицей? – Он сильнее сдавил плечо. Глаза у него блестели, лукавили, и я снова обиделся. Вокруг такое горе, и слезы, и траур, а у него – весёлые глаза, пустые вопросы.
– Так ты не ответил! – он рассмеялся, и я ещё больше обиделся.
– Лёня, потом, потом…
– А я хотел бы!
– О чем ты?
– О птицах... Как хорошо, наверно, иметь два дома, две родины! Нынче – где-нибудь в Сибири, а осень пришла – и полетел в Египет, поближе к солнышку, к тёплым морям.
– Две родины – многовато...
– Может быть, а всё равно – хорошо! И какая жизнь! Какая свобода! Вон взгляни – загляденье... – Леня поднял руку и показал на грача, который парил высоко над деревьями – то ли чего-то высматривал, то ли потерял свою стаю... Но в это время ожили трубы, и Леня втянул в плечи шею. Наверно, стало стыдно за свои разговоры, за свою радость, которая так и ходила в нём, распирала. Я-то понимал его – дома ждала молодая жена. И тем же вечером он к ней собрался. Я уговаривал ночевать, но он замахал руками.
– Не могу! Рита забеспокоится. Да и зачем ночевать? Дело мы своё сделали – человека похоронили. Иван Григорьевич теперь на нас не обидится. У меня вон уже начались огороды, а я всё бросил – приехал.
– Какие огороды?
– Ладно, будешь в июле – увидишь. А не приедешь – обижусь. Ты и на свадьбу ко мне не выбрался. Так что штрафной пить заставлю! – Он засмеялся и подмигнул мне, белозубый, счастливый. В темном финском плаще он походил на какого-то актёра: такие же светлые рыжеватые волосы, голубые глаза, большой подбородок. У самой двери он опять оглянулся:
– Подойди же, хоть поцелуемся!
– Лёня, мы не девицы!
– Правильно! – и он хлопнул дверью. Но ещё долго в моей комнате стоял его густой голос и сочный морозный запах – то ли от самого Лёни, то ли от какого-то дорогого одеколона. Но я знал, я помнил: так пахнет берёза в самом конце весны, перед тем, как разметать по кроне свои первые листья. Подойдешь к такому дереву и ошалеешь от радости, и забьётся сердце, а потом почти остановится, и обессилеет тело в неясной истоме, и гулко-гулко застучит в голове: то ли молоточек какой-то, то ли призыв, то ли кровь сама наполнится ожиданием...
Этот запах плавал по комнате несколько дней, а потом забылся – как не было. Да и сам Лёня Шутов тоже забылся, потому что в июле поехать к нему я так и не смог. А потом уж осень пришла. За нею – зима. И так год промелькнул, а за ним – другой. Время – вода. Его нельзя взять в ладони, оно прольется сквозь пальцы.
И только на третье лето я собрался в Тарасовку. А вначале была телеграмма от Лёни: «Приезжай двадцатого. У Риты именины. Обнимаем, ждём с нетерпением». Я повертел в руках телеграмму и сразу поехал. И когда садился в автобус, во мне все звенело от радости – неужели скоро увижу речку и зелёную травку! А за речкой той – лес, живые сосны, берёзы!.. Я однажды проезжал через эту Тарасовку. И вот всё вспомнилось, завертелось в душе. И вот наконец-то вырвался! И потому я не ехал, летел на крыльях. И всё бы хорошо, но я вспомнил, что еду пустой, без подарка. Но постепенно все выровнялось – я успокоился. В конце концов зайду в сельмаг и что-нибудь выберу. Это решение вовсе утешило.
Через два часа показалась Тарасовка. Я вышел в центре села, у самого магазина. Он был открытый, и я сразу бросился к двери. Магазин был большой, с двумя отделениями. В одном продавали печеный хлеб, печенье и ржаные темные пряники. Тут же стояли банки с разными соками и искрились от сахара карамельки. В другой половине продавали обувь, одежду, разные расчески и бусы, всякую мелочь. На эту половину я и пошёл. И первое, что бросилось в глаза – был большой лист белой твердой бумаги, на котором стояли слова: «Товары под закуп». Внизу висело кожаное пальто, женские дорогие костюмы. А рядом с пальто красовались импортные джинсы с яркой желтенькой этикеткой.
– Почем товар? – спросил я у молоденькой и пикантной продавщицы. Она взглянула снисходительно на меня и устало моргнула.
– Что вы сказали? – она смотрела теперь прямым вызывающим взглядом. На её лице, густо выпачканном косметикой, сияли огромные серые глаза. Про такие давно уже сказано – это не глаза, а озера. Многим бы захотелось в них утонуть, но я не стал себя искушать.
– Девушка, мне нужен подарок. Для женщины лет двадцати трех-четырех...
– В двадцать три мы – не женщины! – её озера повернулись ко мне и обдали холодом отчуждения. Потом в озёрах заволновалась вода и начался маленький шторм.
– Не понимаю: приходят и не знают, что надо.
– Мне надо вот эти джинсы! – Я рассмеялся и потянулся рукой, захотел их потрогать.
– Прикасаться нельзя! Эти брюки под закуп. – Она нахмурила свой бледно-розовый лобик. – Сдавайте десять килограмм шерсти или же… – она задумалась и сжала сердито губы. Но почему она сердится? И тогда я не выдержал:
– Значит, надо пять баранов остричь, чтоб еще одного барана одеть?
Девушка фыркнула и неожиданно улыбнулась.
– А вы несовременный, да-а? – она протянула немного гласные, наверно, у кого-то перенимала. – Не беспокойтесь, эти джинсы не залежатся. Что? Что-о-о вы сказали?
– Да ничего! Дайте мне любые духи.
– Любые не могу-у. Даю только хорошие. – Она наклонилась под прилавком и вытащила оттуда зелененькую коробочку. – Вот «Малахит». Между прочим, последние...
– Если последние, то заверните!
– А духи не завёртывают. Они сами в футляре. Да-а-а. – Она опять фыркнула и покачала укоризненно головой. Она, видно, за что-то меня осуждала. Но всё равно я решил ей надоесть:
– Скажите, где живут у вас Шутовы?
– Ритка-то или Леонид... как его?
– Они, они! – Я вздохнул облегченно, да и продавщица смотрела на меня теперь веселей.
– А вы пройдите до конца улицу. И начнётся бор. Они там и живут. Зелёный дом, большие ворота.
На этом мы и простились. Я пошёл вперёд быстрым шагом. И через двадцать минут был у цели. Дом был, действительно, зелёный, и ворота были большие, окованные железом. Возле ворот стоял Лёня. Он как будто бы ждал.
– Ну наконец-то! – он кинулся ко мне, и мы обнялись, как после долгой разлуки.
– Надолго к нам? Три дня проживёшь?
– А у гостей, Леня, не спрашивают. Именины-то не отпраздновал?
– Тэбя жду, дарагой! Прахады, кацо, гостэм будэшь! – Лёня засмеялся и потащил меня за рукав в ограду. И тут я увидел женщину! Это было чудо, нет, лучше чуда! О такой можно грезить ночами, за неё можно и умереть.
Она стояла на крыльце, улыбалась. На ней было платье вишневого цвета, на шее – розовый шарфик, повязанный набок. А глаза совершенно чёрные, с синеватым отливом, смотрели прямо на меня и призывно лучились. Так смотрит мать на своё дитя, так смотрит сестра на любимого брата.
– А мы вас так ждали! Правда, Лёня? Мы ведь так ждали! Все глаза проглядели.
– Правда, Рита. Ну как же? — суетился Лёня возле меня, и мне стало так хорошо, что я зажмурился. И кругом – сосны, сосны.
— Так вы, значит, с Лёней когда-то учились? – спросила Рита и, не дождавшись ответа, протянула мне сверху руку, точно бы собиралась поднять меня на крыльцо. И странное дело, я подчинился, я тоже подал ей руку, и она легко меня подняла сразу же на вторую ступеньку. Теперь я стоял с ней рядом, только моё лицо было чуть пониже, но я уже слышал её дыхание. И только одно мешало – я почему-то стеснялся смотреть ей прямо в глаза, и она тоже почему-то смущалась. Так прошла минута, может, меньше минуты, и она снова заговорила:
– А вы не ответили. Вы, значит, с Леней учились?
– Да, да, я с Леней учился в одной школе, на одной парте сидели. У нас в классе было восемь мальчишек.
– А где же они теперь? – она хмыкнула и посмотрела на меня в упор. Ресницы над глазами дрожали, порхали и походили на юрких стрижей.
– Ну где же они?
– Иных уже нет, а те – далече... – я вздохнул, а она рассмеялась.
– Стишки читаете. Я в них не секу... – она опять засмеялась. Смех был густой, напористый, как у цыганки. И так же призывно, цыганисто сверкали глаза, лицо её притягивало к себе, не отпускало.
– Мальчики, а теперь в дом, в дом. – И она шагнула вперёд, потом оглянулась.
– Лёничка, приглашай гостя. Ты что-то у меня онемел? Мы прошли веранду и попали в длинный вместительный коридор. Рита двигалась как королева. Плечи её слегка подавались назад и чуть заметно покачивались. По плечам рассыпались волны – такие же черные, как и глаза. Не волосы, а птичье крыло. Цыганка Аза, – подумал я и рассмеялся.
И вот мы уже в большой комнате. Она просторная, почти что квадратная. На стене – нарядный красный ковер. Посредине – широкий стол, заставленный яствами. Ножки у стола гнутые, как будто бы лапы льва. А слева от стола – книжная стенка, но книг там мало – больше посуды. Хрусталь, фарфор, серебро. И все это горит, цветет и слепит глаза. И я сразу не выдержал:
– Хорошо живете! Богато!..
– Значит, понравилось? – Рита оглянулась, и у неё заметались ресницы. – Ну ладно, не отвечайте, всё равно скажете, что понравилось. А я вижу, вижу, догадываюсь. Я же цыганка – на расстоянии читаю.
– Цыганка?
Ты её слушай, – вмешался Лёня. – Она наговорит. Она же артистка. В молодых ещё ходит…
– А молодёжи здесь много? – спросил я и посмотрел на Лёню. Он и рта не успел раскрыть – опередила жена:
– Спросите что-нибудь полегче. Говорят, было много лет десять назад. А потом стройку открыли в райцентре и парни все убежали. А за ними – девчата. Я тоже хотела... Но вот Лёня не пустил, – она оглянулась на мужа, и тот смутился и начал покашливать. Я заметил, если она смотрела на него, то он даже сутулился и как-то неловко двигал плечами и покусывал губу. Но мои мысли опять прервал её густой, накатистый голос. Она, наверно, любила командовать и приказы слать.
– Вот что, мальчики. Вот вам каждому по стулу – и садитесь. А у меня знаете что случилось?
– Не знаем, – схохотнул Лёня, и в лице у него означилось что-то слабенькое, угодливое. Таким я его не видел.
– А у меня, мальчики, сильно ладошки чешутся. К чему бы?
– К дождю, к дождю! – поддакнул ей Леня и подмигнул мне – смотри, мол, какая у меня жена.
– Правильно, к дождю. Отгадали. – Рита придвинула стул и сама села рядом. – А я-то смотрю, что Гнедко наш сильно гривой трясет. И с утра стучит копытами, не успокоится. Надо бы его, Леня, какому-нибудь табуну пристроить.
– Пристрою... – пообещал Лёня и посмотрел извинительно на меня.
– Понимаешь, лошадь завел. А что делать – жить надо. Вон жена машину просит, а где возьму – на зарплатку не купишь.
– Да ладно тебе... – обиделась Рита и как-то рывком сдернула с шеи шарфик.
– Да я, Рита, рассказываю. А чего... А по осени в Казахстан лошадку. Слава Богу, конинка-то – не свининка. Казахи за неё какие угодно деньги дадут... – Лоб у него вспотел, покрылся испариной, и опять в нём явилось что-то незнакомое мне, лакейское – и мне стало враз тяжело, и голова заболела.
– Я ведь вам и подарок привез, – от неловкости я не знал, что и говорить.
– Потом, потом подарок. – Рита прищурилась, заиграла зрачками. – Это у нас, мальчики, будет генеральная репетиция.
И я улыбнулся ей и вздохнул посвободней:
– Ну пусть – репетиция. Только я вам желаю в ближайшее время сыночка.
– А вот такого добра не надо! – она нахмурилась и покачала укоризненно головой. И только я хотел возразить, она меня перебила:
– А басню слышали?.. Сын институт закончил и приехал домой. Отец ему говорит: «Сынок, ты уже взрослый стал – я тебе свои «Жигули» дарю». – «Хорошо, папа, хорошо, – соглашается сын. – А что еще?» — «А сейчас с тобой диплом спрыснем и на почту пойдем: я сниму с книжки тридцать тысяч рублей и тебе отдам». – «Хорошо, – соглашается сын. – А что, мол, еще?» – «Через полгода оженишься – я тебе эту квартиру отдам, а сами с твоей матерёшкой где-нибудь прокантуемся». – «Хорошо, папа, хорошо, – соглашается сын. – А что еще?» – «А через месяц, сынок, ты работать пойдешь. Я тебе тут кое-что присмотрел». – «Ну, папа, заболтал, заболтал...»
– Ну и что тут? – удивился Лёня и посмотрел вопросительно на жену.
– Так это же сынок ему отвечает – заболтал, мол, ты, заболтал. И мораль тут, мальчики, наверху – все современные детки такие. Так что рожать выше сил. Да и я уже в возрасте… Вы, мальчики, пока покурите, осмотритесь, а я на стол по-настоящему соберу.
– Верно! – поддержал её Лёня и посмотрел на меня долгим взглядом. И вдруг усмехнулся:
– А что, дорогой, пойдешь глядеть моих индюков?
– У нас и коровка есть! – подговорилась Рита. – Но сейчас, конечно, на выгоне. У нас с Лёнечкой даже есть поросёночек.
– Всё при нас, дорогой мой. Живём, как говорится, не плачем, – рассмеялся Лёня и похлопал меня по плечу.
– Да как же вы успеваете?
– Успеваем мало-помалу. За индюками, например, мои школьники ходят. Я же биолог – наследник Ивана Григорьевича. На могилке-то не бывал?
– Нет, Лёня. Кругом недосуг да всё некогда.
– Верю, верю. Вот и мне школьники помогают. Изучают предмет мой в натуре.
– Не в натуре, Лёничка, а в разрезе! – Рита сбила ему шаловливо прическу и застучала посудой.
– Ну а корова тебе зачем? Вас же двое?
– Э-э, надо! Выполняем приказ губернатора – увеличиваем продовольствие на душу населения. Обо мне, дорогой, даже в газете писали! Учитель, мол, а про крестьянство не забывает... Да мне и не в тягость. А излишки все на базар. У меня тёща есть боевая... Она и торгует, она и подсчитывает. Тёща есть тёща. Через часок заявится – познакомлю.
– Лёня, а ты изменился?
– Не знаю, не знаю... Как-то надо жить бедному человеку, а? Сейчас же капитализм. Ты не согласен? А у меня жена ещё молодая, не наигралась, не нагулялась. А ведь красавица, да?
– Да, Лёня, да! Только у меня голова заболела.
– А ты отдохни. Для тебя и комнатка есть. Одно плохо – там окно прямо на бор. А эти стервецы сильно кричат. Надоели гады. И ночью кричат. У Риты просто бессонница...
– Кто кричит?
– Грачи, дорогой, грачи. Да ты не смейся – узнаешь. А теперь – на-ле-во! И марш за мной!
Через секунду мы стояли уже в маленькой очень удобной комнате.
– Располагайся тут, отдыхай. А я помогу жене. – И Лёня исчез. Комнатка была просто чудесная. Направо у стены стояла кровать, а рядом – небольшой стол, на котором лежала стопка тетрадок. У другой стены возвышался большой книжный шкаф под старину, и мне сразу же захотелось открыть его. Но я открыл первым делом створку. В комнату ворвался прохладный сосновый воздух. Сосны шумели, грачи кричали, и в груди у меня все поднялось и замерло, и я понял, что со мной должно что-то случиться хорошее, удивительное, и я еле-еле выдохнул из себя – и от груди сразу же отлегло. Грачи кричали рядом, куда-то собирались, спешили... «Но куда же они спешат?» – спрашивал я себя и улыбался. В груди поднималось чудесное обволакивающее тепло, и вдруг я вспомнил такое далекое, такое нежданное... И даже не верилось, что это со мной было... Может, из какой-то книжки пришло, может, приснилось мне сейчас, наяву. Но вначале возник голос, и я сразу узнал его: это бабушка моя щурилась и покачивала головой: «Посеял отец две десятины гороху. И повадились грачи на этот горох летать. Он и поймал одного грача, прямо за крыло ему крепко вцепился, хохочет. «А-а, говорит, каркалко, попался ты мне, не уйдешь». Только хочет он его бить: «Не бей меня, пожалей, я тебе пригожусь, я тебе что-то дам». И вот уж в клюве у него – скатерть откуда-то. Да уж и грач говорит: «Шита, брана скатерть, развернись, раскатись! Дай нам, добрым молодцам, попить, погулять!» Скатерть развернулася, раскатилася, и явилося на ней всё – прямо ешь – не хочу. «Молодец ты, каркалко, слово выполнил». И отпустил человек грача. Я улыбнулся, и захотелось удержать это, побыть с ним... Но голос уже пропал и не возникал во мне.
Закричали грачи. Ох, грачи, грачи... Иногда эти крики прерывались, замолкали на время, видно, стая отлетала куда-то, и сразу же после этого оживали сосны. И этот монотонный, зелёный шум заходил в створку, и мне захотелось здесь остаться надолго. И я знал, почему захотелось. Шум сосен походил на шум моря, а море я любил больше всего...
Потом взгляд упал на кровать. Гора подушек манила к себе, успокаивала. На этой горке лежала пачка свеженьких простыней. Это же для меня они, для меня! – догадался, и сразу же благодарность сдавила мне сердце, и я подошел к самой створке. Мне нестерпимо хотелось в бор – сосны покачивались, задевали друг за друга, шум хвои был как шум прибоя. Он наплывал такими же волнами, то спадая, то нарастая. И хотелось слиться с ним, с этим шумом, так же, как порой хочется слиться с прибоем, обнять его, раствориться, чтобы только одно тело, одна душа... Но вот шум прервался, как будто на него надвинули крышу. А эта крыша была – громкие крики. И вдруг я понял, догадался: у грачей, наверно, вылетели из гнезд грачата, и родители учили их летать. «Какие они счастливые! – подумал я о грачатах. – Сегодня они впервые узнали небо!» И в этот миг меня отвлекли. В дверь кто-то стучал ровным, вежливеньким постукиваньем. Я открыл – на пороге был Лёня. На нём – белая отглаженная рубашка. Все блестело, переливалось, точно он именинник, а не жена.
– Пойдем пройдемся. У Риты почти всё готово.
Мы вышли на высокое крыльцо. Грачи продолжали громко кричать. Их что-то всё-таки беспокоило.
– Они и ночью вас беспокоят? – спросил я у Лёни и показал рукой в небо.
– Ох, не говори! Всю душу вымотали. Вначале мне даже нравилось, а потом, как кость в горле – повторил он устало. Глаза его сухо поблёскивали. Меня немного пугали эти глаза.
– Слушай, Лёня, неужели ты лошадь купил? Никогда б не поверил.
– А что? Вон видишь крытый загон. А подальше – хлев для индюшек. Рита мне ещё кроликов предлагает.
– Шапки будешь шить?
– Теща будет. – Он заулыбался, и непонятно: то ли шутит, то ли говорит правду. На лице у него выступил пот. Он расстегнул ворот рубашки:
– А лошадка у меня ненадолго. Доживет до ноября, и Джапар из Кустаная приедет.
– Кто такой?
– А-а, пустяки. Есть тут один перекупщик. Он в накладе у себя не останется. Он у нас жеребят да коней набирает и понужает их подальше – до Кокчетава. А там уж для коня – другая цена, другие законы. И денежки, конечно, другие... Эх ты, Джапар, удалая голова! – Лёня почмокал губами. – Если б ты знал, как его бабы любят! Они любят богатеньких-то...
– А ты, Лёня, купец!
– Нет, кацо, я дэловой человек. А как жить прикажешь?
– А душа-то, Лёня? Неужели зря мы учились?
– Ты – идеалист, дорогой... – он как-то кисло, подавленно улыбнулся и посмотрел на меня внимательно. Потом опять улыбнулся:
– Ну вот что, пойдём на мои бахчи. Всё равно жена пока не управилась. – Он открыл какие-то дверцы, и мы вошли в огород. Глаза у Лёни блестели, лоб покрылся испаринкой. Он почему-то разволновался. Да что с ним? Я не понимал. Наконец он выдавил из себя:
– Понимаешь, я занялся тут опытами. Да, да, выполняю наказы Ивана Григорьевича. Вот так, дорогой. Посадил ранних огурцов, помидоров. Даже арбузы рискнул... Да, да. Вначале делаю рассаду, а потом высаживаю в горшочках. В прошлом году было три сотки, а собрали, бог ты мой, – лето было сухое, арбузное. Первый иней пал десятого сентября. Тёща где-то автофургон-«москвичок» раздобыла да на базар свезла, так ты знаешь, сколько мы денежек себе положили... Ох прости-извини, ты же у нас деньгами не интересуешься. – Он подмигнул мне и шагнул широко вперёд. У кучи с перегноем остановился.
– Вон гляди, нынче под арбузами у нас сразу пять соток, остальное – огурчики, дыньки. А картошку я посадил у забора, да ещё в деревне у меня есть участок, – он махнул в сторону дальних домиков. – Дело это понятное – у меня же нынче запланировано два боровка...
– Биология, значит, на практике?
– Во-во, дорогой. – Он, видно, не понял иронии. – Лев Толстой тоже землю пахал.
– И босиком ходил, – добавил я и зажмурился. Мне вспомнился наш далёкий незабвенный Иван Григорьевич. Во время войны он раздал всё своё имущество эвакуированным.
– Босиком-то босиком... – перебил меня Лёня, – а вот в хозяйстве ты, наверно, не смыслишь.
– Почему так?
– А идешь как медведь. Вон прямо в луну наступил, – он нахмурился, поднял голову.
– Лезут, черти. Нет, надо всё ж покупать ружьё. Права Ритка. Без пушки никак нельзя.
– Кого ты, Леня?
– Что, не видишь – грачи. Полумеры тут не помогут, – он отвернулся и стал говорить сам с собой. Плечи у него сутулились и выражали страдание.
– О чём ты, Леня, ворчишь? У тебя праздник скоро – жену поздравлять.
– Ой, не говори. Грачевник рядом – прямо беда. По три гнезда на каждой сосне. Что ни посадишь – сразу склюют да выроют. Но ничего! Рита за них крепко взялась. А то ведь орда чёрная. Птичья орда... Вон она кружится, даже просветов нет, – он показал рукой в небо и закричал. Но крик этот утонул, как камешек в море.
– Вот видишь, милый, даже не обращают... – он повернулся ко мне и стал обтирать платком щеки. Его красивые рыжеватые волосы скатались в мокрые сосульки, возле губ проступили морщины. Мне стало его даже жалко. Я вспомнил, как однажды Иван Григорьевич вызвал его к доске и обратился к классу: «Посмотрите, ребята, на нашего Лёню. Он лучше всех знает мой предмет. Я верю, он в жизни займётся наукой...» Высокий худенький мальчик смущенно моргал, а по лбу пробегала нервная складка. Сейчас она тоже была – эта складка. И ещё одна и ещё. Он почему-то состарился. Да что с тобой, Леня?! – вдруг закричало что-то во мне, но я не проронил ни звука. Сдержался. Зато птицы без остановки кричали. Иногда они пролетали прямо над нашими головами. Им хотелось то ли защитить кого-то, то ли напасть на нас. Я даже видел, как они целились прямо на наши головы и снижались, но потом отворачивали. А Лёня всё шёл и шёл вперёд.
– Вот это всё, милый, моё богатство. Пять соток арбузов, а рядом – огурчики, дыньки. – Глаза у него блестели, и мне не нравились ни эти глаза, ни это снисходительное слово «милый». Откуда оно? Называл бы лучше по имени. Но Леня не давал мне задуматься:
– Всходы по весне были добрые. Если б не птицы. Не успеет листик проклюнуться – они тут как тут. И прямо живьем, целиком глотают. Хорошо, Рита придумала. Теперь немного боятся... Да вот смотри... – и он показал рукой вправо. Там была воткнута палка, а на ней трепыхалась черная тряпка.
– Что это?
– Птица, милый. Госпожа птица. Живое пугало – ты усек?
Мы подошли поближе. Я взглянул на палку и обмер. К верхнему концу палки был привязан грачонок. Он был еще живой, трепыхался. Он пробовал даже взлететь, но верёвочка не отпускала. Иногда ему удавалось взлететь на целый метр, может, выше, но через секунду он уже обессиленно падал. Крылья стукались о палку, терялись перья.
– Что это, Лёня?
– Ха-а, да это же пугало. Живое пугало. Я тебе говорю, что жена придумала. И птица видит сверху и не садится. А что теперь делать, милый? Тут не до жалости. Иначе весь огород прикончат, всё кругом поклюёт...
Но я плохо слышал. Я подошёл почти вплотную к грачонку и хотел к нему прикоснуться. Но рука сразу отдернулась, потому что мне показалось, что он умер, вот только что умер у меня на глазах. Я собрал всю волю и взял птенца за твердый, почти каменный клювик. Глаза открылись – разошлась тусклая плёночка. Из клюва вышел еле уловимый парок – дыхание. Я подержал клювик секунду, потом выпустил. Грачонок опять трепыхнулся, посмотрел куда-то мимо меня, в глазах у него что-то напряглось желтоватое, погибающее, ещё миг – и совсем погибнет, как в воду канет. Я опять подошёл совсем близко к грачонку, надо мной закружились птицы. Чем ближе я подступал к грачонку – тем больше птиц. Так много – целое облако. И вдруг я вспомнил:
– Ты хотел бы стать птицей, Лёня?
– Ты что, смеешься? Я тебе хочу про бахчи, а ты мне анекдоты...
– Ну прости, прости я вспомнил, что ты однажды хотел стать птицей. – И в тот же миг вошла в меня та музыка. И вошла она, завладела. И сразу нежно, печально вздохнули басы, потом напряженно заныли трубы. Он что-то говорил, но я не слышал. Да и мешали птицы. Они кричали, хлопали крыльями, одна из них особенно громко кричала, подлетая почти к самой земле. Я посмотрел вперёд, туда; куда хотела опуститься птица. И вдруг меня обожгло, опалило, как будто в глаза мне выплеснули какую-то молнию... Нет, десятки, тысячи молний. Там впереди на высоком, кривеньком колышке метался в муках ещё один грачонок. У него ещё были силы, и под их напором колышек шатался. А рядом с ним, отступив метров на шесть, стоял ещё колышек, а рядом – третий, четвертый. И на каждом корчилось по грачонку. Все они были еще живые, все хотели взлететь, но веревка мешала.
– Что это?! Что это?! – я закричал, поднял руки, но не услышал голоса, сам себя не услышал. В горле, наверно, что-то настыло, что-то мешало. Я вроде бы и кричал, но у меня, наверно, только вытягивались губы. И по этим открытым страшным губам хозяин понял, что мне плохо.
– Что с тобой? Успокойся! Это Рита недавно придумала. А тебе, что ли, жалко? Они всё равно бы погибли. Тут три дня назад погода была, ветер – шесть баллов. Он и покидал грачат из гнезда, их много было по бору...
– Кого покидал? Кого? – смотрел я на него и не видел. Глаза у меня застилало.
– Да птиц же покидал! Да ты что, очумел у меня?.. – он взял меня за плечо, но я сдернул руку.
– Птиц, птиц, птиц... – стучало у меня в голове. Эти грачата кричали прямо в висках, трепыхались. И над головой у меня кричали, и далеко в небе, и ещё выше. Выше, выше, всё выше... – И это был вопль не то о смерти, не то о спасении. И я не мог это вынести. Я бросился вперёд – куда-то прямо по грядкам – лишь бы убежать, закрыть уши, забыться...
– Куда ты? Здесь же насажено?! – кричал за спиной, заливался Лёня, а я всё бежал, бежал, точно и меня могли сейчас поймать и привязать на какую-нибудь злую верёвку.
…Я бежал очень долго, пока не выбрался на дорогу. И тут возле дороги я упал на траву и зажал виски. Лежал очень долго, может, час, а может, и больше... Потом очнулся, открыл глаза. И в этот же миг опять услышал их крики. Птицы кричали, постанывали, но уже глухо, чуть слышно. Я приподнялся на локтях, оглянулся. Далеко позади клубились в июньском мареве сосны. А над ними черными кругами кружились птицы. Я поднялся на ноги и пошёл вперёд быстрым шагом. И шёл очень долго, но потом не вытерпел – опять оглянулся. Птицы и деревья слились теперь в одну точку. Она качалась в воздухе, двигалась, была как живая. И эта точка опять напомнила птицу. Потом и это растаяло, как будто птица залетела за горизонт.
…Вот и конец этой истории и в душе какая-то пустота. Точно я только что попрощался с кем-то очень дорогим и любимым и сейчас не знаю – как дальше жить. Но жить-то надо, надо, надо. Ведь печаль – это грех и грех неохватный, который не замолить никогда. Так что ищи утешение и надежду. А утешение у меня одно – мои тетрадки, моё перо. И потому садись за стол и работай. К этому призывает душа, и я подчиняюсь.
Приезжая
XIV
Самое трудное в жизни – на что-то решиться, поставить цель. Вот и сейчас я снова спрашиваю себя – кому нужны мои рассказы, воспоминания и в чьи руки попадут эти тетрадки? Вся надежда, конечно, на мою Аннушку, на кого же ещё. Слава Богу, она у нас – умница и всю жизнь берегла своего Сенечку и слова грубого ему не сказала. Так что моя половинка что-то придумает, в крайнем случае отнесёт эту писанину в школьный музей. А там уж – будь что будет. Так что надо бы мне побольше рассказывать об учителях, о школе, надо бы… Вот о чём я размышлял, когда склонился над чистым листом бумаги. И пока я так думал, моя ручка вывела уже заголовок и назывался он – «Приезжая». Правда, ещё минуту назад, в голове моей теснились другие названия. Такие, как «Англичанка», «Ищу человека» и «Приезжая». Я остановился на последнем, хотя волнения мои не прошли. А волнуюсь потому, что знаю, даже уверен, что кто-то меня осудит – опять, мол, старик Стародумов что-то выдумывает, а про своих земляков он, видно, забыл. Нет, не забыл, дорогие мои, не забыл. Хотя душа моя плачет, рыдает от того, что людей в Сосновке всё меньше и меньше: кто-то из стариков уже умер, а кто-то, вроде меня, ушёл в своё одиночество и тоскует о своей школе, о прошлом. Ведь ещё лет десять назад школа у нас процветала, а сейчас превратилась в сиротку – не хватает учителей и это беда. Даже английский язык пришлось убрать из программы, и такое продолжалось два года подряд. Но вот всё изменилось, – англичанка наконец-то нашлась. И это была молоденькая учительница Анечка Соловьёва. Она приехала к нам из соседнего города Челябинска – преподавать английский язык. А почему девушка выбрала Сосновку? Ответ очень прост: когда-то, ещё в прошлом веке, её родители жили у нас, а потом уехали в этот уральский город и с собой увезли шестилетнюю дочь. И вот дочка выросла, закончила институт и пожелала – в нашу Сосновку. Какое-то притяжение состоялось. Или повлияли рассказы родителей, а может, вспомнилось детство. Но не буду гадать, ведь хорошо, что приехала…
Она появилась у нас в школе в разгар лета. И едва отдохнув с дороги, побежала купаться. А я сидел тут же, на пляже с двумя удочками перед глазами. Но, как всегда, плохо клевало, и я о чём-то думал, скучал. И вдруг совсем рядом взметнулся фонтан воды, и кто-то радостно крикнул и поплыл наразмашку. Это и была Анечка Соловьёва. Она плавала долго и исступлённо, а потом, устав, вышла на берег. Я взглянул в её сторону и поразился – на ней был странный полосатый купальник: белые искристые полоски разбегались по зелёному полю. И в моей голове сразу ожили строчки о том, что «полосатое трико её на зебру делало похожей…» Я улыбнулся, – а ведь прав поэт, наверное, лучше и не придумать. Но вот зебра накинула на плечи халатик и пробежала мимо. И даже не пробежала, а порхнула, как птичка. Забегая вперёд, скажу, что наши старшеклассники так её и прозвали – «Птичка-птичка, птичка-невеличка». Но на это были свои причины, о которых немного попозже. А пока напишу самое главное: мы все полюбили нашу приезжую. И уроки у ней – что надо! Она ведь говорила по-английски, как англичанка. И с методикой у ней была дружба. Я был у неё на открытом уроке, и мы на педсовете оценили урок по высшему баллу…
А теперь о других талантах Анечки Соловьёвой: она ведь ещё писала стихи и играла на гитаре. А однажды показала нам, как воркуют голуби, как чирикают воробушки и разные птички. Ей даже удавались соловьиные трели. Видимо недаром носила фамилию – Соловьёва. И потому надо ли удивляться, что наши мальчишки прозвали её «птичкой». И, конечно, все эти таланты привели нашу англичанку в литературную студию при Сосновской школе. А студией руководил учитель литературы Стародумов Семён Петрович. И я с радостью давал Анечке разные поручения. Мы ведь даже выпускали рукописный журнал «Сосновские зори», а раз в месяц проводили литературные вечера в нашем клубе…
И вот вспоминается один такой вечер. Он был необычный: к нам из соседнего города приехал очень известный поэт по фамилии… А впрочем, назову его просто Сергей Иванович, к тому же я ещё раньше пообещал настоящие фамилии держать под замком. И думаю – это правильно, ведь я простой учитель-пенсионер, а не какой-нибудь прокурор. Да и не люблю я кого-то осуждать и залазить в душу… Но, кажется, я отвлёкся, и потому продолжаю свой рассказ о том поэтическом вечере. Он в нашем клубе и зрителей пришло столько, что не хватило сидений, и потому кто-то стоял у стены или толпился в проходах. И вот занавес открылся, и все увидели Анечку Соловьёву. Она стала рассказывать о нобелевских лауреатах – Иване Бунине и Иосифе Бродском, а потом читала свои стихи и пела под гитару. Анечку сменили наши школьные поэты-студийцы. А в самом конце вечера выступал наш гость Сергей Иванович. Анечка объявила о его выходе очень громко, уверенным голосом, а я почему-то разволновался – вдруг его плохо встретят, а он же – гость. Но потом я успокоился и даже выбрал место поближе к сцене. А там уже хозяйничал Сергей Иванович. На нём был толстый вязаный свитер, а на голове – шерстяной чёрный берет. Конечно, минутой раньше, я посоветовал ему освободиться от лишней одежды и остаться в рубашке, ведь в клубе жарко, просто нечем дышать. Но гость не послушался и даже не снял с головы берет. Но это всё чепуха, – зато выступал он здорово. Голос его прямо брал за живое, и я сразу же вспомнил известного диктора Левитана – такая же интонация, такой же напор. И все сразу влюбились в нашего гостя, особенно Анечка Соловьёва. Глаза у неё прямо горели, сияли. А когда он стал читать пародии на современных поэтов, Анечка поднялась со стула и слушала его стоя. А потом к поэту выбежали мои студийцы с цветами и наш гость начал раскланиваться и что-то выкрикивать в зал. Но все слова заглушили аплодисменты. А потом на сцену снова впорхнула наша птичка – Анечка Соловьёва. В руках у ней были опять цветы. И букет такой огромный, что Сергей Иванович не удержал его, – и букет упал прямо к ногам. И кто-то снова зааплодировал, но Анечка подняла руку и что-то сказала. Но все её поняли – значит вечер закончился.
А потом школьников отпустили домой, и в зале остался взрослый народ. И вот уже гремит музыка, и начались танцы. И опять лучше всех была наша Анечка. У меня не хватает слов, чтобы её описать. Но всё же попробую, ведь попытка – не пытка. Хотя все слова куда-то убегают и прячутся от меня. Ах, если бы был талант, если бы… Но где его взять, за какие деньги купить?! О, Господи, прости меня за эти вопросы, за все мои пустые мечты! Но я всё равно попробую вспомнить, попробую описать. К тому же вся эта картина так и стоит в глазах. Ведь наша Анечка была, как говорят, нарасхват. Особенно часто с ней кружился высокий, рыжеватый парень – наш учитель физкультуры. И я, грешным делом, подумал – вот бы и женить их, ведь отличная пара. А музыка между тем не стихала, и наша птичка порхала из угла в угол, и в её больших синих глазах сияла радость. И теперь она напоминала какую-то змейку, которая вся вилась, изгибалась, заставляя думать о чём-то тайном, волшебном, о чём даже словами не скажешь, да и какие тут слова, какие… Только бы смотреть и смотреть. И мы не сводили глаз с этой пары. Наблюдал за Анечкой и Сергей Иванович.
Он сидел в дальнем углу зала и был в благодушном настроении. Перед ним стоял низенький столик, на котором возвышалась бутылка вина, а рядом на тарелке – конфеты. Кто-то позаботился о нашем госте, и я совсем успокоился. Значит, всё хорошо у нас, значит, гость будет доволен. А тот уже был не просто доволен, а витал уже где-то под облаками. Ему, видимо, понравилось наше вино, – и лицо у него расплылось, раскраснелось, а по щекам – капельки пота. Он даже снял с головы свой злополучный берет, а там – Боже мой, лучше бы не снимал. Ведь голова была совершенно лысая и напоминала бильярдный шар. Но это уже было не важно. А самое важное было впереди – там кружилась наша пара. Но вот музыка смолкла, и все засобирались домой. И Анечка тоже накинула на плечи плащик и взяла в руки сумочку. А та оказалась тяжёлой, разбухшей от подарков и сувениров. Анечка приподняла её и поморщилась, и это заметил Сергей Иванович. И сразу:
– Позвольте за вами поухаживать. Я понесу вашу сумочку…
Но Анечка запротестовала:
– Нет, нет, меня проводят и даже довезут на машине, – и наша птичка показала ладонью на того – с рыжей головой.
Но сумочка уже была в руках гостя, и он, не смотря на свою тучность, быстрым шагом направился к двери. А следом – и Анечка. И так они оказались на улице. А я видел, как наша птичка что-то щебетала, доказывала, но старый ловелас её плохо слушал и быстро вышагивал – всё вперёд и вперёд. И Анечка уже бежала за ним вприпрыжку и, наверное, ей не хотелось терять свою сумочку, ведь там могли быть и деньги, и документы, да мало ли что. А Сергей Иванович уже, кажется, что-то задумал и потому шагал всё быстрее, быстрее. А идти надо было до школьного общежития, – там нашему гостю выделили отдельную комнату. Туда он и спешил. И, конечно, минут через десять они были уже у цели. А там… Впрочем, не буду фантазировать, что там было, ведь есть такое понятие, как личная жизнь. И я не буду туда заглядывать, к тому же я не склонен читать морали. Однако, я вынужден сказать, что Анечка через два дня от нас уехала. А с кем уехала? Смешной вопрос, – конечно, с ним – с этой приезжей знаменитостью.
А через два года я снова увидел нашу птичку в своей школе. Она приехала к нам за какой-то справкой. И Анечка мне показалась старушкой. Тёмные, в каких-то жёлтых подтёках щёки. А вместо глаз… Но нет, нет, я боюсь это даже произнести. Ведь вместо прекрасных глаз – какие-то узкие, припухшие щёлки. И я не вытерпел и спросил:
– Что с тобой? Тебя не узнать?
– Понимаете, Семён Петрович, я еле-еле от него отмоталась. Он же алкаш, алкоголик и два раза уже был женат… – И она стала всхлипывать, даже вытащила платочек и приложила к глазам. А я стал её убеждать, как ребёнка:
– Успокойся, возьми себя в руки. У тебя ещё вся жизнь впереди. И семья будет, и детки. А если сынок появится – назови его Сенечка. Каюсь, люблю своё имя, – и я засмеялся, и она тоже вместе со мной… И сразу высохли её слёзы. А, может быть, действительно поверила, что всё ещё впереди. Ведь все мы, русские, очень наивны в своих мечтах, своих радостях и ничто нас не лечит… О, Господи, милосердный Господи, прости меня за эти красивые слова. Ведь я опять заговорил о мечтах, о надеждах, не хотел, а заговорил. Что поделаешь, я всегда стеснялся, даже в общении с близкими, этих красивых, как бы припудренных слов. К тому же и в моей Сосновке люди говорят по-другому. Да, это правда. Порой слушаешь кого-то из них, и тебе кажется, что он не просто говорит, а как бы исповедуется перед тобой, а в словах столько силы и откровенности, что просто заслушаешься. Вот бы и мне писать так же. И я перелистываю свои тетрадки и опять о чём-то мечтаю. А за окном у меня – белое марево. Это кружится первый ноябрьский снег.
(Продолжение следует)