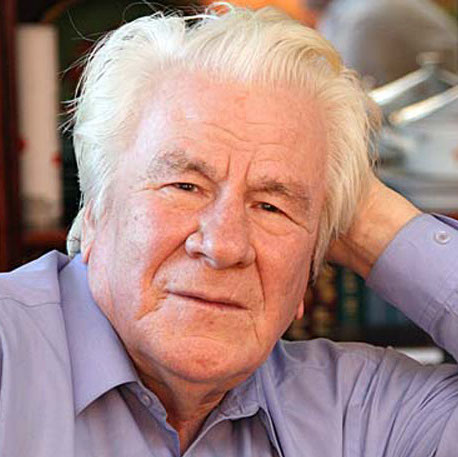III. А гуси летели высоко, высоко…
В полях
VI
Ох, уж эти воспоминания! Порой они так и ходят за тобой и мешают жить. Так и случилось тогда. Ведь я ещё много дней носил в себе эту встречу с Мишкой Сычёвым. Он даже ночью, во сне, приходил ко мне и стучал своими костыльками и ругал меня и грозился. А утром я просыпался весь в холодном поту. И в эти минуты мне даже думалось – а не закинуть ли мне подальше свои тетрадки, чтоб не терзать свои нервы. Ведь я уже как-то признавался, что писать о своих близких – всего тяжелее. Потому что сколько людей – столько же и характеров. И многие из них – вовсе не сахар. К тому же кто-то из них, особенно из молодых, даже утверждает, что я совсем не сосновский, а какой-то приезжий. И приводят разные доводы: посмотрите, мол, Семён Петрович, на свою стать – она у вас какая-то городская и совсем не крестьянская, да и ростом Вас Бог не обидел. Да и волосы-то потрогайте – они у вас какие-то медные, рыжеватые, а рыжих в Сосновке отродясь не было. Всё это я слушаю и немного расстраиваюсь, но на каждый роток не накинешь платок. Правда, есть у меня и свидетели. И первый из них – наш молодой физик Пётр Андреевич. Он пришёл в школу на год позже меня, но всё равно мы с ним отлично сдружились. У нас, молодых тогда педагогов, появились общие заботы, вот они, наверное, нас и подружили. Однажды я даже помог ему в крупном несчастье: Пётр Андреевич решил бросить школу и уехать от нас навсегда. Конечно, для меня это горе, а для нашей школы – горе двойное: попробуйте найти хорошего физика в конце первой четверти. Но я уговорил его остаться. Правда, чего это стоило! Вот эта история и пришла сейчас в голову. К тому же недавно я получил письмо от Петра Андреевича. Он пишет, что ещё полон сил, правда, пережил уже два инфаркта, но умирать он приедет, конечно, в нашу Сосновку. Ведь здесь его вторая и главная родина. Вот какие слова! И я решил сегодня вспомнить об этом редчайшем человеке. А вспомнить можно о многом. Ведь Пётр Андреевич был у нас заядлый любитель природы и вдобавок всего – охотник. А это для молодого учителя – просто счастье, ведь всегда все горести и печали можно унести в поля, в природу – и там утешиться. Вот и эта история как-то прикоснулась к природе. А началось с того, что я встретил своего дружка ранним утром, и вид у него был убитый. И он сразу сообщил мне, что собрался на охоту и нельзя пропустить такой день. И он был прав – такой день пропустить – большой грех. Но я всё равно не удержался и спросил: «А сам почему такой кислый?» А он в ответ усмехнулся: «Зачем спрашиваешь, если сам всё знаешь…?» И я действительно знал о его горе. Оно пришло ещё вчера и свалилось на его голову, точно камень. А может и посильнее камня, ведь десятиклассник Юра Сажаев – отличник и скромница – обозвал нашего физика «подлый человек» и хлопнул дверью. И она закрылась за ним, и всем стало жутко и стыдно. Класс смотрел на Таню Чуварину. Она закрыла глаза, хотела заплакать, но слезы не приходили... Всё случилось из-за неё.
Физик повторил новый опыт, а Таня шепталась с Сажаевым. Потом Сажаев передал ей записку, заёрзал, глаза загорелись воровато. Таня прочитала и вспыхнула, взглянула лукаво на физика. Тот подумал: в записке, видно, стихи на него и шаржи. Вся школа знает, что Сажаев поэт и художник. И физик крикнул чужим хриплым голосом:
– На стол записку!
Тишина поползла по классу. Физик схватился за галстук, он впился в шею, и крепко затянулся узел. Глаза у физика заморгали беспомощно и округло. Он медленно опустился на стул.
А за окном уже летели снежинки, в тополях ходил ветер. На крыше бренчало железо, его раньше было не слышно, а теперь, в тишине, оно пугало. Сажаев сжал виски в ладонях, видно, здорово испугался. А физик краснел всё больше и больше, – но это уже начиналась злость.
– Он был очень молод, застенчив, учил первый год и думал: все над ним потихоньку смеются – над его маленьким ростом, басом не по фигуре. Когда он шёл по школьному коридору, то всё время оглядывался, желая поймать обидчика, увидеть его лицо и глаза и прочесть в них насмешку, и если это случалось, жалел себя болезненно и самозабвенно. Детей он плохо понимал, особенно их игры и постоянную радость в глазах, опять думалось о себе, как о брошенном, одиноком. Это пришло и теперь, и он сверкнул глазами.
– На стол записку!
Сзади хихикнули. Физик часто задышал, запылали щеки, шагнул к Таниной парте, разжал у Тани кулак и выдернул записку. В записке четыре слова: «Я люблю тебя, Таня».
Сажаев вскочил из-за парты, крикнул надрывно: «Подлый челове-ек!» – и выбежал, красный, обиженный. В класс заглянула уборщица, сверкнула на физика глазами и стукнула дверью.
Класс всё понял, загудел, – и Таня заплакала. Слёзы пришли внезапно, когда уж не ждались, и теперь не унять, катятся по щекам. Ей стало стыдно. Пробовала утереться платком – не вышло, и тогда опять увидела лицо физика. «Вы злой, подлый...» – выдавила она из себя и, рыдая, выбежала из класса.
Физик мял в руках записку, съежился, молчал. Сказать-то нечего – велико горе.
Когда Юра Сажаев выбежал на улицу – от страха стало больно в ногах. «Физик не простит. Нет, не простит». Потом страх кончился – стал думать о Тане. Он забывал обо всем, если думал о ней. Ив этих мыслях столько вставало клятв, признаний, столько нежности поднималось к горлу, что в нём начинал жить совсем другой человек, весёлый, сильный, прощающий, и нёс его вперёд и вперёд, а куда – и сам не знал. И сейчас этот человек опять ринулся по дороге и плохо слышал, как шумели в подворотнях гуси, как трещал застрявший в канаве комбайн-самоходка, как возле него ругались мужики весело и беззлобно. Человек выбежал в степь. И тут Юра пришёл в себя, зашагал к стану – там брат. «Покатаюсь с братом на тракторе. Переночую в вагончике. Пусть потеряют дома и обвинят физика-коротышку», — подумал Юра, и стало совсем хорошо. Засвистел, потом запелась какая-то песня и снова стал думать о Тане. И ему хотелось, чтоб о его счастье знали все на свете. И он выбегал на ближайший пригорок и кричал на всю степь: «Таня-а-а, Таня-а-а!!» И слова уходили к небу, и там ещё долго оставались в вышине, разбегаясь и сталкиваясь, – и эхо качалось, звенело над полями: «А-а-а…!» Поля лежали пустые, прозрачные, готовые к первому снегу. И чем дольше он шагал по ним, тем радостней и счастливей теснились мысли, и было так хорошо от них, так легко… А может, через год они будут уже вместе, навсегда вместе. И неужели такое сбудется, неужели?! И как это чудно – вместе! Ему было стыдно об этом думать, но всё равно это милое, тайное заходило в голову, и она тихо кружилась, жила в каком-то оцепенении. – И вдруг он представил свою судьбу, нарядную, шумную, с песнями, с плясками через улицу, увидел и себя – жениха. Он, конечно, будет в белой-белой белоснежной рубахе, и таким он пойдёт рядом с Таней, и всё село будет ахать: «Ай да Юрка, какую выбрал! Надо же, какая красавица!.. И лучше её нет на всём белом свете. А сама свадьба будет, конечно, весной, когда на косогоры выйдут цветы… А сейчас неожиданно начался ветер, но Юра не слышал ветра. И шагал он быстро, и шаг у него был широк, крепок, как у мужчины. Поля стояли светлые, весёлые, хотелось идти по ним вечно. А всё потому, что в голове была Таня. Она ведь не здешняя, а приезжая. Отца её перевели в Сосновку из большого города, и потому Таня была во всём другая, нездешняя. И такая красивая: она всегда ходила в белом свитере и в узкой чёрненькой юбочке. И Юра сразу же полюбил её , такую тоненькую, изящную. И сегодня он, наконец, решился. Написал ей всё – пусть знает! Пусть знает…
…Брат его ни о чём не спросил. Да и было некогда, – на последнем участке кончали зябь. Трактор ходил по полю до вечера, а вечером зажёг фары. К тому же ночью похолодало, и повалил снег. Снега так быстро не ждали и думали, что он не настоящий. Но снег шёл настоящий, сначала сыпал робко, а потом закружился над фарами тяжёлыми белыми метляками. Их стало так много, что фары не могли пробить прожектором белую тучу. А в кабине уютно, только позванивают от ветра боковые стёкла. И Юра улыбается, хотя он немного загрустил. Наверное, через год ещё ничего не выйдет из свадьбы. Таня уедет в институт, а он останется работать в Сосновке. И пока Таня учится, он построит ей дом, огромный, из тяжёлых сосновых брёвен. И потом они будут жить в этом доме: Таня станет встречать его с работы, уставшего, голодного и будет кормить его оладьями. Он засмеялся – а почему оладьями? – И тут же успокоился – мало ли фантазий в его счастливой голове… Снег летел тяжёлой стеной, и трактор дёргался на поворотах. Но Юра всё равно улыбался, потому что перед ним постоянно вставала Таня и была она как живая, можно даже потрогать рукой… Но это, конечно, его фантазии, потому что Таня в это время была далеко. Физика она уже ненавидела. И когда выбежала из класса – сразу пошла домой. На улице было ветрено, и слёзы быстро высохли. Дома никого не было. Отец в поле, и мать в поле. Совсем одна Таня. Стала думать о Юре. Когда ей было тяжело, она всегда о нём думала, и тяжесть сползала. Достала из комода голубую тетрадку – дневник. Вывела – «28 сентября», – красным карандашом нарисовала березку – листья с неё падают. Значит, осень пришла, раздевается берёзка, будет всю зиму стынуть. Слова «28 сентября» два раза подчеркнула, – значит, день этот очень важный. Стала писать: «Сегодня мне признался Юра Сажаев... Теперь мы с ним, как жених и невеста... Но я ему ничего не ответила – пусть помучится, сильней ещё влюбится...»
Пусть помучится, пусть помучится... Как она хорошо придумала! Потом легла на кровать. Подушка нагрелась от солнца, и Таня заснула. Проснулась она вечером, когда вернулся с полей отец. Он достал из кармана снежок и сунул ей за платье. Таня рассердилась, а отец закружил её по комнате:
Эх ты, зимушка-зима,
Ты холодная была...
Таня подпелась тоже.
А физик в ту ночь совсем не спал. Он терзал себя за то, что, наверное, разбил первую любовь, за то, что он и в самом деле противный, злой, коротышка, и ребята уже поняли это.
Пётр Андреевич решил уйти из школы. Ещё летом его сманивал директор совхоза инженером в мастерские. Сейчас он решил согласиться. Всё равно теперь никогда не встретится ни с Таней, ни с Сажаевым, всё равно все ребята увидели, какой он противный.
И когда ночью начался снег, он накинул на плечи пиджак и вышел на улицу. Из окон домов выступали длинные белые полосы, в них густо кружились снежинки, казались живыми. Улица спала, и слабый ветер мягко трогал лицо. Физик усмехнулся: «Как дальше жить, Пётр Андреевич? Загнали тебя в угол, как пса... Да сам конечно же, виноват…» Но тишина, снег, пустая улица успокоили, приглушили боль. И он ещё долго стоял на крыльце, отрешённый, ссутулившийся, с непокрытой головой. И уже зябли руки, но ему казалось, что их кто-то трогает из тьмы, холодный и злой. И вдруг, как по чьему-то приказанию, ему нестерпимо захотелось поговорить с человеком, заглянуть ему в живые глаза и услышать от него что-то милое, доброе, – такое, о котором можно услышать только от отца или родного брата. И вдруг сжалось сердце – «О, Господи, о чём ты мечтаешь, ведь у тебя совсем не друзей. Так что уймись, милый, и не строй планы. Ведь кругом виноват – и кайся…» А снег уже полетел крупными хлопьями, холод уже без спроса залез под пиджак и загнал его в дом. Но всё равно ещё минут пять он постоял на крыльце, но потом не вынес и зашёл в комнату. К тому же уже посветлело в окнах и близилось утро.
А утром он решил уйти с ружьём куда-нибудь подальше, и там, в полях, всё решить о своей жизни.
Он так и сделал, ходил по полям и даже хотел выследить какого-нибудь заплутавшего рябчика, но не повезло. И он опять стал мучительно думать о своей жизни, а больше всего – о Тане и о Сажаеве, и он уже понял, что завидует им, завидует их робко начинающемуся счастью… А будет ли такое когда-нибудь у него, будет ли, а если не будет, то что тогда, что?.. А снег уже разошёлся сильней, и это было хорошо, потому что он успокаивал боль. И Пётр Андреевич твёрдо решил – уеду отсюда, обязательно уеду! И такое бы, наверно, случилось, но у нас через месяц появилась новенькая – учительница истории Наташенька Гусева. У ней в Сосновке жила родная бабушка, и та на восьмидесятом году жизни совсем обезножила и внучка её пожалела – из райцентра переехала в нашу Сосновку. И бабушка рада и Наташа. Сама вся ходит задумчивая, счастливая. Оно и понятно. Ведь под Новый год у ней свадьба. А жених кто? Догадайтесь! Но не будем ломать голову – это мой дружок Пётр Андреевич. Помните, на этих страничках я признался, что уговорил своего дружка остаться в Сосновке. И я был рад – всё так и случилось. Но моя радость жила всего три года, потому что скоро его перевели в райцентр и сделали директором школы. Что поделаешь – хороших людей всегда не хватает. Но я не в обиде. Ведь эта школа теперь одна из лучших в области. Хоть пиши о ней книгу. Так что отдаю кому-то идею. И вы ещё поблагодарите за это старого учителя Семёна Петровича Стародумова. Он ведь тоже когда-то хотел стать писателем. И не ругайте его за это, ведь ничего нет на свете лучше книги. А о писательстве теперь даже не думаю. Просто по молодости какая-то блажь ударила в голову. Но теперь, слова Богу, я успокоился. Да и осень пришла в Сосновку. А для меня это время, точно болезнь. Но лучше сказать – наказание. И отменить бы эту осень, но как? И как набраться терпения? Ведь с утра у нас дождь, а потом и днём – то же самое, а потом незаметно опускается ночь. Ох уж эти ночи-ноченьки, ночи осенние…
Ночи-ноченьки
VII
Эти ночи особенно тяжелы для нас, стариков. И я часто ворчу про себя – ах, эти ночи-ноченьки, злые ночи осенние и почему вы такие длинные, такие унылые – не переждать вас, не смыкать. Особенно мне тяжело по субботам. А если спросите – почему? Да потому что в этот день мои соседи уезжают в город, а в ограде у них остаётся собака-овчарка. И вот закрываются ворота, проходит час-другой, – и собака начинает тосковать по хозяевам. Она воет, скулит, гремит цепью, – и такое потом всю ночь напролёт, и ничем её не унять. И как это вынести! В такие ночи я мечтаю, чтобы кто-нибудь постучал в мою дверь, а потом бы зашёл, но ничто не заходит, никто. Видно, пришло такое время, которое видел прежде только в тяжёлом сне. Ведь люди нынче какие-то угрюмые, непонятные, и от редких дождёшься доброго слова. Да и сам я стал каким-то совсем чужим для нынешней жизни. Да, совсем чужим, неприкаянным, хотя понимаю, что от этой жизни никуда не спрячешься, не закроешься, и потому говорю себе – так что терпи, дорогой Семён Петрович, терпи и не вздрагивай. И я терплю и не жалуюсь, правда, устал уже, страшно устал. Да и годы мои нынче не те, когда и жизнь промелькнула. Правда, время летит всё быстрее, быстрее и ничем не остановишь этот полёт. Ведь в окно уже скоро постучится Новый 1992 год. А потом наступит и новый век, а надежд – хоть бы с малую росинку, хоть бы капельку. Ведь прямо на глазах куда-то уплывает наша Россия, а куда – в какие моря? И везде полно нищих, бездомных, каких-то приезжих. А откуда они явились – никто и не знает, да они и сами уже, наверно, не знают, забыли, потому что у всех – горе в глазах и отчаянье. Вот и в Москве, говорят, те же картины… Правда, я сам всё это недавно увидел, да, да. В Москве жил мой школьный товарищ Иван Васильевич, наш дядя Ваня. Так звала его жена моя Аннушка, ведь он ей – даже дальний родственник, в деревне-то через дом роднятся. И вот нынче, в июне, дяди Вани не стало, и я собрался на похороны, даже полетел самолётом, чтобы успеть. Конечно, легко мне сказать – полетел самолётом, – но трудно сделать. Ведь цена за билет – выше крыши. И тогда я закрыл в сберкассе свой счёт. Там лежали все мои сбережения – мои похоронные денежки. Да, – похоронные, потому что у стариков есть такое правило – помаленьку что-то копить и откладывать на собственные проводы. Так и я делал, ведь я тоже – старик. И вот эти денежки пригодились, и все они ушли за билет. Так что скоро я увидел Москву. Но как увидел?! Господи, милосердный, Господи, помоги мне всё описать! Помоги, потому что сразу сжалась моя душа, ведь я столицу видел когда-то совсем другой. А сейчас… А сейчас я начинаю об этом писать, вспоминать, – и ручка прямо выпадывает из ладони. Да и слов у меня не хватает, а которые приходят на ум, то они вовсе не те, нет – не те… Да и бесталанный, наверное, я, и здесь никто не поможет. И всё же я попробую что-то сказать, да и попытка – не пытка. Так что давайте посмотрим вон на того старичка-инвалида, который стоит у входа в метро, а на руках у него рыжая лохматая собачонка, а на шее у ней верёвочка с бумажным конвертиком, на котором – цена. Но никто собачонку не покупает, и у ней слезятся глаза. То ли от обиды на весь белый свет, а может просто от голода. И я подхожу к ним поближе, инвалид смотрит на меня с какой-то надеждой, но я тоже ничего не покупаю, и в глазах у него – печаль. А потом он подставляет под левое плечо свой костыль и начинает что-то укладывать в свой брезентовый рюкзачок. Наверное, собрался куда-то, но только куда, да и кто его ждёт… О, Господи, Господи-и-и, я пишу сейчас об этом, а сам чуть не плачу и хочется отложить в сторону ручку, а потом вдруг спохватываюсь и сам с собой говорю и даже приказываю – не раскисай, дорогой, не уходи в кусты, ведь ты же решился об этом рассказывать, так что действуй, наберись мужества. И я действую и перелистываю страницу и вот уже вижу, прямо отчётливо вижу какого-то худенького мальчишку возле дорожного перехода. А сам мальчишка ещё ребёнок, ему лет пять всего и не больше. На нём коротенькие голубенькие трусёшки, а с утра в Москве – холодно, ветрено, а ему – хоть бы что. А в губах у него – такая же голубенькая дудочка, которая что-то выпевает, постанывает, а в ногах у него – нет, не могу… Как об этом сказать, как описать, ведь в ногах у него – стеклянная кружечка, в которую бросают монетки. И как это назвать, ну как, как? Мы же своих детей отправили на панель, и кто ответит за это, кто объяснит, а объяснять всё равно придётся, ведь любой грех наказуем, любой, – и прощенья не будет. Но думаю, мне не дожить до этих времён. С моим здоровьем бесполезно строить какие-то планы. А пока в моей голове оживают уличные музыканты. Они играют на чём угодно – кто на трубе, кто на скрипке, но большинство – на гитаре. И их так много, как грачей в весеннюю пору. Они стоят возле дверей больших магазинов или толпятся в проходах метро, они сидят даже на садовых скамейках, и каждый ждёт подаяния. И у многих измождённые, просящие лица. Но Москва слезам не верит. Об этом сказано ещё до царя Гороха. Но всё равно я не могу забыть эти лица. И вот я подхожу к какому-то перекрёстку, а там, под фонарём стоит худенькая, белокурая девушка и старательно выводит тоненьким голоском: «Мне Россию не измерить… Синеокая страна…» Голосок дрожит и захлёбывается, и а прохожих это, наверное, действует, потому что в стеклянную кружечку непрерывно сыплется мелочь. «О, Господи, помоги этой душе, защити…» – Шепчет кто-то во мне, и я чуть не плачу. Я и сейчас чуть не плачу, но всё же пишу, вспоминаю. А для кого я это делаю – лучше не спрашивайте. Может, никто и не прочитает мои труды, – кроме моей милой Аннушки. Но сегодня её рядом нет, – она уехала в город к сыну Серёже. У нас там появился внучонок, так что надо понянчиться. И вот я сижу один и печалюсь. И если бы не моё писательство, то эти бы печали меня доконали. Ведь в нашу школу теперь я почти не хожу, да и кому нужен пенсионер – старый пенёк. К тому же сосновская школа теперь без хозяина, а это – беда. Да и беда ещё не остыла, ведь недавно я простился навсегда с очень дорогим для меня человеком – Геннадием Ивановичем Веселовым. Он и был нашим директором школы. Был, и вот его нет и мне горько и тяжело. Но ещё тяжелее об этом писать. Ведь я только что вспоминал про свою поездку в Москву, и душа моя сжималась от боли. Вот и сейчас так же плачет душа. И чтобы успокоиться, я подхожу к окну. А там, за окном, темно, ветрено и где-то приглушённо лает собака. И тут я вспоминаю – сегодня же, кажется, суббота, – значит соседи мои уехали в город, и теперь этот лай на всю ночь. И я думаю об этом как-то спокойно, размеренно, видимо, нервишки мои улеглись. И слава Богу, и я делаю два шага к столу, и вот уже в руках моих ручка, и я шепчу про себя – «Ну здравствуй, Геннадий Иванович, я сейчас буду рассказывать. И все мои слова – о тебе, родной, но только хватит ли сил? Да что уж, – раз решил об этом писать, то пиши, не откладывай, ведь твой Геннадий Иванович – редкий человек, самородок, да и Господь забирает к себе самых лучших…» Конечно, самых лучших, – согласилась со мной душа, – и надо бы хранить таких, как самое дорогое. Но не смогли, не сумели. И теперь – хоть рви на себе рубаху, но его не вернёшь. Одно утешение – это память о нём, великая память. Ведь его все уважали, любили, и эта бы любовь никогда не прошла, если бы не беда. Ох уж эта беда! И как всякая беда она явилась внезапно, упала, как камень с неба, и этот камень – на наши головы, конечно, на наши…
Но всё равно мы вначале не верили, кто же в это поверит. К тому же и день-то тогда был самый обыкновенный, какой-то даже солнечный и спокойный. Про такой говорят – стоял светлый погожий день, а наши школьники убирали совхозную картошку. И Геннадий Иванович с ними, он всегда показывал личный пример. А раз директор с ними, то все трудились на совесть. И вот собрали урожай на одном поле и поехали на другое, – картошки-то этой море. Но пешком идти расхотелось, и они вызвали трактор с тележкой, – и все разместились. Но только вырулили на тракт, – как на встречу легковая машины. И сразу машина остановилась, а там, только подумать, сам глава района. Геннадий Иванович, конечно, сразу к нему, но тот набросился, как злая собака:
– Ты что это, дорогой, вытворяешь! Почему наплевал на законы?! Ведь перевозить в тележке детей – это де преступление!
– Да нам же рядом. Каких-то два километра… – попробовал защититься директор, но начальство остановило:
– Перестань! Чепуху несёшь. А завтра, в девять утра, будь у меня. И не вздумай опаздывать! Запиши на лбу, если память дырявая.
Про этот лоб он, конечно, зря. Ведь как хлыстом огрел, не подумал, – и Геннадий Иванович подошёл поближе к нему и хотел сто-то сказать. Но машина уже рванулась вперёд и обдала его пылью. И сразу день померк, и всё на этом закончилось. И такие же слова вырвались у директора:
– Вот и всё. Теперь мне конец. Он же отправит меня в тюрьму… – И ещё хотел что-то добавить, но только махнул рукой. Мне об этом рассказали сами ребята, а я только их повторяю. И вот я пишу об этом, а в груди у меня комок, и мне так тяжело – хоть криком кричи. Но кто меня услышит, кто успокоит – наверно, одна только Аннушка. Но её сегодня нет рядом и потому тяжело…
А тяжелей всего было Геннадию Ивановичу. Ведь скоро закончился этот злосчастный день и пришла ночь. Она была такая же печальная и, конечно, без сна. Он без конца вставал с постели и подходил к окну, – хотелось отвлечь себя, успокоиться, но всё напрасно. Да и погода точно сошла с ума и даже не верилось. Ведь ещё вчера был тихий, почти летний день, а теперь ничего не поймёшь: в рамы хлестал дождь со снегом, и ветер хотел сбросить крышу. А крыша на доме железная, и железо гремело и бухало, точно где-то рядом стреляли из пушки. И от этих звуков можно рехнуться, – какой уж здесь сон. А ранним утром, ещё деревня стояла в тумане, – он стал собираться в дорогу. И собрался быстро – какие-то минуты. А потом вывел за ограду свой мотоцикл – голубенький козлик – и помчался в район. Но глава района даже не предложил ему стул, и Геннадий стоял перед ним навытяжку, как подсудимый. И вот звучит приговор:
– Мы отстранили вас от работы. Ознакомьтесь с приказом… – И он подал бумажку, а там написано, что директор Сосновской средней школы грубейшим образом нарушило трудовое законодательство, за что и несёт наказание.
– И молите Бога, да… – это заговорил снова глава района. – И молите Бога, что я не подал на вас в суд. Вы же рисковали жизнью людей. А люди-то – наши школьники. – И хозяин кабинета выразительно замолчал. Он как будто что-то решал про себя, и Геннадий Иванович попробовал оправдаться:
– Но я же думал… – И тут его оборвали:
– Не надо думать, а надо знать! Вон индюк тоже думал, да в суп попал. – И после этих слов Геннадий Иванович съёжился, как от удара. А это и был удар и удар – наповал. Но он всё-таки устоял на ногах и даже нашёл силы, чтобы выйти из кабинета. А потом посидел на стуле в приёмной и с трудом отдышался.
С этим и вернулся домой и привёз с собой такое огромное горе. И вот плачет жена, плачут дети, а их у Веселовых – трое. И как теперь жить, – хоть ложись и помирай. Ведь и жена пока без работы, – не отпускает от себя самый младшенький. Ему исполнилось всего год. Так что кругом – беда. И денег нет, и работы нет, а самое главное – на душе нет покоя, – и такое, кажется, будет вечно. Но случилось другое, – как-то ранним утром раздался вдруг звонок из района, и в телефонной трубке возник чей-то протяжный, ласковый голос и принадлежал он секретарше главы района. И Геннадий Иванович весь встрепенулся – неужели о нём вспомнили, неужели? Ведь секретарша пригласила его срочно приехать. И сразу в голове мелькнула надежда. Но тут же её перебила другая мысль, а может его дело передают уже в суд? Да, да, уже в суд. И сразу его точно ошпарили кипятком, и он решил – надо ехать сейчас же, немедленно. И хорошо, что мотоцикл в ограде, – и Геннадий Иванович собрался в район.
И вот он уже в приёмной самого главного человека, и ждать пришлось недолго – минут десять-пятнадцать. А потом открылась дверь кабинета, и на пороге появился сам глава района. Это случилось как-то внезапно, Геннадий Иванович даже вздрогнул и зажмурился. Ведь хозяин кабинета выглядел очень грозно, внушительно, как говорится, мужчина, что надо. И этот мужчина сразу же удивил: он вдруг приветливо улыбнулся и даже первый протянул руку: «что с ним? Как будто другой человек…» – Ещё успел подумать Геннадий Иванович, а секретарша уже ставила перед ним стакан чаю и вазочку с печеньем, – а сама в это время что-то наговаривала, но слов не разобрать. И всё равно Геннадий Иванович почувствовал, что это было что-то хорошее, доброе – женщины это умеют. А сам глава района в это время молчал. И молчал очень выразительно, со значением. Многие начальники хорошо это делают – молчат с каким-то намёком на что-то важное, государственное, которое таится в их голове. И человеку, сидящему напротив, сразу кажется, что он и не человек вовсе, а какая-то букашка, комарик, которому и жить-то не более суток. Что-то подобное, наверное, испытал и Геннадий Иванович, но всё же нашёл в себе силы и сделал два глотка из стакана. И когда отодвигал, ладонь дрогнула, задрожала, и это заметил начальник. Он хмыкнул и покачал головой.
– Простите… Я такой неловкий и чуть у вас не разлил… – стал оправдываться Геннадий Иванович и тому это понравилось. Он даже попробовал пошутить:
– Успокойтесь. Я ведь – не серый волк, а вы – не ягнёнок.
– Простите… – снова заговорил Геннадий Иванович, но его остановили;
– Представляете, я ведь не знал, что вы – многодетный папаша. Да и как узнаешь, – людей-то вокруг, как мошек. А вчера один мой коллега мне вдруг сообщает, что у вас целых три наследника. И все, значит, сыновья? Это правда?
– Чистая правда. У меня их трое и все, как говорится, при мне… – Улыбнулся Геннадий Иванович и подумал, что сейчас случится что-то доброе и хорошее для него. Оно и случилось. Хозяин кабинета весело крякнул и заговорил таким же весёлым и громким голосом:
– Значит, триумвират у вас, поздравляю. Для нынешних времён это редкость, да, да. Точно идёшь по дороге, запнёшься, а там, под ботинком лежит бриллиант… Что молчите – разве не так? – И он опять хмыкнул и пожевал губами:
– Ну ладно, я что-то разговорился, а самое главное ещё не сказал. А оно в том, дорогой, что я рекомендовал переписать тот приказ. И теперь ваше увольнение мы заменили на выговор. Так что падайте в ноги… Ну ладно, проехали, я пошутил… – Он громко засмеялся и похлопал его по плечу:
– А теперь надо… А ну-ка догадайтесь, что надо?.. – Он в упор посмотрел на него, как будто увидел впервые. А в голосе снова игривость:
– А надо, дорогой, вам опять приступать к работе. Ведь искать директора сейчас, в октябре, – ого-го! Нужны люди с опытом, а они все при деле. А молодого продвигать – не резон. Они, нынешние-то, все бегают за длинным рублём. А где он лежит – не подскажете? Ха-ха-ха… – Он отрывисто хохотнул и смешно подёргал губами.
– Что молчите, не знаете? Вот и я – не знаю, не ведаю, так что вкалывайте, засучив рукава. И молитесь за меня, даже свечку поставьте, да, да. Ведь я такой добренький и отходчивый и серый волк – мне не брат. Но зарубите себе и запишите на лбу – у любой доброты есть предел. Я прощаю только один раз. А если опять нашкодите – могу и штаны спустить! – И он засмеялся очень громко, раскатисто – и вдруг положил ладонь ему на плечо:
– Ну что напугались? Но я такой, такой, как говорят – не мазаный, сухой. А теперь – прощевайте… Кстати, есть такое слово в русском языке?
– Вроде бы нет…
– А вот и неправда. Значит, плохой вы филолог. Надо опять в первый класс.
– Но у меня другой профиль… – Забормотал Геннадий Иванович, но его уже не слушали. На столике призывно звенел телефон и к нему устремился хозяин кабинета. А Геннадий Иванович тоже поднялся со стула и вышел в приёмную. А там за столом сидела красивая белокурая девушка-секретарша. У ней и был тот протяжный, ласковый голос, даже и не голос, а голосок. Вот и сейчас он звучал, как утешение:
– А я за вас так волновалась. Ведь мой папа – тоже учитель… Но скажите всё-таки – как там? – И она показала ладонью на дверь.
– Всё хорошо…
– Я так и думала.
– Да, хорошо. – Подтвердил Геннадий Иванович и вышел в коридор, а потом и на улицу. И сразу в сквере увидел скамеечку, на неё и присел, и сразу же позвонил домой – надо же успокоить жену. А потом он позвонил своему большому другу Стародумову, то есть мне, – и подробно обо всём рассказал. И теперь все эти подробности в моей голове. И потому я пишу сейчас так – точно я был с ним рядом и слышал каждое его слово. А настроение у Геннадия Ивановича было такое – хоть пой песни. И на радостях он накупил детям много подарков – разных сладостей, фруктов, а потом зашёл на минутку к своим знакомым. Но всё равно, когда вышел на улицу, стало уже темно, осенью быстро темнеет. И он решил – надо срочно домой. А мотоцикл – его родной козлик – точно бы дожидался команды. И он скомандовал: «Выручай, милый! И чтоб через час – быть дома!» И мотоцикл послушался, рванул с места, как одержимый. Так что минут через десять Геннадий Иванович уже был на главной дороге, на которой асфальт, а раз асфальт – то и скорость, хорошая скорость. И ветер теперь был прямо в лицо, но он не чувствовал ветра, да и какие тут чувства, если он сегодня такой счастливый. А выговор – это пустячок, лёгкая встряска, да и через год его можно снять, ведь его школа на хорошем счету. И ещё что-то метнулось в голове – такое же хорошее, доброе, но не буду сейчас что-то додумывать, сочинять. Правда, мог бы, конечно, ведь мой рассказ – совсем не фотографический глаз и не судебный протокол, а всего лишь голос моей души, моего сознания. О, Господи, милосердный Господи, прости за эти мудрёные слова, ведь я заговорил сейчас, как захудалый интеллигент, который прячется за слова. Но нет, нет, я ни от кого не прячусь, да и в словах моих правда, потому что пишу о том, что я чувствую, и что видит моя душа. И вот сейчас она видит, как над той дорогой поднялась тяжёлая лиловая туча. Она явилась внезапно, без приглашения, – и сразу начался нудный, холодный дождь. А мотоцикл мчался всё быстрее, быстрее, точно убегал от какой-то погони, точно за ним гнались волки… А впрочем о чём это я, – какие волки, какая погоня, – просто Геннадий Иванович торопился домой, да и мотор гудел ровно, уверенно, – так работает сердце у очень здорового человека. Но и туча не отступала, и скоро дождь хлынул, как из ведра. Правда, минут через пять он убавился, но всё равно уже всё испортил и асфальт теперь, как каток. Мотоцикл мотало по сторонам, и Геннадий Иванович еле удерживал руль. Наконец, до него дошло – надо же сбавить скорость. И он поехал потише, но не помогло, а руль прямо вырывался из рук. Да и дождь опять припустил, и теперь он сыпался, точно из сита, – мелкий, холодный и вроде со снегом. Такое часто бывает в осенние дни. И всё же Геннадий Иванович не унывал, хоть плащик уже промок насквозь, и вся одежда – хоть отжимай. «Но ничего, ничего, не сдадимся… Ещё немного, ещё чуть-чуть…» – В голове пронёсся знакомый мотив, и это сразу прибавило сил. А дорога между тем пошла под уклон, где-то рядом уже был мост через Тобол, который постоянно поправляли и ремонтировали, а раз ремонт – значит перекрыто движение. Вот и сейчас впереди что-то подобное, ведь там – скопление машин. И Геннадий Иванович занервничал, – неужели надо ждать, долго ждать? И как это вынести? Но, кажется, повезло. Да, да, он в рубашке родился, ведь машины вдруг зашевелились, задёргались, и его козлик сразу пристроился сзади, да и дождь вроде бы перестал. Теперь бы нажать на газ и помчаться, ведь дома, наверное, уже заждались, но как это сделать, как?! К тому же впереди образовалась стена. И эта стена – огромный и неуклюжий бензовоз, который подмял под себя всю дорогу, и это – беда. И Геннадий Иванович кусал губы от нетерпения, ведь надо быстрее домой, надо, надо. А впереди – этот медведь. Что делать, ведь никто не поможет! И вдруг через секунду, а может ещё раньше, в голове мелькнуло что-то озорное, нахальное – а что если… если обогнать эту чушку – и прямо сейчас, прямо немедленно!.. – И мысль ещё не угасла, а мотоцикл уже вздрогнул, напрягся и вот уже рванулся вперёд, и это было, как молния. Геннадий Иванович даже привстал на сиденье, откинул голову, – и опять я вижу, прямо отчётливо вижу его лицо. Оно прямо горело, прямо пылало от радости, ведь бензовоз уже сзади, далеко сзади – и это хорошо, замечательно! И он снова нажал на газ, и скорость ещё больше – как хорошо, хорошо!.. Но в этот миг что-то случилось, что-то ужасное. Но у меня не хватает слов, чтоб рассказать. Да и где живут те слова – не знаю, не ведаю. Ведь мотоцикл ослепил какой-то внезапный огонь. Это были фары встречной машины. Но откуда она взялась, откуда?! – И это последнее, о чём подумал Геннадий Иванович. Правда, я не уверен, – может и не успел подумать, да и где тут успеть. Но не стану гадать, ведь ничего уже не изменишь, ведь встречная машина смяла в комок наш козлик. А потом пришла «скорая», но было уже поздно и поздно потому, что раньше «скорой» здесь побывала смерть.
А через два дня Геннадия Ивановича уже хоронили. А потом пришла тяжёлая бессонная ночь. Мои соседи уехали в город, и опять выла, тосковала их собака-овчарка. А я даже подумал, что она обиделась на хозяев, ведь обычно они бросали дом по субботам, а сейчас – середина недели, так что зачем им уезжать. Но они уехали, – и пришла тоска. И в мою душу тоже забралась с ногами тоска и совсем нет сна. И я пытаюсь считать до ста – иногда помогает, – но сегодня это пустой номер. Правда, под утро удалось всё-таки задремать, но это конечно не сон. Да и в голове начались такие картины, что хоть зови кого-то на помощь. Но кто поможет – никто, да и кому нужна моя боль. Вот она и стоит во мне и мешает дышать. А в голове… О, Господи, что творится в моей голове? Ведь там оживают опять те недавние московские картины, но почему, почему?.. И почему я не могу об этом забыть? Вот и сейчас опять в глазах тот мальчишка в своих трусёшках, а в губах у него всё та же дудочка, которая что-то выпевает, постанывает, и эти звуки похожи на плач. А в ногах всё та же стеклянная кружечка, в которую бросают монетки. И мне тоже хочется что-то бросить, но меня отталкивает от мальчишки старик-инвалид, на руках у которого рыжая лохматая собачонка. И он суёт её мне, прямо в лицо и истошно кричит: «Ну купи же, купи! Отдаю почти даром!..» и ещё что-то кричит, предлагает, но рядом с нами останавливается мотоцикл и подходит человек в тёмной форме. Это, наверно, чей-то охранник, и он наступает на старика, машет руками. И мне жаль инвалида и я хочу за него заступиться и вдруг вижу, что это совсем не охранник, а директор школы Геннадий Иванович подошёл ко мне и обнял за плечи. Я даже услышал его ладони, и он что-то сказал мне, но я не понял, наверное, не расслышал. Да и как понять, если в тот миг я открыл глаза и очнулся, – меня разбудила та соседская собака-овчарка. Она на кого-то лаяла, потом выла, видимо, опять потеряла хозяев. А я встал с кровати, вскипятил чаю, достал свои тетрадки и начал писать. И снова взмолилась душа: «О, Господи, милосердный Господи, помоги мне всё описать…» Вот и сейчас на душе неспокойно, ведь я хочу рассказать о прощании. Да, о прощании с очень дорогим для всех человеком. И начну этот рассказ с самого начала. А всё началось с того, что в школе из-за похорон отменили все уроки. Я видел, что многие мальчишки даже обрадовались, что отменили. Значит, не надо сидеть в душных классах, значит целый день на свободе. Но я никого не осуждаю, да и что взять со школьников – им бы только побегать да подурачиться, что они и делали, не замечая горя. А оно было рядом – в школьном зале, где на широком столе возвышался гроб, а там лежал их директор… Но я снова возвращаюсь к мальчишкам. Ведь многим из них, наверно, казалось, что их строгий физик совсем не умер, нет, нет, не умер, а просто уснул сейчас очень крепким глубоким сном, и вот пройдёт час-другой, и он проснётся, восстанет из гроба, а потом заспешит в учительскую за классным журналом, а потом начнётся очередной урок, – и такое не закончится никогда, никогда…
Но мои мысли прервал школьный звонок. Он был такой резкий, внезапный, что сразу все вздрогнули, а потом притихли. Но так было недолго. Тишину разрушили сами учителя. Они стали подходить к гробу, и у всех в руках были цветы. А потом стали говорить речи. Они были напополам со слезами. Но как об этом написать, – у меня просто не хватает слов. Да и какой толк в этих словах, если перед глазами такое горе… А потом ожил оркестр. Он был маленький – всего пять человек. Его недавно организовали в нашем сельском клубе. Но лучше бы оркестр не играл. Всё получалось как-то нехорошо, невпопад. Даже проскакивало в этих звуках что-то озорное и танцевальное, а это уж совсем ни к чему. Но вот оркестр заиграл моё дорогое, любимое – «Прощание славянки», – и звуки эти сразу перехватили дыхание. Они точно спеленали меня, стянули горло в какой-то узел, и я стал задыхаться. Но что поделаешь, – я не выдерживаю эти звуки и часто плачу. Так и тогда заплакал. И такой я был не один. У изголовья гроба стояла высокая красивая женщина – жена Геннадия Ивановича. А из-за её спины выглядывали три детские головки. Они жались к этой женщине точно к матери. А это и была их мать. И я боялся смотреть в их сторону, точно был виноват. Да, виноват, ведь я стою тут, ещё живой и здоровый, а он, младше меня наполовину – и уже в гробу. Но почему так, почему?! И почему она – такая молодая, красивая – и уже вдова?! И я, повторяю, боялся смотреть в её сторону, но всё равно смотрел и смотрел. Её лицо точно притягивало меня, не отпускало, и я видел, как она всё время прикладывала к глазам платочек, а потом вдруг наклонилась к детям и прижала их всех к груди, как будто защищая от кого-то или спасая. И это сразу мне что-то напомнило, подсказало. Ну конечно, конечно, я сразу вспомнил какую-то птицу, которая прячет под себя своих птенчиков, когда над ними начинает кружить ястреб. Но порой всё напрасно, напрасно, ведь от ястреба не спасёшься. И мои мысли точно услышали дети, – они вдруг громко захныкали и стали вырываться от матери, а та беспомощно озиралась, точно призывая к себе. И случилось невероятное, – на помощь пришёл оркестр. Он вдруг издал такой громкий, отчаянный звук, от которого полетела с потолка штукатурка. И дети сразу притихли, наверное, напугались. И я подумал – что же теперь с ними будет, что же!? И от этих вопросов сжималась душа. И кто их будет теперь кормить, одевать, – они же теперь сироты, подранки? К тому же мать у них, говорят, совершенно больная. И если не помочь семье, она может погибнуть… «Может, может, конечно, может…» – прямо кричала душа. Как погиб, наверное, тот московский мальчишка в своих трусёшках – на холодном ветру. А может кто-то и пожалел его, поддержал, но я об этом никогда не узнаю, никогда, никогда… О, Господи, милосердный Господи, отгони от меня эти мысли, все больные воспоминания и пощади мою душу. Прошу Тебя, умоляю! Мне так плохо сейчас, невыносимо. Помоги же и не бросай меня… Но, кажется, всё напрасно, мои просьбы до Тебя не доходят, ведь мальчишка опять в моей голове. И его дудочка не смолкает, играет. И эти звуки, как слёзы…
И такие же слёзы не смолкают у гроба, и опять на меня наступают эти вопросы, вопросы. Кто же теперь поможет семье, кто утешит??
Но ответа на свои вопросы я так и не дождался, потому что через месяц вся семья переехала в ближайший город, в Курган. А вскоре я узнал, что мать тех троих ребятишек заболела в Кургане тяжёлой неизлечимой болезнью и умерла, а детей увезли куда-то – то ли в детский дом, то ли в детприёмник. Но это, наверно, одно и то же…
Да, Тяжёлая эта история – сплошная печаль. А кто виноват? Думаю, гениальный и всё знающий Лев Толстой сказал бы, что виноват всё-таки заведующий районо. Ведь с его приказа и началась череда всех бед. И давайте не будем спорить с писателем, да и Господь всё равно во всём разберётся – и всех виновных накажет, а обиженных пожалеет…
На этом я и закончу эту историю и закрою свою тетрадку. Пусть мои странички отдохнут немного, придут в себя, потому что им, наверное, тяжело, очень горько. Да, тяжело, ведь столько печалей они нам открыли. Но не судите их, не ругайте. Это я – старый грешник – во всём виноват, это я заставил их всё время плакать, страдать. Это я забыл, что большие печали в душе – это всегда большие грехи. Но грехи надо замаливать и потому в следующий раз я постараюсь писать о радости, о любви…