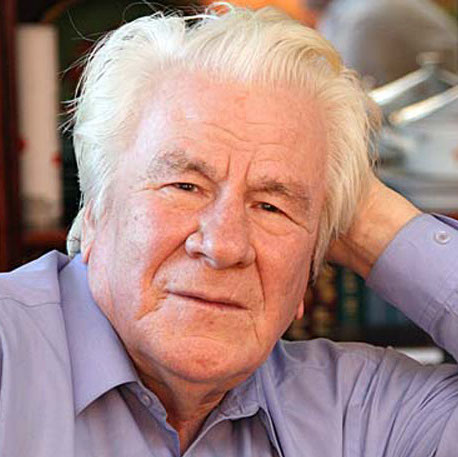А гуси летели высоко, высоко…
III
Сегодня беру с полочки новую тетрадку. И почему-то волнуюсь. А если кто-то спросит меня – откуда это волнение, Семён Петрович? Я не отвечу на этот вопрос, потому что и сам не знаю, что со мной происходит. Правда, ясно пока одно: все эти тетрадки – это моё утешение. Ведь в ранней, далёкой юности я мечтал стать писателем. Что поделаешь – «мечты, мечты, где ваша сладость?..» Вот я мечтал и надеялся, и даже уверял себя – чтобы ни случилось со мной, какие бы ветры не били в лицо – я всё равно буду писать книги, всё равно, всё равно. Но шли годы, и за моими окнами дули уже другие ветра и метели, и в моей душе тоже что-то сжималось и таяло, как тает мартовский снег под первым лучом. И, конечно, все мысли стали другими, и я теперь как-то навсегда понял и догадался – зачем мечтать о чём-то чудесном и невозможном, ведь писатели это какие-то совсем не земные, а почти небесные люди. Такие, к примеру, как протопоп Аввакум или тот же Сергей Есенин. И ещё я понял, что мечта – мечте рознь. Можно, например, мечтать о том, чтобы стать в этой жизни врачом, агрономом или даже лётчиком, космонавтом. И вот прошло время, – и мечта стала былью. А вот о писательстве мечтать бесполезно. А всё потому, что писательская судьба находится в руках Отца нашего – Бога. И потому нужно его внимание, прикосновение, его награда. А награда – это всегда талант. И если нет его, то и писательства нет. Но всё равно… Всё равно ничто не проходит бесследно и всегда от большой мечты что-то остаётся в душе. И это что-то – может быть, любовь к нашему русскому слову, а может быть неуёмная тяга к сочинительству – это как жажда в тёплый июльский день. А может быть, это всё-таки какая-то болезнь без названия, но которая лечится всегда одним способом – человеку надо начать писать. И писать всё, что придёт в голову. Это могут быть какие-то воспоминания, различные были, – да и мало ли что случалось на веку. Я и сам немало встречал таких людей, да и сам видно такой же. Да, такой же, – я не рисуюсь. Вот и сейчас в моей голове оживает одна история, которая так и просится на бумагу. И я сижу за столом и гадаю – что же мне делать? Конечно, эту историю хорошо бы рассказать на уроке или на воспитательном часе, – я ведь хорошо владею методикой, да и дети меня привыкли слушать – порой даже не шелохнутся. Но со школой я распрощался и возле меня только ручка и белый лист. Но всё равно меня не исправишь, и сейчас я буду писать так, словно я снова на школьном уроке. И мне опять будет легко, к тому же эта история наша родная, сосновская и потому мне ничего не прибавить и не убавить.
А случилось всё это в семье Сорокиных, которые живут недалеко от меня, на Береговой улице. И рос в этой семье хороший паренёк Миша Сорокин. И всё в жизни у него выходило правильно, по уму. Вот только после школы мать задумала отправить сына в город на учёбу. И выбрали хорошее училище, после которого у Миши была бы профессия крановщика и ещё кое-что в запасе. И Миша был доволен, но всё помешала осень. А что делать – осень-то не отменишь. И вот начались холодные дожди и злые ветра. А над городом полетели дикие гуси, и Миша Сорокин затасковал. В парке на танцах – все локти обдерёшь, пиво надоело пить по каким-то углам, а по улицам холодно гулять, да и говорят это смешно. И стало скучно Мише. Одно развлечение – по субботам в деревню ездить. Там и арбузы поспели, дыни налились, помидорчики – прямо ешь – не хочу. И Миша стал часто ездить в Сосновку.
В нашу деревню возил Мишу на совхозном автобусе Степан Шутов. Автобус еще новенький, чистенький, ходил до города два раза в день. С последним рейсом и забирал Мишу.
К остановке Миша выходил сердитый, надутый. На шее – розовый шарфик, в кармане поёт транзистор. Все глядят на Мишу – не моргнут: «Какой американец!» Он не узнавал знакомых, глядел поверх их отрешённо и гордо. О чём с ними говорить, коли у тех на уме сенокос да коровы. Ничего они в жизни не видели, в большие города не ездили, с великими артистами не знались. Головёшки. Не горят – чадят.
К автобусу пропускали Мишу без очереди. Степан открывал дверцу, кланялся весело, с размаху:
– Милости прошу к нашему шалашу!
Миша суровел совсем:
– Опять график прыгает!
– Пять минут опозданьица, Михаил Егорович, – смеялся Степан, щуря большие карие глаза.
Миша садился на переднее сиденье к окну.
Выезжали в степь, в приволье: в автобусе горячо пахнет донником, пшеничной соломой. Миша наблюдает природу, курит сигарету. Сосед на разговор тянет:
– Когда, Егорович, женимся?
Миша молчит, шевелит бровью, ведь глупый же вопрос. Сосед хмыкает, сиденье скрипит: стыдно.
– Я ж по-свойски, Егорович, а ты губы втянул...
Автобус бегал хорошо: шины не лопались, мотор не глох, и все за это любили Степана. А больше всех мать Мишина – каждую субботу автобус ей сына к ограде подвозил. Мать топила для Миши баню, ставила на загнетку флягу горячей воды, в магазин за бутылкой беленькой бегала. Из бани Миша выходил гладенький, веселый, пахло от него березовым веником и сосной. Подолгу у зеркала стоял – причёску делал набекрень. К столу садился молча, пальцем по шее щелкал:
– Сообрази!
«Как уж мужик, приказы шлёт», – угрюмо думала мать, ставя на белую скатерть бутылку и хрустких огурчиков с рассолом. Миша наливал в стакан до середины, сильно носом шмыгал, глаза скашивал:
– За тебя, мать, жить тебе столько же.
– Много ложишь, сынок. Только б тебя поженить. Поглядеть...
– Завела...
– Внучонка ж охота...
– Э-э, – свирепел Миша, ещё в стакан наливал. Разнимались стены, пела в груди музыка, и всё, что держалось там на запоре, – лезло:
– Скоро мастером буду. Почёт, денежки... Хату в центре отхвачу, мотор куплю! «Тойоту» знаешь? Не знаешь... Эх, коровьи подойники. Ничего вы не знаете.
– Не ладно так, Миша. От подойников сам пошёл. Всё летичко молочком занимаюсь.
– Не трепитесь, мамо...
И мать обижалась, становилось ей горько. Плакала, плакала...
– Хватит нюни-то. Хочешь, завтра платье куплю? Станешь тёткой городской.
– Всё, сынок, есть. Ходим чисто и про запас держим.
– Тогда фартук сними. Как баба.
– И так баба. Всю жизнь на ферме. Тут и рученьки надсадила.
– Ы-ых, мама! Я сотовый телефон куплю…
– Кого?
Миша губами чмокал, голова клонилась на скатерть.
Мать стелила белые простыни, клала красные подушки из гусиного пера... Миша на простыни переползал. На живот ему Сашка, котёнок, прыгал, рубашку лапами скреб. Губы у Миши раскрывались во сне, лоб потел сильно, мать его полотенцем вытирала. Потом садилась возле Миши. Только хотелось, чтоб он снова был маленьким, пас бы телят с соседом Сёмкой Катайцевым, вставал и ложился по солнышку, а зимой, когда стемнеет и деревня уснёт, читал бы ей книжки и разные стихи.
– Эх, Сашка, женить бы его на нашей сосновской, возле себя оставить... Хоть бы в старости-то погреться...
Молчал Сашка. Ночным холодом несёт от окна. Мать в платок куталась и пела сухим простуженным голосом:
– Люли-люли-люленьки,
Прилетели гуленьки,
Стали гули толковать,
Куда Мишеньку девать...
Эту песню она пела ему над люлькой. А потом отец умер, муж её. На мельнице лишний куль поднял – надорвался.
Так что одна с Мишей осталась. Всё загляденье её – в нём. Старалась покрасивее одеть, обуть, ведь об отце Миша сильно ревел. Не верил, что его нет, что он никогда не войдет в дом. Все думал, что он куда-то уехал и скоро вернётся. Ждал его тоскливо, постоянно, как большой: вечерами, не мигая, смотрел в окна, вздрагивал, если неслись по улице кони к речке, сжимался, если копыта стихали у ворот. Тогда бежал к двери и шало орал: «Пап!» И мать хотела отблагодарить Мишу за его боль, жила только ради него, хоть мучило её одиночество, вдовство, хоть сватались к ней дважды хорошие люди, хоть и желал её муж перед смертью – найти родного человека и зажить снова. Когда подрос сын, отпустила в город в училище учиться. Закончил училище, дали ему работу хорошую, да радости нет. А потом и горе пришло: чужой совсем стал. Говорят, стакнулся в городе с каким-то вороньём. Домой приедет – стопку подавай. Ни одного слова – прямо, всё – вкось. Что ни скажи, головой завертит: «Чухлома вы, мамо. Жизни не знаете...» Только на Мишину женитьбу надеялась – вдруг к лучшему переломится.
Засыпала трудно. Сон долго не шёл, далеко в бору сова кричала, и грудь сильно болела. Хотела скипидаром натереться, да Миша не выносил запаха его. К середине ночи он начал ворочаться, скидывал с себя одеяло и стонал. Иногда слова выговаривал. Она хотела понять их, но они не давались, прятались от неё. Мать мочила полотенце в холодной воде, прикладывала ему на лоб. Миша слабо сопротивлялся, на шее всходили напряженные пятна, но засыпал снова, а руки были холодные. Ей хотелось лечь рядом, согреть сына своим теплом и дыханьем, но она боялась, что он проснется и крикнет на неё. Только раз легла рядом, и он не заметил, потому что был тяжело и страшно пьян. А ей всё равно всю ночь было хорошо и легко.
Утром он забирал отцово ружье, уходил на охоту на весь день. Уток мало встречалось, зато ноги убивал. Приходил злой, все время фыркал. Вечером за ним заезжал на автобусе Степан. Любил он Мишу – с его отцом когда-то он был не разлей вода.
Часто, когда автобус был совсем пустой, Степан в дороге рассказывал об отце. И отца вспоминал, и свою молодость, и всю жизнь от края до края, и разные истории, хорошие и плохие, хмелел от своих слов, забывал о нудной, тряской дороге, о своей беспокойной шоферской судьбине и начинал думать о счастливом, о тайном – о том, что будет с ним впереди. Степан, хоть и думал чаще о прошлом, но жил всегда тем, что будет впереди – и знал твердо, что радости его впереди, а все печали уже прошли. И оттого любил людей крепко, по-отцовски, гордился друзьями, был желанным на всех свадьбах, гулянках, там угощал всех за хозяев, после первой же рюмки прижимал всех к груди и тискал, и думали в деревне, что он самый счастливый и довольный на свете. Была у него дочь Лена. Степан мыслил отдать ее за Мишу, сына своего друга любимого. И в этом была его радость, которая – впереди, его сны наяву.
Уезжал автобус с Мишей, и матери не сиделось дома. Она боялась одиночества, тишины, тяжелого стука часов. Шла на ферму к девчатам, где была старшей дояркой. Ещё издали у телятника замечала белый платочек Лены Шутовой. Сразу же начинала думать о ней и о Мише. Если б она стала женой Миши, то, может, он бросил в городе дружков, перестал бы ломаться, приехал бы жить в родную деревню и остался бы навсегда возле матери, среди своих людей, бросил бы гусарить с водкой по воскресеньям, срубил бы себе дом – нынче всем лесу дают на дом. Платочек Лены белел все ближе, мать улыбалась ему, и делалось ей тепло. Лена смотрела на неё и чего-то стыдилась или уже знала потаённым девичьим чутьем все её мысли и осуждала их и не хотела понять, и оттого была не в себе. Но всё равно возле Лены работалось хорошо, покойно, и той ночью сразу засыпала, не ворочалась, вместе с Сашкой в обнимку, и утром выпивала полную кринку холодного молока с лепешками и казалась себе моложе.
Шла на работу и опять старалась быть возле Лены, точно возле дочки. За последний месяц у Лены вышел самый большой надой по ферме. Наградили её отрезом на платье. Взяла сшить платье Мишина мать – многие у неё обшивались. Первую примерку назначила на вечер в субботу.
В субботу приехал Миша. Снова пошёл в баню, березовым веником хлестался, крякал. Зашёл в избу весёлый, румяный, смотрит – Лена:
– Ой, тут дамы...
Лена не поняла его, только вдруг застыдилась. Был он без рубашки, в майке, она открыла его крепкие, красивые плечи; к щеке родинкой капля пристала.
– Я пойду...
– Посиди, Лена. Сейчас мы чайку… – сказала мать.
Чай пили молча, с вареньем: Лена из чашечки отпивала потихонечку, краска с щёк не сходила, было чего-то боязно. Мать пила из блюдца, улыбаясь своим думам, и жалела только, что умер отец – не поглядит. А Лена смотрела в стол, ресницы шевелились, чашку держала как-то сбоку от себя, и мизинец на этой руке оттопырился и дрожал. И мать вспомнила, как сватался к ней Егор, как гуляли потом на свадьбе две недели, как косили они в тот июль вдвоем сено: она стояла на зароде, а Егор подавал, и были таинственны его глаза, безучастны.
Миша пил много, потел, злился на себя, что не ведёт разговор. Заглянул Степан Шутов. Ни с того, ни с сего:
– Так я завтра, Егорович, за тобой приворочу.
Мать засмеялась:
– Свои люди, не разбежимся…
Степан помялся, обласкал глазами дочь и Мишу, вышел.
Миша заговорил:
– Ну, как надои для страны?
– Не жалуемся, – засмеялась Лена, – а мы оркестр для клуба купили.
– Бацаете?
– Чего?
Разговор пошёл не туда, и мать переживала. Ей хотелось поговорить о тихом, домашнем, сдружиться сейчас всем за столом, чтоб бывать потом всё чаще и чаще втроём. Она нарочно не включала свет, чтобы оставались полумрак, тишина по углам и захотелось бы в этой тишине душевного слова, какого-то таинства, но оно не шло. И мать сказала:
– У нас Мишу мастером могут сделать. Начальником!
– Здорово! — удивилась Лена.
– Потрясно! – поправил Миша.
Лена не выдержала – прыснула в блюдце, и смех, который давил давно, прорвался – не унять. Она смеялась громко, шея над кофточкой покраснела, из блюдца чай полился. Сашка еще ногу укусил, было щекотно. Смех не проходил. Хотелось Мишу по голове погладить: «Ну, не воображай... Чего ты?» Но за столом вдруг стало тихо. Очнулась Лена. Почувствовала тишину. Миша соскочил со стула, щелкнул выключателем. Свет вспыхнул яркий, ударил больно в глаза, и слова Мишины прорвались, как злые горячие угли. Он понял, что смеялись над ним и ещё понял, что нужно дать сдачи. Хотелось Лену, замарашку, доярку грязную, потную, которая из-за подойника жизни и света не видит, ударить больно:
– Размычалась, корова... Смеешься, а от самой навозом прёт.
Вздрогнула Лена.
– Ты мне, Миша? Мне?
– Тебе, тебе. Жуй...
– За что? За что ты, Миша? Там ведь наше молочко-то пьёшь.
Миша тяжело ступал, сверкал глазами, брезгливо обходил Лену, точно замараться боялся. Лена поняла это, разревелась.
– Сам-то какой. Я в институте второй год. А ты-то... А ты-то...
Она закрыла лицо руками. Мать у ней по волосам рукой провела: «Будет, ну будет...» У Лены плечи затряслись. В сени выскочила. Миша к столу подошёл, пальцем по шее ударил:
– Достань!
Пил как всегда неумело, а сегодня ещё торопился, видно, внутри горело. Быстро захмелел, водил кругом дурными глазами, не понимая, что с ним, где он. Только немного помнил Лену.
– Мать, а Ленка зря, зря...
– Эх, сынок, стыдоба...
Он ещё долго кружил по комнате, потом залез на кровать, тяжело задышал, уснул.
Мать села рядом. Смотрела на его уставшее, серое лицо, на волосы, на макушке в комок скатанные, и думала: «Кто это, Миша ли?» Все его слова вспомнила и старалась понять, кто их в душу ему сунул и забыл там, зачем они к нему прицепились репьем. К полуночи выключила свет, легла на диван, но сна не было. Пришла снова жалость к себе. Прежде её не знала. Но сейчас, когда отошёл от дома сын, связался с плохими людьми, стало жаль и себя, и своей жизни, и своих рук, работой замученных, и появился у неё этот страх тишины, одиночества, и она боялась тяжело заболеть. А засыпая, видела Егора. Он смотрел ей в глаза, седой и печальный, сутулился, кривил плечи, точно осуждая за сына, за всю её жизнь после него, Егора. Она плакала, молила о чем-то мужа, – он не прощал, а все смотрел издали, потемневший, безмолвный. А ей хотелось объяснить ему, что она-то не виновата, что беда идет не от неё, а от сына. Но сын-то её? Значит, она всё равно виновата – и руки слабели, задыхалась во сне, но Егор не прощал, и беда дальше катилась, болело сердце. И она кричала во сне горьким, неясным голосом, в этот миг открывались глаза, упирались в потолок, в темноте он нависал на лоб, придавливал своей смутной громадой, рождался где-то в затылке страх, доходил до ног, скручивал, давил и в эти часы казалось, что пришла смерть, стоит у затылка и ждёт, тёмная, дышащая. Она стояла, пока не начинало синеть окно, пока не вставал рассвет, после которого белели темные стены, означивались на окнах герани, пробуждался Сашка, – и гасла в затылке боль. Глаза слабо мигали при свете, руки выкладывала сверху на одеяло. Они шевелились, узкие, сухие, котёнок их боялся. А ей было хорошо, что пережила ночь, не задохнулась в своей тоске. Уже до солнца теперь не спала, только дремала и слушала, как на улице гремят ведрами бабы, ругаются, как кричат гуси, и голоса их гулко летят, растягиваясь в утренней пустоте. И мать боялась дожить до зимы, когда ночи долги – не переждать, когда снует за окном метель, а в душе нарывает больное, давнишнее, от которого теперь не уйдёшь. И в этой жизни матери не на что упереться. Только Лена в глазах. А сейчас – и Лена ушла.
В то утро Миша долго хлебал суп, потом снова лёг спать. Шёл дождь на улице. Странный и чудной. Сверху дождь, а далеко, за последними домами, солнце, и все поля, огороды, тополя – в свете золотом, и дальние сосны в бору от солнца медны и влажны, и по дороге у самых полей бродит золотой луч, и еще дальше – золото и свет.
Мать сидела всё время на крылечке, заказала на ферму, чтоб подменили – спина разболелась, и ноги распухли, видно, от непогоды. Мать смотрела на дальний золотой луч и думала о вчерашнем, о том, как больно, навсегда обидели Лену, да сама обижена Мишей насмерть. Но как всегда судила не сына, судила себя, отыскала память новые обвинения в своих уголках – вспомнилось, в каких ботинках – в старье отправила его в первый класс, сколько лет копила ему на новый костюм, а другие уж ходили в новых давным-давно, – и вот теперь сын мстит ей за всё, и в этой мести она виновата сама. Золотой луч зашёл в их огород, ударил в раму, вздрогнули и вспыхнули стекла, потом погасли. Хотелось жить сначала, и чтоб был бы жив муж Егор, и чтоб Миша снова был маленьким, не знал городских дружков, кривлянья, походил бы на человека. И больше бы ничего не надо. Золотой луч погас совсем, – вот уже вся туча обвила небо. Дождь пошёл по всей земле. И в этом дожде показались вдруг дикие гуси. Они летели к синим озерам, солнышку, а может, и к дальним морям. Кончики крыльев у них смыкались, получалась живая непрерывная линия, сдвинутая вперёд острым клином. Они летели быстро, безмолвно, и, казалось, они никогда не устанут – так мерно качались их крылья, не уставшие еще от дороги, от ветра. «Люли-люли-люленьки, прилетели гуленьки...» – вспомнила мать – и сердце зашлось.
Забрела в дом. Миша собирался в дорогу. Глаз не поднимал: молчал встревоженно.
– Сядь, поешь, – сказала мать.
– Ладно, в городе...
У ограды Степана зашумел автобус. Миша торопливо перед зеркалом завязал шарфик. Автобус уже шёл навстречу. Шёл медленно, качаясь, обходя лужи. Миша подбежал, стукнул в дверцу. Автобус не останавливался, шёл дальше. Миша забарабанил в дверцу. Степан прибавил скорость. Миша закричал отчаянно: «Остановись!» Но автобус двинулся ещё быстрее. И Миша испугался. Стало больно в спине – из рук выпала сумка. Бежать больше не мог, волосы смокли, по щекам катились дождины. Стало совсем жутко, хотелось чего-то крикнуть, рвануться, но задохнулся. Подошла мать, подобрала сумку. В небе опять показались гуси. Они не смотрели на землю, очень спешили.
– Значит, презирают...
Мать молчала.
– Мама. Ну, мама же?..
Но она молчала.
– Жить-то как? Как, мама? За человека же не считают?.. Ну, мама...
А гуси летели высоко, высоко. Где-то опустятся...
Вот и закончилась моя история про Мишу Сорокина. И закончилась как-то грустно, на печальной, щемящей ноте. Но печаль – это грех и потому обещаю его замолить. К тому же и в жизни вокруг – много радости. Так что напиши об этом Семён Петрович, и мы – люди – будем тебе благодарны. И что мне на это ответить? Да только одно – буду стараться!
(Продолжение следует)