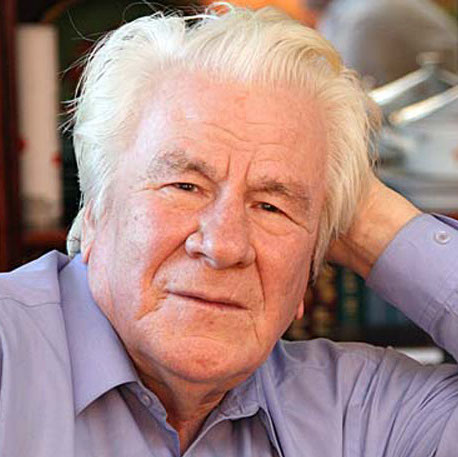III. А гуси летели высоко, высоко…
Афганец
V
Прощай, Люсенька, наш дорогой лисёнок. Я не знаю – удалось ли тебе догнать твоё заветное облако, удалось ли… Я не знаю, не ведаю… Как не знаю и самого главного – сбылось ли моё обещание – рассказать на своих страничках о чём-то счастливом и радостном, ведь в нашей жизни полно другого – разных печалей, страданий. И всё же эта девочка Люся для меня, как светлый лучик, который согревал долгие и многотрудные годы. К тому же эта девочка совсем скоро поступила в школу и потом, в старших классах, я учил её любить нашу родную литературу. А потом… а потом, как это часто бывает, мы попрощались. И сейчас Люсеньки живёт с семьёй в далёком северном городе и часто пишет своему учителю, то есть мне очень длинные, хорошие письма. И я их читаю и перечитываю, и для меня это радость. И этой радости очень много, потому что пишут мне и другие. Особенно часто откликается Паша Таскаев. Он – один из моих самых любимых. Так вот Пашенька пишет не только письма, но часто присылает и кассеты со своими песнями и романсами. Да, да, со своими родными песнями, ведь Паша их сам сочинил. И все его сочинения о той далёкой уже войне, о таком же далёком Афганистане. Очень тяжело их слушать, потому что в каждой песне – боль и тоска. А что удивляться, ведь Паша был тяжело ранен на той войне и потерял многих друзей. Об этом и все его песни. Он их записывает на кассеты и присылает своему дорогому учителю Семёну Петровичу Стародумову, то есть мне. А я, конечно, рад, благодарен, ведь для меня эти песни – награда. Я часто слушаю их и не могу успокоиться, а потом начинаются воспоминания. Да, я хорошо помню, как Пашенька ещё в девятом классе подружился с гитарой и стал сочинять свои песни. Мы их впервые услышали на школьных вечерах, – и вот увлечение не прошло. Больше того, со временем оно только усилилось и стало памятью о той далёкой войне. Господи, как бы забыть про неё, как бы убрать из памяти! Но как это сделать, как?! Ведь слишком глубоки эти раны, и они навсегда. Вот и мой ученик так же считает, иначе бы не писал свои песни. И я их часто слушаю длинными осенними вечерами, вот и сегодня включил эти плёнки и сразу – прощай мой покой. Значит, будет бессонная ночь, значит, опять буду со своими учениками. И моя душа будет с ними подолгу говорить, вспоминать. И о Паше Таскаеве вспомнит, конечно, ведь сам Паша недавно переехал из Сосновки в Курган. Вспомнит она и о моём однокласснике Мише Сычёве, сын которого героически погиб под Кабулом. Я помню его звали Женей, и он тоже учился в Сосновской школе. Господи, как горько об этом писать, как тяжело подбирать слова – родился, учился, погиб… Но я всё равно буду рассказывать об этих людях, ведь все они – моя родная семья. Но с кого же начать рассказ? А может быть с моего одноклассника – Миши Сычёва? Хорошо, пусть так и будет. И я открываю свои тетрадки и начинаю новую главу. И пусть у ней будет заголовок – «Афганец», ведь он как раз про моего одноклассника, с которым, помнится, я не встречался лет десять, а может и больше. И сказать откровенно, – я уже и не ждал этой встречи – и вдруг увидел его на похоронах Марии Сергеевны, нашей учительницы истории. И вот наступил день похорон, и там мы повстречались. Но вначале я его не узнал: к свежей могилке подошло тогда какое-то странное существо на костыльках и в кирзовых сапогах. Да, в сапогах. А ведь стояла жара... Он был давно не мыт и не брит, волосы на голове торчали ржавой щетиной.
– Кто ты такой? – спросили его.
– Человек. – Он сказал это усталым и безразличным голосом, и ничто в нём не дрогнуло, как будто всех презирал. Потом он взял большую совковую лопату и вместе со всеми начал кидать песок. Костыльки за минуту до этого он бережно отнес в сторону и чем-то прикрыл. И когда прикрывал, – оглянулся быстро, испуганно, так бывает, если прячут сокровища. И только потом уже взял лопату и начал кидать вниз песок. Крышка гроба гулко отвечала – вибрировала, точно железная. А может, это во мне всё дрожало, вибрировало, ведь Марию Сергеевну я очень любил. И вот уже означился высокий песчаный холмик, – и начали устанавливать массивный сосновый крест. Установили, пошатали немного – держится крепко. И в это время старушка произнесла с придыханием:
– Неладно ведь крест-то, она же была коммунисткой, учителкой.
И сразу же этот голос забили другие голоса:
– А нынче можно. Все ворота открыли, любого коня запрягай.
– А чем же крест-то плохо? Земелька всех уравнивает.
– Всех-то всех, да не всех...
– О Господи-и-и, почему крест-от вам помешал? Она же ребятишек учила, отдавала им душу. Так что крест вполне соответствует...
И ещё о чём-то говорили, спорили у меня за спиной, и тут я почувствовал, что на меня усиленно смотрят. Так часто бывает: стоишь где-то в очереди или едешь в автобусе и вдруг замечаешь, что на тебя кто-то глаз положил. Изучает прямо, даже исследует. Иногда этот взгляд далеко ещё, за сто метров, но его всё равно ощущаешь – и ничего не поделать. Так и сейчас: на меня кто-то смотрел. Я повернулся и сразу понял: на меня смотрело то странное существо на костыльках. Оно было маленького роста, худое и кособокое, а с плеч этого существа, похожего на кузнечика, спускался длинный мешковатый пиджак, закрывающий исхудавшую плоть, но зато глаза... Они горели, изучали меня, и в них стояло лукавство. А если сказать точнее – презрение. Но за что же ему меня презирать? Лучше бы в баньку сходил, да почистился, да костюмишко обновил, а то чистый бродяжка. Да и лечиться надо – неужели до самой смерти на костыльках... И всё же между этими мыслями я его помаленьку разглядывал, и он понял это – глаза опустил. Но на лице всё ещё жила, кривилась улыбочка. Но неужели? О, Боже мой! Ведь точно такая же улыбочка появлялась у него, когда наш химик объявлял ему двойку. Он улыбался, точно не веря учителю, точно презирая его со всеми ничтожными склянками, реактивами, со всеми его потрохами. Ну конечно же, я теперь узнал его, догадался! А вначале мое чувство побежало впереди моей памяти, но вот сейчас они поравнялись, и я сразу же вздохнул облегченно: да, это он, наш Мишка Сычев. Я с ним сидел за одной партой в десятом классе. Он начал тогда писать стихи, и их печатала наша стенная газета. Наверное, из-за этих стишков Мишка и презирал всех помаленьку. Да и учился он хорошо, но всегда рывками: то получает пятерки, а то выйдет к доске и молчит, как партизан на допросе. Особенно такое бывало на химии, потому что химика он ненавидел, а за что – поди угадай. Да, так и было: мы чувствовали, что он знает материал, но всё-таки молчит и таится. И тогда химик выходил из себя, начинал краснеть и расстраиваться и повторять подряд одни и те же слова: «Почему презираешь, Сычев? Почему презираешь? Ты ведь знаешь материал, но... но презираешь...» И, ничего не добившись, начинал ещё сильнее нервничать и страдать. Но Мишка стоял не шевелясь, и только глаза его хитровато моргали и что-то знали. А химик уже начинал бегать по классу, и его щёки краснели до тугой свекольной силы. Бедный, несчастный учитель... Иногда он подбегал так близко к Мишке, что нам казалось – сейчас он его ударит. Но Мишка не шевелился. И тогда химик начинал напоминать нам какого-то проклятого фашиста, а его непокорный ученик – отважного партизана. И всё-таки допрос кончался ничем. Мишка уходил и победно садился на своё место, и на лице возникала снова улыбочка, и учитель доставал сигарету и начинал её разминать. Потом вспоминал, что на уроке курить нельзя, и как-то враз обмякал, как будто из резиновой шины уходил воздух... И всё это мелькнуло у меня в голове за какую-то минуту-другую, и тут я содрогнулся: так значит, значит, это Мишка, мой одноклассник, сосед мой по парте, наш школьный поэт... Но он же не похож сейчас на себя. Даже и на человека-то совсем не похож, хоть и заявил с вызовом, что он человек. «Так что же с ним, что же?» – кричала душа...
А между тем мой одноклассник исправно махал лопатой, что-то советовал и даже приказывал. Без костылей стоять ему было тяжело, и я видел, как ноги у него дрожат, разъезжаются, и спина проседает все время вниз, будто её тянут к земле канатиком. На какие же муки он себя обрекает, и только потому, что хочет приказывать. И вот я снова услышал его повелительный голосок. Наверное, Мишка специально создавал этот шум возле себя, чтоб показать своё усердие, прилежание. И это ему удавалось. Но на это он тратил немало усилий. Но вот уж крест закрепили и оградку поставили, и теперь всех зовут на поминки. Дело сделано – человека прибрали к земле, и сейчас положено посидеть за столом, дать отдых душе.
Поминали нашу Марию Сергеевну в просторной школьной столовой. Собралось здесь много людей: учителя, родные и близкие. Пришли и те, кто были на кладбище. Увидел я там и Мишку Сычева. А ведь никто не приглашал его. Я знаю точно – никто... Но он уж, видно, привык. Да и сегодня он заслужил. В конце концов, недаром же так старался на кладбище, как будто хоронил самую близкую родню. И вот разнесли по столам густой наваристый борщ, разлили водку по граненым стаканам, а женщинам предложили красное вино. Директор школы сказал длинную речь, а после этого все склонились над тарелками. Я видел, как Мишка много и жадно ест и как всё время подливает себе из бутылки. Я даже занервничал – у нас же всё-таки поминки, а не чьи-то именины. Но Мишка моих мыслей, конечно, не слышал. Он продолжал орудовать вилкой и время от времени кидал быстрые взгляды в сторону кухни. Он словно бы ждал добавки. Он ждал и дождался. К нему быстро подошёл наш физрук Иван Николаевич и что-то принёс ему на тарелке. Наверное, физрук был распорядителем на наших поминках. И я видел, как он надолго задержался возле Мишки, как он о чём-то его расспрашивал, улыбался, но тот неохотно с ним разговаривал, – больше интересовался самой едой. А мне, наоборот, ничего не пилось и не елось. Было тяжело – я ведь любил нашу Марию Сергеевну, да и мешала эта неожиданная встреча. Всё-таки Мишка – мой одноклассник, почти товарищ. Но почему он в таком виде? И эти печальные костыли… Откуда они, что с ним случилось?.. Но мои мысли перебил физрук. Он затронул меня за плечо и тихо спросил, показав взглядом на Мишку:
– Вы его знаете?
– Разве заметно?
– Очень заметно, – он улыбнулся, и я тоже в ответ улыбнулся и сразу признался:
– Это мой школьный знакомый. За одной партой сидели, а теперь вот…
– А теперь вот, считай, попрошайка. Но мы его голодным, конечно, не оставим… – грустно сказал Иван Николаевич.
– Приживал, значит? – Как-то невольно вырвалось у меня.
– Зачем вы? Не надо так… – Он нахмурился и подсел ко мне на свободный стул. Я приготовился к продолжению разговора, но он молчал. Прошло минут пять, а может, и больше. Наконец снова заговорил. И голос его изменился, стал совсем тихим, прерывистым. Как будто каждое слово он выговаривал, превозмогая боль. – Вы же знаете, что у него сын погиб под Кабулом. Это надо понять… И жена умерла. Приехала с похорон – и не могли отводиться. И вот за каких-то два года сгорел человек, стал бичевать. И жизнь потеряла смысл. – Он замолчал и посмотрел внимательно на меня. – Извините, конечно, за громкие слова. Я, конечно, понимаю, что вы человек с хорошим образованием, не нам чета. Но ведь сын-то у него был один – разъединственный…
– А при чём здесь чьё-то образование?
– Простите, это я так, сгоряча. Иногда, знаете, подмывает сказать что-то обидное, как будто люди виноваты в нашем горе.
– Значит, жалеете его?
– Может быть, и жалею... А может, и уважаю. – Он опять в упор посмотрел на меня. В глазах у него мелькнуло что-то матовое, печальное и сразу погасло. – Не знаю, говорить вам, не говорить?..
– Говорите, конечно, если не секрет.
– Ну какой же секрет... Я ведь тоже там побывал. Да, не удивляйтесь, я сам из афганцев. Служил на Кушке, а туда отправляли нас в рейды. На много недель. Так что и меня тоже...
– Могли убить?
– Ох, молодец! Догадался... – Он грустно прищурился и неожиданно признался: – Не хочу! Не будем об этом.
– Почему?
– Не могу! И не хочу – понимаете?! Да и зачем все слова?! Вы же от нас отказались и заклеймили – не та, мол, была война. Не та...
– Я думаю по-другому.
– Не надо. Все думают так, только при случае притворяются. – Он покачал головой, усмехнулся. – Всех приучили, заставили всех. Вначале, значит, хвалили, писали – герои, посланцы, на вас смотрит Родина-мать... – Он опять усмехнулся, скривил лицо. – Хвалили, хвалили да под гору свалили. А теперь лишь бы забыть, лишь бы... А впрочем, я вам настроение попортил. У вас и так горе, поминки – печальное дело, а я с какой-то войной... – На его смуглом, почти мальчишеском лице вспыхнул румянец. Физрук разволновался и не мог это скрыть, и мне захотелось его утешить, но он опередил: – Простите меня...
– За что?! – разом выдохнул я, а он улыбнулся тихой, еле заметной улыбкой и так же тихо опять повторил:
– Простите меня...
Я хотел ему возразить и поднял глаза. Но его уже не было рядом. Он уходил от меня быстрой, решительной походкой, плечи его чуть колыхались. Со спины он очень походил на моего сына. Такой же рост, такие же крепкие, покатые плечи… А впереди, за крайним столом уже кто-то тараторил, почти кричал с пьяным придыхом: «Я эту Марию сто лет знаю, не верите? Ей цены не было, ясное море. Давайте подымем за неё, давайте!» – И зазвенели стаканы и рюмки, и опять тот же голос: «А давайте повторно! Я разливаю…» – И уже через час такие же речи были почти за каждым столом, за каждым. Вот она наша русская простота, наша крайность – даже поминки превращаем в гулянку. И мне стало совсем тяжело. Наверное, и на моих поминках когда-нибудь будет так же. А может, и хуже. Тут хоть хорошее говорят, вспоминают... Голова моя болела, просто раскалывалась, как от угара. Но всё равно нельзя было распускаться. Ко мне кто-то обращался с вопросами, с утешениями, и я кому-то отвечал, жал руки и обещал куда-то прийти. Но всё это делалось через силу, еще немного – и я бы не выдержал. Но вот шум голосов начал стихать, люди потянулись к выходу, к двери. Кто-то уже торопливо закуривал на ходу, кто-то рассказывал что-то смешное... Ох, жизнь, ох, простота, простота. Хорошо, что не слышит всё это покойница... И в этот миг я заметил Мишку. Он двигался не спеша, осторожно, да и ноги уже плохо ему помогали. И выручали теперь костыльки – неплохая подпорка. Но всё равно Мишку слегка качало. Костыльки задевали за металлические стулья, и те гремели, легонько постукивали. Зато на лице у него стояло довольство. Да и как же иначе: он хорошо выпил, поел, щеки его раскраснелись, и потому он имел совершенно довольный вид, даже счастливый. Заметив меня, он сощурился, его цепкие надменные глазки как бы застыли, а в уголках рта, наоборот, что-то дрогнуло – слабый ветерок пробежал, дуновение. Я ждал какой-то выходки от него – даже дышать перестал, и в ногах неприятно похолодело. А Мишка в это время сделал ещё два шага вперёд, и я теперь совсем близко увидел его состарившееся, потемневшее от излишеств лицо. Уголки губ у него уже не дрожали, не шевелились, – он справился, видно, со своим волнением, а может, презрением. Да, наверное, так: я по глазам чувствовал, что Мишка сейчас всех презирает. А потом он открыл рывком дверь, но не за ручку, а ткнул её костыльком... И вдруг, как ветер, как молния, как камень громадный с неба, меня пронзил ужас – отчаянье. О, Господи, ангел божий, хранитель мой! И да святится имя твоё, и да будет воля твоя кругом, – а если бы мой сынок, мой единственный сын погиб бы в той страшной, в той недавней войне… Продлись она ещё год, полтора – и он как раз попал бы туда, а если попал бы в этот бездонный овраг, то наверняка бы не вырвался. Нет, не вырвался бы – никогда, ни за что… И ещё я представил, я вспомнил что-то, увидел воочию: впереди меня идут люди, очень много людей, играет музыка, а на плечах у них – гроб. И большое солнце на небе, и день ясный, тёплый, протяжный сентябрьский день. Когда это было, когда же?.. Они идут, а на плечах у них – гроб. А там – мой сынок, мой… Господи, что же творится с моей головой, что же? Что за виденья в ней, что за картины? А может… может я схожу с ума, погибаю… Но в этот миг кто-то из близких тронул меня за плечо: «Пойдёмте отсюда. Мы же с вами как раз на проходе…» Я оглянулся по сторонам: возле меня были знакомые лица, звучали знакомые голоса. И я вздохнул посвободней и пошёл вместе со всеми. Сделав шагов десять, я опять оглянулся. У дверей возвышался наш физрук-афганец. Я поднял руку – он улыбнулся. Лицо его было бледное, угасающее, как на картине. Через секунду картина стала расплываться, потом и вовсе исчезла, и я пошёл дальше. И всё же что-то мешало мне, удерживало на месте, и я повернулся всем телом, как будто меня развернули. И сердце сразу забухало, но я не увидел людей. Передо мной возвышалась большая серая стена дома. И опять стало страшно. А сердце то стучало у горла, то совсем затихало. Не помню, как сделал ещё несколько шагов. И вдруг увидел просвет – я вышел на большую дорогу. Где-то шумела машина, смеялись дети. И это было, как избавление.
(Продолжение следует)