
В современном глобализированном мире остро стоит проблема ксенофобии, как этнической и биологической (расизм), так и идеологической, связанной с несовместимостью норм и ценностей. Группы людей, объединённые каждая своей идентичностью, но при этом вынужденные жить вместе компактно на одной территории и ежедневно сталкиваться и контактировать друг с другом, всё более отчуждаются друг от друга, между ними накапливается вражда, доходящая до взаимного расчеловечивания и готовая однажды вылиться во взаимоистребление по образцу боснийской, а то и руандийской резни, но только глобального масштаба. Борьба с расизмом, осуществляемая путём политических репрессий, уголовного преследования за так называемый «язык ненависти» («hate speech») и организованных кампаний травли людей, объявленных «расистами», «сексистами» и т.п., весьма эффективно уничтожает остатки либеральной свободы слова, но нисколько не решает проблемы трайбализации современных городов, население которых стремительно распадается на «меньшинства» — новейшую редакцию племён.
Мрачная ирония ситуации состоит в том, что изначально проект борьбы с расизмом провозглашал своей целью освободить личность от групповой идентичности, то есть восприятия через призму расовой, этнической, языковой, конфессиональной, половой и социально-классовой принадлежности, сделав их вторичными и несущественными в сравнении с индивидуальными личностными качествами и свободным личным выбором. Итогом же многолетней «борьбы с дискриминацией» оказалась диаметрально противоположная ситуация распада прежнего общегражданского общества на совокупность групп идентичности, формируемых по различным признакам, и ситуация, в которой права субъекта прямо зависят от принадлежности к одной из них и являются не его правами человека как человека, а правами члена группы, полностью зависящими от того, какого объёма привилегий эта группа для себя и своих членов добилась.
В распаде прежнего гражданского общества на совокупность враждующих меньшинств многие видят целенаправленный проектный заговор мировой элиты. Такой взгляд, регулярно высмеиваемый как «теория заговора», на самом деле не лишён серьёзных резонов и вполне рациональных оснований: мировые элиты действительно обладают и заинтересованностью, и ресурсными возможностями для того, чтобы подталкивать развитие событий именно в этом направлении, и реализовывали в течение нескольких десятилетий программы массовой иноэтнической миграции и мультикультурализации общества отнюдь не тайно, а совершенно явно и открыто.
Тем не менее, было бы преувеличением приписывать столь масштабную трансформацию общества исключительно проектному управлению, оставляя без внимания объективные и безлично действующие факторы, которые сделали данный проект возможным и принципиально реализуемым. Ключевыми объективными причинами здесь, конечно, являются глобализация (вызванная естественным для развития капитализма процессом расширения и слияния рынков и мировым разделением труда, то есть повышающей производительность и профессиональное качество специализацией национальных экономик в рамках единой системы мирового производства), монополизация и концентрация капитала (сосредоточившая собственность, а, следовательно, и власть в руках небольшого замкнутого круга семей), второй демографический переход (вызвавший колоссальные потоки замещающей миграции, переходящей уже в вытесняющую, и, как следствие, мультикультуризацию мировой метрополии), а также чисто техническое развитие транспортных и коммуникационных технологий.
Перемешивание больших масс населения и ситуация, в которой люди, принадлежащие к совершенно разным расам, культурным традициям и социальным стратам, вынуждены постоянно контактировать друг с другом, вопреки ожиданиям не только не привели к всеобщей ассимиляции и отмиранию групповых идентичностей, но и, наоборот, резко актуализировали и контрастировали их, обострив все противоречия. Именно в этом контексте и ставится сегодня вопрос: как подавить распространение ксенофобии и расизма в самом широком смысле слова?
Впрочем, прежде чем решать как именно что-то подавлять, уничтожать и вообще бороться, будет полезно сначала задаться вопросом: а нужно ли это делать вообще? Эффективное решение любой проблемы может исходить только из объективной оценки реальной ситуации, а она на данный момент затруднена тем, что само обсуждаемое явление практически не имеет даже нейтрального безоценочного названия (кроме известного лишь узкому кругу специалистов термина «парохиальный альтруизм»). Все более или менее распространённые и общеизвестные понятия, используемые для обозначения этого явления, не только перегружены негативными коннотациями и превращены в политические пропагандистские ярлыки, но и вдобавок прямо искажают смысл явления. Так, например, термин «ксенофобия» уже содержит в себе характеристику «фобия», которая ассоциируется с психическим расстройством, связанным с патологической реакцией паники или тревоги на стимул, не представляющий реальной угрозы. Термин же «расизм» и вовсе приобрёл коннотацию политического, а то и уголовного обвинения. Между тем, предпочтение своих и настороженное, даже враждебное отношение к чужакам представляет собой эволюционно-адаптивную норму человеческого поведения, которая во многом вообще сформировала человека сначала как род, а потом и как вид. Как раз отсутствие восприятия границы «свои – чужие» (как в расово-морфологическом и генетическом, так и в этнокультурном аспекте) следует считать психическим и поведенческим отклонением от нормы.
Собственно в этом и состоит причина того, что разрушение границ моноэтнических национальных государств привело отнюдь не к единству и гомогенности человечества, а к нарастанию неотрайбализма: генетическая основа человеческого поведения такова, что в ней заложено стремление к противопоставлению «свои – чужие». Поэтому нужно понимать, что объявляющие войну на уничтожение и полное искоренение ксенофобии и расизму попросту объявляют войну человеческой природе: поведенческим программам, буквально прошитым и в геноме, и в культуре человека как вида. Можно ли изменить ситуацию? Едва ли. Скорее всего, человеческая природа всё равно возьмёт своё, что мы прямо сейчас и наблюдаем в мире во всей наглядности: разрушение традиционных этнонаций привело лишь к распаду общества на «меньшинства», являющиеся современной версией племён.
Но, допустим, каким-то экстраординарным усилием цели удалось бы достичь, и парохиальный альтруизм был бы полностью подавлен и культурно, и буквально на уровне блокирования генетически заданных программ. К чему это приведёт? Очевидно, к крайнему перекосу в пользу индивидуалистических, эгоистических стратегий поведения, то есть к атомизации общества и распаду скрепляющих его отношений, социальных связей и культурных норм, ведь именно культурные нормы представляют собой главный источник псевдовидообразования и деления на своих и чужих. Атомизация общества неминуемо приведёт к краху культуры и цивилизации, включая научно-техническую её составляющую. Более того, институт семьи у человека тоже не является чисто биологическим явлением, а в значительной степени задаётся и поддерживается социальными нормами, так что их разрушение и распад могут привести, среди прочего, и к буквально физическому вымиранию (которое, кстати, мы тоже уже и наблюдаем под успокаивающим «политкорректным» наименованием т. н. «второго демографического перехода»). Так стоит ли пытаться бороться с тем, что является адаптивной биологической нормой человеческого мышления и поведения?
Разумеется, повторение сюжетов Нанкинской и Волынской резни едва ли пойдут на пользу их потенциальным жертвам, а, если этническая чистка, сопровождаемая тотальным геноцидом, проводится не преобладающим большинством против малочисленного меньшинства, а двумя сопоставимыми по численности, организованности и военно-техническому потенциалу сторонами друг против друга, то в большом проигрыше в итоге останутся обе. И именно здесь уже возникает база для конструктивного обсуждения: можно ли в интересах обеих сторон предотвратить массовое проявление поведенческой реакции, которая, хотя и биологически нормальна, но в данном случае принесёт лишь издержки и убытки обеим участвующим сторонам? Исторический опыт показывает, что в случае, если силы двух компактно проживающих на одной территории этнических групп более или менее сопоставимы, то существует только один способ разрешить ситуацию по существу и искоренить саму причину конфликта, не доводя дело до взаимной резни. Этот способ — обмен населением и его массовые переселения, проведённые таким способом, чтобы исключить в дальнейшем компактное проживание разных национально-этнических групп на одной территории. Этот способ, в частности, был очень успешно применён сразу после окончания Второй мировой войны для прекращения кровавого этнического конфликта между украинцами и поляками: была установлена граница, и практически все поляки высланы с Украины в Польшу, а практически все украинцы — из Польши на Украину. Разумеется, насильственное массовое переселение людей с насиженных мест, где они жили веками, — мера крайне жёсткая и даже жестокая, но именно она позволила прекратить взаимные массовые убийства.
Особо подчеркнём, что любые другие методы являются чисто паллиативными: они могут лишь на время сгладить внешние симптомы и остроту конфликта, но не устраняют его причины. Две разные этнические группы, проживающие на одной территории и сопоставимые по численности, в любом случае рано или поздно войдут в конфликт, причём в режиме взаимоистребления. Мирно ужиться с коренным народом может лишь сравнительно небольшая, не растущая (относительно коренного населения) и не слишком резко отличающаяся по облику, культуре и традициям диаспора, занявшая свою специфическую экологическую нишу, не претендующая на равный статус с коренным этническим большинством и научившаяся быть для него полезной и привычной в качестве своего рода симбионта (как, например, российские немцы по отношению к русскому коренному большинству). В противном случае, особенно если мигранты слишком отличаются, а рост их численности вызывает ощущение ползучей оккупации, конфликт неизбежен, и вопрос состоит только в том, кто кого. Это верно, разумеется, и для современной Европы, пожинающей горькие плоды мультикультуралистского безумия нескольких последних десятилетий. Единственным способом избежать грядущего «всеевропейского Косова» является принудительная массовая репатриация (депортация) инорасовых и инокультурных мигрантов неевропейского происхождения и всех их потомков обратно в Африку и Азию.
Человек эволюционно сложился как социальное животное, живущее в группе генетических родственников, разделяющих общие культурные нормы. Со временем эти родственные группы разрослись в племена, племена — в народы, народы оформились в политические нации, однако принцип остался прежним: одна политическая, культурная и расово-биологическая группа (в норме биологическая раса в современном популяционном смысле, этнос в культурном смысле и нация в политическом смысле совпадают в отношении составляющих их индивидов) занимает конкретную территорию, отделённую дискретно проведённой границей, и её представители не пересекаются в своей повседневной жизни с носителями чуждого набора аллелей и чуждой системы культурных норм. Нарушение этого правила неизбежно провоцирует агрессию, конфликт и взаимные потери.
Допустим, однако, что по какой-то причине разрешить конфликт по существу, разделив ареалы популяций географической границей, в данный момент невозможно, при этом популяции сопоставимы по силам, и обе заинтересованы в том, чтобы не довести тлеющий подспудно конфликт до прямой войны и резни. В этом случае как раз и возникает практическая задача борьбы с проявлениями национализма, расизма (в самом широком смысле слова), этноцентризма и ксенофобии. Не потому, что они плохи и неправильны в принципе (в принципе, то есть в общем случае, они абсолютно нормальны и адаптивны), а только потому, что их слепое, инстинктивно-автоматическое «выстреливание» именно в данный конкретный момент приведёт к потерям, неприемлемым для обеих сторон. Однако и в этом случае современное западное общество совершает фундаментальную и фатальную ошибку, подменяя борьбу с расизмом борьбой с расистами. Между тем, это вещи не просто разные, а диаметрально противоположные и друг другу полностью противоречащие. Разберём этот вопрос немного более подробно.
Что такое расизм не в узком, а в самом широком смысле слова? Расизм есть частное проявление ксенофобии (при всей крайней неудачности и тенденциозности этого термина). В современном мире «расизм» (как биологический, так и культурный) у белых европейцев и американцев проявляется не столько в наступательной форме стремления к господству белых и порабощению чёрных и цветных, сколько в чисто оборонительной агрессии, вызванной угрозой (отнюдь не вымышленной, а совершенно реальной и предельно наглядной) экспансии расово и культурно чуждых мигрантов и заселения ими территории белых европейцев. Сама ситуация постоянного и крайне неприятного бытового контакта с чужаками вызывает у «ксенофоба» вполне естественную и оправданную нарастающую тревогу и беспокойство, которые, не находя конструктивного выхода, могут в итоге перерасти в агрессию. Хотя эта реакция совершенно естественна, выплеск спонтанной агрессии приведёт лишь к ответной агрессии, и далее эта цепная реакция запустит слишком опасные события, особенно в условиях неготовности к ним. Поэтому возникает необходимость до конструктивного разрешения ситуации по существу (каковым, как уже было сказано, может быть только заранее спланированная и проектно реализованная массовая депортация) каким-то образом купировать перерастание естественного беспокойства и тревоги в спонтанные неуправляемые акты агрессии и насилия.
Каким образом можно купировать тревогу и страх? Очевидно, первым шагом к этому будет дать возможность «ксенофобу» его открыто и свободно высказать, признав для начала вполне нормальным, законным и естественным. Проявить к его опасениям должное уважение и понимание, открыть возможность общественного обсуждения проблемы. Оставить возможность для «ксенофоба» отстаивать свою позицию в легальном ненасильственном поле: привлекать общественное внимание к проблеме с использованием средств массовой информации и мирных публичных мероприятий, создавать партии и объединения, участвовать в честно и без манипуляций проводимых выборах, в деятельности правительства и выработке практических решений. Криминализовано может и должно быть только прямое не санкционированное государством насилие и прямые, буквальные и непосредственные призывы к нему. Всё остальное, начиная от реальной свободы слова, не ограниченной цензурой политкорректности и допускающей любые высказывания, не являющиеся прямым призывом к противозаконным действиям, до участия в выработке и реализации политических решений, как раз и является переводом накопленного страха и раздражения в конструктивное русло, уводящее от сценария неуправляемого взрыва стихийного насилия. Однако прежде всего необходимо снять с человека, и без того находящегося в состоянии вполне обоснованной тревоги, дискриминационную стигму «расиста», показать ему, что его опасения и тревоги услышаны окружающим обществом со вниманием и уважением как к его личности, так и к его мнению. Именно это и является первым и абсолютно необходимым шагом купирования любой «фобии» и средством предотвращения её перерастания в общественно опасное поведение.
Что вместо это делает современное общество и современные государства? Буквально диаметрально противоположное! Они навешивают на т.н. «расистов» и «ксенофобов» оскорбительные, дискриминирующие ярлыки-стигмы, развязывают против них кампании травли, лишают под предлогом борьбы с «риторикой ненависти» права на свободу слова, высмеивают в максимально грубой и издевательской форме их тревоги и опасения, организуют с целью не допустить националистические партии в правительство явные юридические и политические манипуляции, нарушающие нормы честной политической конкуренции. Одним словом, парадоксальным образом борьба с «расистами» давно сама по себе приобрела откровенно расистский и дискриминационный характер, крайне разрушительный для норм и принципов правового гражданского общества и представляющий для него многократно бо́льшую угрозу, чем те «враги демократии», от которых он его якобы защищает.
В самом деле, можно ли устранить «фобию», третируя, дискриминируя, травя, высмеивая и публично унижая тех, кто её испытывает? Очевидно, что нет! Борьба с «ксенофобами» не только не устраняет и не смягчает ксенофобии, а, наоборот, подпитывает её, разжигает и переводит из русла здорового, оправданного и вполне естественного беспокойства, вызванного рациональной причиной, в уже настоящую невротическую фобию без кавычек. Параллельно с этим демонстративное, открыто циничное и глумливое нарушение правил честной политической игры (уголовные преследования по совершенно надуманным предлогам, как в случае с Марин Ле Пен, попытка запрета партий, как в случае с «Альтернативой для Германии», политически мотивированные аннулирования результатов выборов, как в случае с Кэлином Джорджеску, беспринципные сговоры системных правых и системных левых в рамках политики «санитарного кордона», блокирующего внесистемные партии даже в случае их массовой поддержки избирателями) фактически лишает так называемых «ксенофобов» возможности бороться за реализацию своих ценностей и принципов законными, правовыми и ненасильственными методами, буквально толкая их на путь экстремизма, чтобы потом запретить и развернуть против них и их членов репрессии. Итогом такой «борьбы с расизмом» в США и Европе закономерно становится появление персонажей вроде Андерса Беринга Брейвика.
Что можно было бы практически сделать полезного и конструктивного для предотвращения эскалации межэтнических конфликтов в мире? Очевидно, создать условия для задействования адаптивных поведенческих моделей, альтернативных модели острой конкуренции, вражды и истребительной войны между сплочёнными этой борьбой человеческими группами. В наибольшей степени поведенческой стратегии межгрупповой конкуренции и трайбализма (в терминологии биологии поведения – парохиальному альтруизму) эволюционно противостоит поведенческая модель внутригрупповой индивидуальной конкуренции, то есть эгоизма, но делать ставку на неё неконструктивно и опасно, поскольку сильный крен в эту сторону чреват десоциализацией и атомизацией общества, то есть его распадом с катастрофическими последствиями для культуры и цивилизации, а, возможно, и для физического выживания принявшей его в качестве базовой стратегии социального поведения человеческой популяции. Не слишком перспективно выглядит и ставка на стратегию социального избегания и уклонения, поскольку она также ведёт к десоциализации и атомизации общества, пусть и более мирным путём, однако его пусть и мирный распад может иметь не менее кровавые последствия, учитывая практически неизбежную агрессию со стороны внешних (а также проникших вместе с иноэтнической миграцией уже и вовнутрь) более сплочённых и мобилизованных чужих социумов. А вот ставка на ограниченное использование поведенческих механизмов ситуативного прагматического сотрудничества определённо выглядит более перспективной.
Обратим внимание и особо подчеркнём, что речь ни в коем случае не идёт о предложении заменить и вытеснить национально-этническую идентичность аморфной сетью этнически индифферентных связей и коллабораций. Во-первых, это малореалистично: как мы видим на примере «неотрайбализма» меньшинств, «парохиальная» стайность в форме объединения вокруг групповых идентичностей всё равно упрямо прорастает даже в случае разрушения «больших» национальных идентичностей, а механизм «плавильного котла», который успешно работал примерно до 60-х годов XX века, безнадёжно сломался при переходе от индустриального общества с его огромными унифицирующими людей конвейерными производствами к модели постиндустриального общества информационных технологий и индивидуализированных услуг; таким образом, можно сказать, что именно деиндустриализация во многом породила мультикультурализм. Во-вторых, даже в случае, если бы такой проект социальной трансформации («разборки» этнонациональной идентичности и её замены на сеть отношений сотрудничества) и удалось каким-то образом реализовать, это было бы опасно и пагубно — опять-таки из-за неизбежности экспансии и агрессии со стороны чужих сплочённых групп. Речь идёт, таким образом, ни в коем случае не о демонтаже собственной расово-биологической и этнокультурной идентичности, являющейся залогом коллективного выживания, а лишь о ситуативном смягчении остроты межэтнического антагонизма и угрозы его перерастания в прямое открытое насилие.
Достичь этого можно было бы созданием условий для взаимовыгодности межэтнического, межкультурного сотрудничества, а также сотрудничества между представителями тех идеологических и политических идентичностей, на которые расколото и само современное общество. Иными словами, речь идёт о создании ситуации (а, точнее говоря, социальных условий), в которой сохранение в полном объёме своей идентичности и различий порождает не конфликт, а потенциальную дополняемость, открывающую дорогу для взаимовыгодного сотрудничества. То есть речь идёт не об ассимиляции и унификации, а о своего рода мутуалистическом симбиозе между этнокультурными группами по аналогии с межвидовым симбиозом (здесь уместно будет вспомнить термин «псевдовидообразование», проводящий прямую параллель между настоящим биологическим видообразованием и изоляцией групп внутри одного вида на основе культурных различий).
Американское общество, в наибольшей степени страдающее от неотрайбализма и разделения на антагонистически настроенные друг к другу меньшинства, попыталось нащупать этот путь, целенаправленно и искусственно вводя политику DEI (diversity, equity, and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность), то есть создавая условия для сотрудничества представителей разных рас, этносов и культурных идентичностей в рамках одного трудового, учебного или по иному признаку сформированного коллектива. Эта политика, однако, дала исключительно отрицательные результаты и с треском провалилась потому, что проводилась грубыми административно-принудительными, а зачастую и насильственными и даже прямо дискриминационными методами, неизбежно порождающими протест, неприятие, раздражение и агрессию, легко перенаправляющуюся на нежелательных и заведомо неприятных «чужих» с которыми она вынуждала людей контактировать. Очевидно, что ключевым моментом формирования любого межрасового, межэтнического и межкультурного симбиоза (даже если речь идёт о политических и социальных, а не этнических культурах) является его сугубая добровольность и мотивированность осознанным ожиданием выгоды и пользы, а не насильственным административным принуждением, а также сохранение между контактирующими «чужими» известной дистанции и границы.
Традиционно главным драйвером такого симбиоза была сначала межплеменная, а потом и международная торговля, позволяющая использовать выгоды специализации и разделения труда, включая различия культурно-хозяйственных типов, образа жизни, культурных традиций, производственных навыков и т.д. Этот фактор сохраняет свою актуальность и сегодня. Более того, в связи с переходом от индустриализма (большие стандартизированные и унифицированные производства) к постиндустриализму (экономика услуг и мелкого производства уникальных индивидуализированных товаров под потребности конкретной узкой целевой группы) он возрождается и восстанавливает своё на какое-то время утраченное значение.
Близким по смыслу и содержанию фактором является развитие культурного обмена в спектре от индустрии туризма до разного рода этнических кафе, ресторанов, магазинов и ярмарок, разного рода культурных фестивалей и иных мероприятий, а также постоянно действующих этнокультурных клубов и семинаров, позволяющих «путешествовать» и погружаться в иную культурную традицию прямо в своём городе, никуда из него не выезжая. Принципиально важно при этом, однако, то, чтобы этнокультурные мероприятия проводились не внутри замкнутой мигрантской диаспоры исключительно для внутреннего потребления, поддерживая и укрепляя границу культурной идентичности, отделяющую и противопоставляющую её коренному местному населению и другим диаспорам, а, напротив, были открыты для местного коренного населения и даже, прежде всего именно на него и ориентированы. То есть работали бы не на культурную изоляцию, а на культурный диалог, на двустороннее представление одной культуры представителям другой. При этом возникает шанс и возможность превратить различия и сохранение собственной этнокультурной идентичности из фактора противопоставления и враждебности в фактор взаимного интереса и обогащения.
Разумеется, в таком развитии событий представители диаспор заинтересованы намного больше, чем коренное население, поскольку в случае межэтнического конфликта они, будучи в меньшинстве численно и обладая несопоставимо меньшими административными ресурсами, окажутся в гораздо более уязвимом и угрожаемом положении. Особенно это касается этнических диаспор, оказавшимися своего рода заложниками резкого ухудшения межгосударственных отношений, как, в частности, этнические русские, проживающие в странах Европы. Залогом их успешного выживания становится способность и готовность доказать свою нужность и полезность коренным народам тех стран, в которых они проживают, но, разумеется не ценой предательства собственной национально-этнической идентичности, а как раз в рамках задачи её сохранения и сбережения.
На самом деле это весьма сложная задача: стать нужными и полезными (или хотя бы, как минимум, для начала просто интересными) принимающей стране и её народу, не только не переставая быть иными (то есть сохраняя свою культурную идентичность, не смешиваясь и не растворяясь), но и именно в силу и по причине своей инаковости. Открытые этнокультурные мероприятия, ориентированные не на свой собственный внутренний круг, а на презентацию своей культуры принимающему народу, несомненно, важны, но не менее и даже более важно при этом сохранить собственное достоинство и достоинство представляемой культуры, не превратить его в дешёвый балаганный лубок на продажу и унизительное скоморошество и кривляние на потеху толпе. Популяризация своей культуры ни в коем случае не должна подменяться её профанацией и рыночной коммерциализацией, лучше в данном случае пожертвовать общедоступностью, нежели качеством. Вне всякого сомнения, академический, университетский культурологический, этнографический и культурно-антропологический формат будет много предпочтительнее ярмарочного.
Особое направление в межкультурном сотрудничестве может быть связано с запуском большого международного энциклопедического проекта сохранения и фиксации этнокультурного богатства и многообразия человечества, в том числе с использованием современных условно вечных носителей информации для создания своего рода культурно-цивилизационных «ковчегов» — «хранилищ судного дня». Проекты такого рода подробно и детально описаны в наших ранее опубликованных статьях, и, как мы отмечали в связи с этим в письме, адресованном руководству ЮНЕСКО, «в условиях быстрых изменений социальной структуры, распада привычных социальных связей и эскалации социальных и этнических конфликтов совместное участие людей разных стран и культур в общем проекте фиксации и сохранения исторической памяти и культуры может иметь огромное социализирующие значение. Проект может сформировать матрицу социальных отношений, в рамках которой принадлежность человека в малой социальной группе не противопоставляет, а интегрирует его с представителями иных социальных (этнических, культурных, конфессиональных и т.д.) групп в рамках общего дела сохранения культурного разнообразия».
Впрочем, этнокультурными фестивалями и даже семинарами, лекциями, академическими публикациями и участием в проектах сохранения культурного многообразия потенциальная полезность русских (не просто в индивидуальном качестве профессиональных наёмных работников и специалистов безотносительно к национальности, а именно в качестве русских) европейским обществам не ограничивается.
Русские обладают не всегда формализованным, но зато практическим и аутентичным знанием о том, как устроено российское общество на уровне его норм, ценностей, внутренних отношений и институций. Это знание сейчас в связи с конфликтом между руководством РФ и руководством большинства государств Европы весьма востребовано в Европе. Между тем в самой Европе академическая университетская гуманитария крайне деградировала. Погрязнув в «гендерной повестке», «исследованиях постколониализма и системного расизма» и «угрозах изменения климата и углеродной нейтральности», гуманитарные факультеты европейских и американских университетов фактически подменили науку идеологией, поэтому принципиально неспособны сегодня представить политическим кругам хоть сколько-нибудь адекватную картину реальности, на основании которой можно было бы принимать более или менее целесообразные и рациональные решения. Вместо этого они фактически пребывают в своего рода зазеркалье, информационном пузыре, смотрясь в зеркало и видя в нём только отражение собственных ценностей, лозунгов и догм.
В этом плане современное состояние западной гуманитарии поразительно напоминает ситуацию в позднем СССР, в котором догматизация марксизма до состояния эрзац-религии сделала руководство страны фактически слепым в отношении как внутренних, так и внешних процессов. Сегодня точно так же сам себя ослепил Запад. Между тем, западным политикам, деловым кругам, да и мыслящей части общества для того, чтобы выстроить с РФ новый баланс сил и интересов, важно иметь адекватное, отражающее реальность, а не собственные идеологические конструкты, представление о ней, о её социальной и политической структуре, институтах, о состоянии в ней хозяйства, общества и власти, о том, чего следует, а чего не следует ожидать от её политического руководства. В этом как раз европейским странам могла бы помочь хорошо знающая Россию русская диаспора, по крайней мере — её образованная часть. В принципе, то же самое может быть, конечно, верно и в отношении других диаспор, но в чисто практическом плане нас интересует именно русская диаспора и перспективы именно её выживания и интеграции.
Вообще говоря, стоит отметить, что возникший конфликт РФ и стран Европы поставил живущую в Европе русскую диаспору перед ложным выбором. С одной стороны, РФ явно пытается использовать её как дармовой ретранслятор «Russia Today», то есть в качестве своего рода своей «пятой колонны». С другой стороны, местные правительства нажимают на неё, если не требуя прямо, то, по меньшей мере, склоняя к публичному и демонстративному «осуждению кровавых преступлений путинизма». Заметим, что оба эти варианта выбора, зачастую разрывающие и без того не слишком дружную и сплочённую русскую диаспору пополам, одинаковы в своей для неё пагубности, поскольку превращают её в полностью зависимое, одноразовое и малоценное орудие чужих интересов, причём интересов сиюминутных, а это орудие будет немедленно отброшено хозяевами (совершенно без разницы — РФ или местными европейскими правительствами) сразу же, как только изменится текущая ситуация, и при этом примет на себя все издержки от враждебности противоположной стороны. Единственное положение, в котором русская диаспора окажется не одноразовой разменной монетой, а субъектом, действующим в своих собственных интересах, и при этом долгосрочно полезным и нужным обеим сторонам — это положение посредника, коммуникатора, моста, причём чем дальше заходит конфликт, тем ценнее может оказаться неформальный канал связи в обход официальной дипломатии и иных связанных официозом структур. Такое положение доброжелательного к обеим сторонам миротворца или, как минимум, хотя бы сохраняющего нейтралитет посредника-переговорщика выгодно для русской диаспоры объективно и совершенно никак не зависит от отношения к Путину и его действиям или к политике местного европейского правительства.
Наконец, ещё один аспект, в котором русская диаспора могла бы оказаться полезной (и, что не менее важно, доказать свою полезность) принимающим странам — это, как ни странно, альтернативное видение проблем самого «Запада» (Европы и Америки), путей разрешения этих проблем и возможностей развития. Совсем не факт, что это видение будет более объективным, адекватным, а, тем более, компетентным и квалифицированным, чем собственное видение коренных местных жителей (хотя про идеологизированность и деградацию западной гуманитарной университетской «элиты» уже было сказано, и её слепота относится не только к России, но и к социальным и политическим проблемам самого Запада), но оно, как минимум будет просто иным, то есть с иной, возможно, непривычной точки зрения, со стороны. А, следовательно, в соотнесении и сопоставлении с уже имеющимся у самих местных академических, политических и деловых элит ви́дением может дать более объёмную и приближенную к объективному отражению реальности картину сложившейся ситуации, проблем и возможных путей их решения. Конечно, прежде придётся доказать полезность своего ви́дения ситуации и подать его в такой форме, чтобы не вызвать отторжения и конфликта, но при правильно выбранном формате, особенно в случае не просто критики, а и конструктивных предложений, такой взгляд на свои дела «со стороны» мог бы оказаться европейцам полезен, а, значит, сделать полезной для них и тех, кто этот взгляд им озвучивает и представляет.
В любом случае выжить в изменившемся и ставшем гораздо более жёстким и опасным мире русские диаспоры могут только при соблюдении двух условий: доказав, причём делом, свою полезность коренному большинству принимающей страны, то есть обретя признанный статус добросовестно лояльного и связанного со страной своего проживания общими интересами «полезного и нужного симбионта», и при этом в то же самое время сохранив и ни в коем случае не предав свою собственную национально-культурную идентичность как русских и связь с большой русской нацией.
Сергей Александрович Строев, кандидат биологических наук, PhD, профессор РАЕ, член-корреспондент МСА, действительный член ПАНИ
















.jpg)


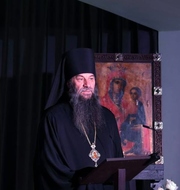













1.