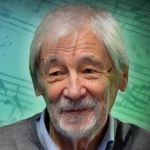Мы создали институт епархиальных духовников. Мы избрали из своей среды пастырей, которых назвали епархиальными духовниками. Голосование было тайное, а это значит, что духовники были избраны не из-за человеческого страха, не из-за желания угодить начальству, а по наитию Свыше — от Духа Святого, который есть в каждом из нас. Это очень важное утверждение, потому что оно очень сильно и безальтернативно мотивирует. Но что это дало епархиальному братству? Внешне, в данный момент, кто-то может уже говорить даже о начётничестве, т.е. о формальности, на внедрении которой настояли сверху наши старшие священнослужители, и эти утверждения звучат не просто так, а из-за отсутствия четко определённого регламента исполнения этого послушания. Мы с ним не знакомы, и найти его нам не удалось. Речь идёт о том, как «приземлить» в епархиях институт епархиальных духовников, кто они — епархиальные духовники (полный статус) и как им быть духовниками? От формального к определённому-реальному.
Единственным примером реального применения в жизни института духовников являются монастыри. Там по прямому благословению духовники выполняют определённую им функцию духовного окормления братии, сестричеств, ради приведения их к общему высокому знаменателю, укрепляющему монашеские общины, сохраняющему православность, подготавливающему монашествующих к узким вратам в Царствие Небесное. Но если брать наш случай, есть важное НО, которое называется локализация, которая в условиях обязательности послушания делает институт духовников в монастырях высокопроизводительным и крайне полезным. В епархиальных же условиях нет локализации, а это значит, что даже при наличии эффективных благочинных надзирателей, расстояния между приходами берут своё и растворяют собой послушание епископу до знаменитого состояния: «На приходе иерей сам себе архиерей».
Институт благочинных надзирателей ранее подразумевал под собой духовное окормление всех клириков благочиния, но сложившаяся по всей Русской Церкви практика назначать на эту должность только эффективных менеджеров, которые при этом на 100% лояльны архиереям (что объяснимо и логично), привела к тому, что приходские клирики, которые часто бывают старше, опытнее и имеют более высокий образовательный ценз, не воспринимают своих благочинных надзирателей своими же духовниками и не исповедуются у них, изыскивая себе удобных и близко сидящих к ним «духовных деятелей». Порой просто друзей, что исходя из духовной практики Церкви порочно, потому что круговая порука мало развивает духовное возрастание священнослужителей. Но, судя по высказываниям многих епархиальных архиереев, в 90-е и 2000-е годы эта практика всех устраивала.
Теперь же по рекомендации Священного Синода мы ввели институт епархиальных духовников, а это со всей очевидностью показывает, что теперь старая практика вредна, и Церковь ищет возможность применить эффективную монашескую практику в епархиальной жизни. Вряд ли кто-нибудь возьмётся спорить против этого, но практика епархиальной жизни показывает, что пока институт епархиального духовничества «буксует», что рождает закономерный вопрос: «Почему?».
На основе православного книжного предания смеем утверждать, что главным тормозом здесь, как, впрочем, и в других всецерковных делах является проникшая в Православие доктрина католической Церкви: «Служить Богу в человеке, человек – это звучит гордо!». В условиях всеобщей инфицированности этой заразой, нет реальной возможности словесно обратить клир к полному послушанию. Именно поэтому доктрина служения православных епархий должна измениться на «служение Богу и несовершенному человеку, в котором Бог пребывает ради человеческой жизни и её спасения в Вечности». Каждый клирик должен помнить о своём временном и качественном несовершенстве, что недалеко от него есть люди, которые в силу времени и разных причин уже более качественные христиане, чем он (они), или стоят на его уровне, которых Дух Святой избрал на это служение своей волей через синергию с волей епархиального собора. Никак не меньше.
Таким образом, если благочинные священники, будучи эффективными менеджерами, надзирают за внешним, то епархиальные духовники определяются Духом Святым посредством синергии с нами (священниками епархии) быть духовными надзирателями за внутренним. В этом случае становится понятным круг задач и возможностей епархиальных духовников, где главной их задачей является не исповедь как таковая, а открытие души клирика, понимание вектора её актуального движения, что для опытного священника не является чем-то особенно трудным. Второй задачей является определение физического и душевного здоровья клирика на основе задушевного разговора с ним. А третьей – погружение в его быт и интересы.
Выполнение трех этих задач даёт епархиальному духовнику базу возможностей для предоставления епархиальному правящему архиерею максимально полной информации о тех, кто определён ему на попечение, что в свою очередь делает епископа более «зрячим» и сильно облегчает епархиальному начальству возможности принимать кадровые решения и решения связанные с епархиальной помощью каждому отдельному сотруднику, не огульно, не панибратски, а в контексте реального понимания его актуального духовного, душевного и материального состояния. Эта делание епархиального духовника должно быть озвучено всем клирикам, а то, как они её используют и интерпретируют, останется на их пастырской совести, которая, как все знают, имеет свойство постепенно трансформироваться лучшую сторону. Второй же возможностью является право духовника, используя свой пастырский опыт и духовные приобретения наставлять тех, кто сам пожелает, на путь к узким вратам в Царство Небесное и унифицировать жизнь клира в контексте жизни всей Православной Церкви, ради предотвращения греха и расколов. Исповедаться же «по-скорому» в течение всего времени клирики могут у кого угодно.
С детства мы учим своих детей, что в Православии «послушание выше поста и молитвы», но уча так, тем не менее, даём личной воле человека очень много свободного пространства, надеясь на то, что «жизнь накажет и научит». От этого уже не уйти в рамках страны, потому, как уже было сказано в начале, эта католическая зараза проникла везде, и на борьбу с ней уйдут, возможно, столетия, если они у нас впереди есть. Но в условиях закрытой корпорации такая победа возможна намного быстрее, если, опираясь на учение о послушании, чётко определить границы, направление и скорость. В нашем случае, все клирики епархии должны быть разделены (лучше всего жребием, ибо «не в полу ли бросается жребий, но выбор всегда зависит от Господа») на количество епархиальных духовников и, невзирая на расстояния, распределены между ними с установлением обязанности встречаться с ними не менее двух раз в году в течение двух больших постов для бесед и, если необходимо, для исповеди.
Епархиальным же духовникам вменить в обязанность ежегодно сдавать на рассмотрение епархиального архиерея краткий отчет о духовной работе с каждым отдельным клириком, определённым к нему и о его духовном росте, душевном здоровье, семейном положении, телесном и материальном состоянии.
Протоиерей Вячеслав Пушкарев, духовник Иркутской и Ангарской епархии