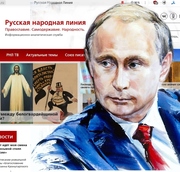В родовом архиве Чудиновых сохранились краткие отцовские «Воспоминания о войне», которые я привожу полностью: «Пройдёт какое-то время, и все участники войны умрут, останутся только книги, кино, магнитофонные записи, пластинки, памятники, музеи. Меня война застала в городе Кировограде Свердловской области, где я работал в химической лаборатории на медеплавильном заводе. В 1941-м мне было уже 23 года, в кадровой армии я не был из-за отца, который был посажен в тюрьму в 1938-м году. Когда 22 июня я прослушал по радио об объявлении войны, то первая мысль, которая у меня возникла, была та, что в эту войну погибнет не 50000 человек, как нам официально объявили после войны с Финляндией, а значительно больше.
Когда я работал в Кировограде, у меня была бронь, так как три раза я получал повестку и три раза меня возвращали из военкомата. Я не знал в то время, что это была за бронь, это уже потом я догадался: мать писала письма из дома, что ей тяжело по хозяйству, – ей было в 1942-м 59 лет – и просила меня приехать домой. О том, что по приезде домой меня сразу возьмут в армию, ни она, ни я не предполагали – все ещё мыслили мирными категориями.
В феврале я рассчитался в Кировограде и приехал в Юго-Камск, а там поступил в отдел главной металлургии: в лабораторию меня не приняли из-за Величинского, начальника спецотдела, еврея, эвакуированного из Николаева. Я проработал несколько дней и получил повестку явиться в райвоенкомат в Оханск, оттуда меня направили в Нытву, на лошади, в санях с ездовым. В Нытве направили на станцию Верещагино – поездом. Вагоны были забиты, я ехал на подножке вагона. Добрался до Верещагино, оттуда меня направили в Путино вместе с командой в двадцать человек, мы шли пешком. В Путино формировался наш стрелковый полк, кажется, 581-й. Нас выстроили и каждого стали спрашивать, какое у него образование. Я сказал: "Техникум".
– Какой?
– Горно-металлургический, – ответил я.
– Записать его в батарею 45-миллиметровых пушек, – распорядился командир. Так я попал в противотанковую батарею. Как это было давно! Я был молодым, здоровым и… голодным! Характерно, что с первого месяца войны началась острая нехватка продуктов, по всей стране – голод.
Я воевал в составе 159-й – 61-й Гвардейской Славянской Краснознаменной стрелковой дивизии. В состав её входили три стрелковых полка и один артиллерийский. Я был в одном из стрелковых – противотанковой батарее. Формирование дивизии состоялось в декабре 1941-го – апреле 1942-го в городе Верещагино на Урале. В ноябре 1942 – январе 1943 годов дивизия вступила в тяжёлые бои под Сталинградом, ею было освобождено от немцев 95 населенных пунктов. 15 января 1943-го года дивизия была переименована в 61-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, и в дальнейшем прошла города Славянск, Николаев, Одессу, а затем вступила на территорию Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Германии. Чем была для нас, молодых уральских парней, война? Война – это прежде всего работа, независимо от того, где ты находишься, в тылу или на фронте. Война – это работа, лишения, трудности, страдания, ограничение питания. За освобождение города Славянска дивизии было присвоено название Славянской. Такой путь прошла она за три года с момента её создания».
Двадцать шестого мая 1942-го года, мой отец пишет старшему брату Сергею: «Итак, я нахожусь в летних лагерях под Тамбовом, где мы проходим остатный курс наук. Погода сейчас стоит хорошая: цветы, зелень, дубовый лес, птицы поют так, что кажется странным, что за 250-300 километров идёт война, которая надолго войдёт в мировую историю. Пробудем здесь, как мне кажется, ещё около полмесяца. Всё хорошо, ничего я не боюсь, лишь бы кормили досыта, да жалко ещё мамы. А насчёт питания кругом б..во, тащат все, кто может и как может. К примеру, у нас в батарее старшина со средними командирами отрывают даже хлеб от несчастных 600 грамм, приходящихся на бойца, причём даже комбат и комиссар участвуют в этом, что меня особенно возмущает и удивляет… Вообще прав был Малыш из "Смока Беллью", когда он чувствовал себя пылинкой в системе мирозданья. Я смотрю просто: жизнь – борьба за существование, в жизни равенства нет и не будет, кто сильней, тот и живёт, а слабые погибают и будут погибать».
А вот отрывок из письма от девятнадцатого сентября 1942-го года: «После отдыха мы были в обороне, и теперь вот уже дней пять находимся на передовой. Каждую ночь приходится видеть горящий Воронеж. Здесь значительно "жарче", чем на первом направлении. Бывают дни, да и можно сказать, ежедневно почти, когда не проходит минуты без снарядов, мин, пуль и бомб, летящих со стороны противника. Иногда от бомбёжек кажется, что "небо сходится с землёй". А чего стоит одна переправа! Я, как и всякий из нас, не уверен за свою жизнь каждую минуту. Похоронные команды не успевают справляться со своим делом. В общем – "в полном разгаре страда деревенская"».
В другом письме отец прозаично упоминал о запахах падали и говна, которые разносились отовсюду:
«В моей памяти сохранились эпизоды переправы через реку Воронеж на Чижовский плацдарм, эпизод с книгой в Чижовке и гибель политрука с комбатом во время обстрела немцев в Ростовской области. В составе дивизии, в основном, были уральцы – пермяки, свердловчане, челябинцы – и люди, вышедшие из госпиталей, возрасту старшего и среднего, мобилизованные из запаса. В мае-июне состоялась переброска дивизии к линии фронта, получение оружия и боевой техники, обучение военному делу. Сам я был в одном из стрелковых полков дивизии, в батарее противотанковых пушек 45-миллиметрового калибра. Был яичным, замковым, наводчиком, командиром орудия в звании гвардии сержанта, то бишь младшего начальствующего состава.
Всего пробыл я на фронте, на передовой линии, семь месяцев: с июля 42-го по январь 43-го. Третьего февраля 1943-го года был тяжело ранен под Воронежем и шесть месяцев лежал в различных госпиталях. В декабре 1943-го был демобилизован по ранению как инвалид III группы. Ко времени моего ранения из первоначального состава батареи, из "старичков", в строю осталось только семь человек, остальные вышли из строя – были убиты или ранены, пропали без вести.
Запомнилась переправа через реку Воронеж: по узенькой тропке тёмной ночью под обстрелом волок я на себе ящик со снарядами – 36 килограмм. Застряла пушка в реке – расчёт в воду, помочь вытаскивать пушку. Прыгнули, вытащили пушку, заняли огневую позицию. Костёр разводить нельзя, обмундирование так на себе и высохло – и никакой простуды, ни гриппа, а было это уже в октябре.
Помню, как где-то на юге Ростовской области немцы начали нас "обтекать" и оказались, примерно, за километр от нас. Я в это время был наводчиком, стал стрелять осколочными снарядами, немцы падали по два и больше человека, а политрук смотрел в бинокль и после каждого выстрела кричал: "Молодец, Чудинов!". Однако, после трёх-четырёх выстрелов немцы нас засекли, и к нам полетел крупнокалиберный снаряд, а на фронте уже выработалась привычка: слышишь – летит – сразу падаешь на землю. Весь расчёт упал навзничь, а политрук и комбат не услышали рёва снаряда: шапки у них были одеты на уши – дело было зимой. Их обоих сразу убило осколками, а весь расчёт остался в живых.
Помню, как ночью близко подошёл к немцам один наш расчёт, их легковая машина шла без пехоты – я выстрелил из карабина по машине, дверца открылась, и шофёр стал вываливаться. Его тут же подхватили, машина пошла дальше, а по нам стали стрелять. Пришлось отходить, к тому же пушка наша уехала и расчёт ушёл. Я стал последним выползать по пригорку, а по мне стреляют из автомата, цепочка пуль приближается ко мне. Что делать? Я тут же перевернулся на спину, раскинул руки и притворился мертвым, пролежал так минут пять, потом вышел к своим».
Краткие воспоминания отца о войне, начатые 24 февраля 1982-го года и завершенные 7 мая года 1985-го, явствуют о том, что смерть, буквально, ходила за ним по пятам.
Вот отрывок из его письма брату Сергею от тринадцатого сентября 1942-го года: «Сегодня у меня в расчёте убило одного бойца. Произошло это очень скоро, и до некоторой степени мне повезло. Обычно спал я в неглубокой щели без перекрытия, так как тут было свободно и вообще удобнее. Сегодня утром лёг ещё отдохнуть, так как ночью мало спал, только стал засыпать, один боец попросил журнал посмотреть (надо добавить, что я недавно назначен агитатором), я поднялся и стал проводить читку газет, а на моё место лёг другой боец. Вскоре начался миномётный обстрел нашего района, стреляли и шрапнелью. Вдруг, после очередного близкого разрыва слышим глухие стоны, оказывается, это в предсмертной агонии стонал боец, спавший на моём месте. Когда я бросился к нему делать перевязку, то было уже поздно: это было смертельное ранение, видимо, от шрапнели, в голову и в бок. Такова судьба».
За проявленное в боях мужество мой отец был награждён орденами Отечественной войны I и II степени и несколькими медалями.
P.S. Фото в лесном балагане: крайний слева – мой отец, рядом – брат Пётр Константинович Чудинов, доктор биологических наук, выдающийся палеонтолог ХХ века, ученик и друг Ивана Ефремова, справа – старший брат Сергей Константинович, собиратель родового архива.
Галина Васильевна Чудинова, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, член старообрядческой общины, Пермский край




















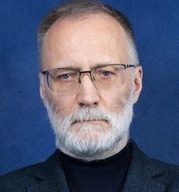





.jpg)