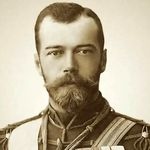Как известно, в 1836 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал рецензию на двухтомник «Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского», изданный протоиереем Иоанном Григоровичем в Санкт-Петербурге в 1835 году. Обращение Пушкина к теме унии проливает больше света на подлое убийство поэта на дуэли гражданином Франции спустя менее года. Почему католик Дантес был усыновлён (при живом-то родителе…) нидерландским бароном-дипломатом «в срочном порядке» (вопреки закону) в том же 1836 году? А уже к концу 1836 года – 4 (17) ноября – городская почта доставила Пушкину и нескольким его друзьям анонимный пасквиль, который присваивал поэту некий «диплом рогоносца». Напомним, что в послании содержался косвенный намёк на внимание к супруге Александра Сергеевича не только Дантеса, но и Государя, что придавало пасквилю политическую окраску…
В попытке избежать скандала Дантес внезапно сделался свояком поэта. Француз скоропалительно женился на сестре Натальи Николаевны Пушкиной за месяц до роковой дуэли с её мужем. Становится очевидно, что «информационная война» между Европой и Россией, разгоревшаяся вновь в наши дни, стала причиной гибели Александра Сергеевича. Дуэль была «мастерски» спровоцирована повторно даже после, казалось бы, достигнутого было удовлетворения сторон. Католик, новоиспеченный «свояк Пушкина», мог бы в итоге выстрелить в воздух, но не сделал этого... Почему? Ответ кроется в рецензии поэта на труд архиерея-малоросса об унии.
Прежде чем мы рассмотрим рецензию Александра Сергеевича Пушкина на книгу о церковной унии в Малороссии, напомним, что в Нидерландах произошло два политико-религиозных объединения в 1579 году: Аррасская и Утрехтская унии. Первая объединила южные, преимущественно католические, провинции в верности испанскому королю, а Утрехтская уния объединила северные, протестантские, провинции в борьбе против Испании, что привело к расколу страны. Обе унии в Нидерландах совпали по времени с унией в Малороссии, пребывавшей в составе Речи Посполитой в результате Люблинской унии 1569 года. Люблинская уния фактически привела к образованию Речи Посполитой при передаче части малороссийских земель – Подляшья, Волыни, Подолии, Среднего Поднепровья – под прямое управление Короны Польской. Посему «усыновление» Дантеса подданным Нидерландов показалось Пушкину весьма дерзким актом, в котором содержался неприкрытый намёк на «возмездие» поэту за попытку разоблачения политической подоплеки «церковной» унии в Малороссии. Тема унии около трёх столетий оставалась неким табу и считалась исключительно «церковным» вопросом. Брестская уния 1596 года «объединила» (точнее «смешала») часть православных с католиками под юрисдикцией Папы Римского, но с сохранением восточного обряда. Последствия такого политического действа под религиозной вывеской весьма возмутили поэта.
Архиепископ Георгий (Конисский), парсуна
В довольно обширной и, главное, глубокой, даже, пророческой рецензии на труд Георгия (Конисского) Пушкин представляет архиепископа Белорусского как почитателя Императрицы Екатерины Великой, сравнивая Владыку со своим духовным наставником митрополитом Филаретом (Дроздовым). Управлять Белорусской епархией архиепископу Георгию довелось, когда Белоруссия находилась под игом Польши, а храмы православные стояли пусты или отданы были униатам. Читая пушкинские строки, написанные за год до гибели, можно подумать, что поэт – это наш современник и пишет о церковно-политических событиях на Украине: «Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви, ругались над могилами православных».
Заметим, что после выдворения из России Дантеса (вместе с женой Екатериной Николаевной, рожд. Гончаровой), четверо их дочерей были окрещены в католицизме. После смерти матери, племянниц великого русского поэта воспитывала незамужняя сестра Дантеса, католичка. Таким образом, дуэль с Пушкиным, спровоцированная не без участия униатов, отняла у России не только великого поэта, но четверых племянниц Александра Сергеевича.
Пушкин глубоко ценил патриотизм Владыки, происходивший от дворянского родословия: «Георгий искал защиты у русского правительства; он доносил об всем Св. Синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве». Поэт включил в свою рецензию описание, которое сродни дням нынешним в Черкасской епархии Украинской Православной Церкви. Напомним, что Владыка Черкасский Феодосий был жестоко избит во время захвата кафедрального собора в 2024 году, отнятого раскольничьими «миссионерами» из структуры «ПЦУ», подобной униатам 18 века. «В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обозревать сетующую свою епархию. Миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему Архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом», – цитата из рецензии А.С.Пушкина, а описание точь-в-точь совпадает с недавними событиями в Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.
Георгий жаловался России на своеволие католических миссионеров и поношение ими Православной Церкви, лестью и угрозами преклонявших к унии не только простой народ, но и священников. «Елисавета Петровна перед самой своей кончиной и Государь Петр III при своем восшествии на Престол, требовали от польского двора, чтобы гонения над нашими единоверцами были прекращены, но избавление Православия предоставлено было Екатерине II», – очерчивает поэт исторические шаги правительства Российской империи. Екатерина Великая сочла, что «Георгий нужен в Польше». В 1765 году Владыка появился в Варшаве и перед троном Станислава Понятовского заступился за королевских подданных – диссидентов. Так называли пораженных в правах православных и протестантов. Король обещал свое покровительство диссидентам, но польские магнаты в Сенате («Сойм»), отвергли справедливые их требования… Тогда Екатерина двинула свои войска к Варшаве. «Там, за оградою русских штыков созван был Сейм, учреждена согласительная комиссия при участии Владыки Георгия, и диссидентам возвращены их прежние права», – пишет Александр Сергеевич. Владыка усердно разъяснял значение древних грамот, на коих основаны были права диссидентов. Он сумел снискать уважение своих противников и даже их доверие. «Мы за вами еще живем, – сказал однажды Георгию Конисскому униатский епископ, – а когда католики вас догрызут, то примутся и за нас». Пушкин замечает, что униаты в XVIII веке в тайне готовы были отложиться от папы Римского и снова соединиться с Греко-Российской Церковью.
В своей рецензии поэт обвинил Барскую конфедерацию, поддерживаемую политикой премьер-министра Франции Шуазеля, в развязывании новой войны против России. Откровенный выпад Пушкина против Франции не мог остаться незамеченным Дантесом, равно и теми силами, которым издательская деятельность Александра Сергеевича была неугодна... Француз («замаскированный» по документам под голландского барона) поторопился весьма своеобразным путем сделаться свояком поэта.
Итак, в 1835 году двухтомник Георгия Конисского выходит из печати в Петербурге. Пушкин пишет рецензию и обдумывает издание литературно-политического журнала. Уже в следующем году было получено позволение на издание «Современника». А рецензия поэта на труд архиепископа Георгия Конисского об унии опубликована в первом выпуске журнала в апреле 1836 года. Пушкин выступает как защитник Православия от католического прозелитизма. Поэт высоко ценит труды Владыки, назвая его одним из «самых достопамятных» деятелей прошлого.
Исторические события, привлекшие внимание Пушкина, созвучны современности: всё та же «конфедерация» (киевский режим Зеленского и ЕС) выступает как анти-Россия. Напомним, что в XVIII веке следствием необдуманных военных действий конфедератов стал первый раздел Польши. «Семь областей – древнее достояние нашего Отечества, были ему возвращены – и в 1773 Георгий явился пред Екатериной уже как подданный, радостно приветствуя избавительницу и законную владычицу Белоруссии», – демонстрирует Александр Сергеевич в рецензии свои блестящие исторические познания.
Спустя 2 года после возвращения Белоруссии в состав России, Владыка Георгий (Конисский) упокоился на 77 году жизни. «Ныне протоиерей И. Григорович издал собрание сочинений Георгия Конисского, присовокупив к книге своей любопытное и прекрасно изложенное жизнеописание Георгия Конисского», – процитируем рецензию поэта. Более полувека труды Владыки лежали под спудом. Благодаря рецензии Александра Сергеевича тема унии вновь, казалось, всплыла на поверхность… Но гибель поэта задержала еще на 10 лет главный труд Георгия Конисского «История Малороссии». Книга издана в Москве в 1846 году. Не замедлило появиться и мнение польских историков о том, что дескать «История Малороссии» – не подлинная летопись, а «злобный политический пасквиль, рассчитанный на полное невежество русской публики и литературы». Как говорится, «на воре шапка горит». Именно «злобный политический пасквиль», состряпанный униатами, где был «замешан» и Государь, стал причиной гибели великого русского поэта.
Александр Сергеевич в своей рецензии высоко оценил и проповеди Владыки Георгия, характеризуя их как простые, даже несколько грубые, похожие на «поучения старцев первоначальных, но их искренность увлекательна». Поэт счёл, что именно политические речи Владыки имеют большое достоинство. Лучшая из них, по мнению Пушкина, произнесена им по совершении коронования Императрицы Екатерины.
Посетовал поэт о том, что главное произведение Конисского оставалось всё еще не изданным: «История Малороссии» известна только в рукописи. Георгий написал её с целью государственною. Когда императрица Екатерина учредила Комиссию о составлении нового уложения, тогда депутат малороссийского шляхетства Андрей Григорьевич Полетика, обратился к Георгию, как к человеку, сведущему в старинных правах и постановлениях сего края». Что Владыка и выполнил с удивительным успехом, отмечает Александр Сергеевич: «Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории».
Пушкин замечает, что Владыка Георгий «не чужд некоторым невольным пристрастиям»: ненависти к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился. «Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительной точностью. Видно, что сердце дворянина еще бьётся в нем под иноческою рясою», – подытоживает поэт. Конисский происходил из старинного дворянского малороссийского рода и этим вовсе не пренебрегал, о чем свидетельствует эпитафия на его гробе, сочиненная им самим. Владыка родился в старинном городе Нежин Черниговской губернии в 1717 году. Александр Сергеевич весьма ценил в «Истории Малороссии», прочитанной им в рукописи, «картины, начертанные кистью великого живописца». Именно эти «картины» возмутили впоследствии «критиков» труда Владыки Георгия об унии. С подобными «картинами» мы имеем дело ныне на Украине…
Пушкин выделяет в отдельную главу своей рецензии тщательный анализ унии в рукописи «История Русов или Малой России» архиепископа Георгия (Конисского). Книга выйдет в Университетской типографии в Москве лишь в 1846 году по решению Императорского общества Истории и Древностей Российских. Поэт описывает не только страдания и притеснения православных в Малороссии, цитируя рукопись Владыки, но и процесс ополячивания и окатоличивания малороссийской шляхты: «Впоследствии сие шляхетство, соединясь с польским шляхетством свойством, сродством и другими обязанностями, отреклось и от самой породы русской и всемерно старалось изуродовать природные названия свои, приискать и придумать к ним польское произношение и назвать себя природными поляками». Разумеется, после такого публичного обличения «свояк поэта» Дантес, человек без чести, уже не мог скрывать свои намерения католического миссионера. Александр Сергеевич был подло застрелен.
Надежда Миллер-Христева, православная публицистка, Киев







, парсуна.jpg)