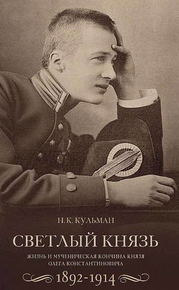Из воспоминаний полковника Бориса Александровича Штейфона, впоследствии врангелевского генерала, галлиполийца, нам известны некоторые важные детали о пребывании в Харькове легендарного царского генерала графа Фёдора Артуровича Келлера. Будучи харьковчанином, полковник Штейфон приехал в Харьков летом 1918 года, где организовал Центр вербовки офицеров в Добровольческую армию. Постепенно улучшая свои знакомства и связи в военных кругах, полковник Штейфон счёл необходимым представиться вернувшемуся с фронта в город генералу графу Фёдору Артуровичу Келлеру. В своей предшествующей службе полковнику не приходилось встречаться с доблестным генералом, имя которого было хорошо известно всей армии. Блестящий кавалерийский начальник, человек неукротимой энергии, военный по призванию, он олицетворял собою тип воина-рыцаря: благородного, не знающего компромиссов, решительного и мужественного.
Познакомился полковник Штейфон и с семьей генерала Келлера. Графу сопутствовала его супруга, графиня Мария Александровна, рожденная княжна Мурузи, женщина, по воспоминаниям полковника, удивительной воли, самообладания и большого углублённого ума. Серьёзно начитанная, с философским мировоззрением, графиня являлась подлинно культурной женщиной с удивительно богатым и разнообразным внутренним содержанием.

Мария Александровна Келлер в имении «Марьино» князей Барятинских в Курской губернии, 1904 г. Из архива Елены Кудряшовой, СПб. Автор фото Франческо Киджи, внук княжны Леониллы Ивановны Барятинской (в замужестве кн. Витгенштейн), один из первых в истории Италии фотографов. Посетив Марьино в 1904, он выпустил в Италии альбом с фотографиями Курской губернии, села Ивановского, реки Сейм. Атрибуция автора
Фёдор Артурович Келлер занимал в Харькове небольшую скромную квартиру на Технологической улице. Ни одна мелочь, ни один портрет из прежней обстановки не был им убран в угоду революции. Кабинет Фёдора Артуровича полностью сохранял свой «контрреволюционный» вид: многочисленные портреты Государя и особ Императорской фамилии, фотографические группы сослуживцев, стяг, под сенью коего воевал генерал, библиотека преимущественно военного содержания (граф был известным военным писателем) и много вещей и безделушек – сувениров прежних дней. В углу иконы, полученные графом благословения.
За письменным столом, занимавшим половину небольшой комнаты, сидел и работал Фёдор Артурович, всегда в генеральской форме с погонами и с Георгиевскими крестами. Огромного роста, сухощавый, породистый, с властным энергичным лицом, с блестящими молодыми глазами. Глядя на него, полковник Штейфон часто представлял генерала в шлеме, в латах и с громадным мечом, в уборе средневекового рыцаря. Именно таким спустя 40 лет изобразит генерала его племянник – знаменитый художник Поль Мак – на так называемом «автопортрете художника». Как бы продолжая тему булгаковского Най-Турса из «Белой гвардии», вызывавшего много вопросов у советских критиков и которого писателю пришлось, в итоге, отождествить с самим с собой. Подробнее здесь.

Борис Келлер и Поль Мак в имении «Марьино», 1904, из архива Елены Кудряшовой, СПб; автор фото Франческо Киджи (Италия)
По улицам генерал Келлер – единственный военный в Харькове – ходил всегда в полной форме: с погонами и с генеральскими отворотами… В высокой волчьей папахе, с палкой и в сопровождении большого любимого пса. Невольно все оборачивались на эту величественную фигуру…
Однажды к нему на квартиру пришли три «товарища». Полковник Штейфон описал это происшествие: «Вошли шумно, нагло:
- Желаем видеть бывшего графа Келлера! – Генерал стал в дверях кабинета и ничего не сказал. Но в его осанке было столько врождённого величия, а глаза метали такие молнии, что вошедшие хулиганы невольным холопским, а может быть и солдатским жестом сорвали свои шапки и попятились к дверям, невнятно промычав:
- Да мы ничего… Мы только так… Думали…»
В течение более полугода полковник Штейфон встречался с графом Келлером каждый день. Если Штейфон почему-либо не приходил, занятый массой обязанностей, то на следующий день утром обязательно звонил к нему Борис, прибывший из Киева сын графа, и справлялся «по поручению папы», все ли благополучно.
Со своей стороны, полковник посвящал Фёдора Артуровича во все свои дела и планы, всегда и с полным вниманием прислушиваясь к его мнению, к его советам. Граф много говорил о прошлом, рассказывал о своей интересной жизни. И в памяти полковника навсегда запечатлелся его облик – могучий и цельный. Монархист и правых убеждений, только солдат, но не политик, граф мудро рисовал дальнейшее течение русской революции. Мудро потому, что все его предсказания исполнились в точности.
Ужаснейшая весть о смерти обожаемого Императора и его Семьи, зверски убитых в Екатеринбурге, дошла сперва в Киев, а затем в Харьков. Когда одна из подруг княгини Марии Сергеевны Барятинской, известной мемуаристки, племянницы графа Келлера по мужу, пришла к ней с этой вестью, в это трудно было поверить. Подруга рассказала княгине, что митрополит Антоний (Храповицкий) получил телеграмму от патриарха Московского Тихона, в которой содержалась эта жуткая информация и где говорилось, что на следующий день будет проведена заупокойная Литургия. Никаких подробностей не сообщалось, но говорилось, что погибла вся Семья.

Гетман П. Скоропадский, Киев, 1918 г (из открытых источников)
На следующее утро, вспоминает княгиня Барятинская, отслужили заупокойную Литургию – против желания украинцев, так что во избежание беспорядков пришлось разместить возле церкви германские войска. Гетман Скоропадский, бывший генерал-адъютант при Императоре, на Литургии не присутствовал. И это обстоятельство всех шокировало. Похоже, оно отражало намерение чётко обозначить разрыв между Украиной и Россией и обозначить это особо возмутительным способом. Княгиня Мария Сергеевна была совершенно подавлена этой новостью, вселившей в неё величайшую, за всё время печаль, какую только ей довелось пережить. Это означало, что жизнь в России для них закончилась. В это невозможно было поверить, и княгиня, с её слов, не могла думать об Императоре как об умершем человеке.
Генерал Келлер не верил в монархизм руководителей Добровольческой Армии и помнил, что лозунг «Учредительное собрание» принят не в силу объективной его якобы целесообразности, а главным образом по симпатиям к нему и генерала Алексеева, и генерала Деникина.
Полковник Штейфон вспоминал, что Граф настойчиво стремился стать в ряды Добровольческой Армии, но конечно не в смысле формального бутафорского зачисления, а как действенный и притом строевой участник. Однако, что было легко выполнимо для любого офицера, то оказалось неприемлемым для генерала от кавалерии Келлера, одного из выдающихся кавалерийских начальников Великой войны. Нельзя же было графа Келлера поставить рядовым под команду корнета-первопоходника или дать ему должность командира эскадрона! Назначить же его во главе добровольческой конницы почему-то не решались. Впрочем, это «почему-то» было понятно тем, кто знал характер графа, его высокий авторитет среди офицеров и непреклонность его монархических убеждений…
Фёдор Артурович Келлер был единственным лицом, непричастным к секретной деятельности Харьковского Центра, но знавшим, что начальником Центра является Борис Александрович Штейфон. Генерал всегда с полным беспристрастием давал полковнику советы, никогда их не навязывая. Обычно они сходились во взглядах на решение тех или иных практических вопросов, но это было не столь важно. Важным для полковника было то, что в разговорах с Фёдором Артуровичем он мог свободно высказывать свои сомнения, колебания и выслушивать критику своих действий. Человек обширного и глубокого житейского опыта, генерал, конечно, не мог не видеть молодого задора и прямолинейности, не всегда полезной в том сложном деле, которое вёл полковник. Впрочем, сам юный душою, граф ценил и задор, и прямолинейность Штейфона.

Проводы командира III конного корпуса, генерала от кавалерии графа Ф.А. Келлера. 1-ый ряд, сидят: 1-ый справа есаул А.Г. Шкуро, 2-ой – командир 1-ой бригады 1-й Терской казачьей дивизии, генерал-майор И.З. Хоранов; слева от графа Келлера подполковник 10-го драгунского Новгородского полка П.А. Болтин, рядом стоит его однополчанин подпоручик Георгий Жуков (будущий маршал СССР), атрибуция автора; 2-ой ряд: 3-й справа – поручик 10-го гусарского полка Ю.А. Слезкин. Кишинев, март 1917 г. Автограф генерала Келлера в фотоальбоме: «Мой отъезд из Кишинева после переворота (Провокацiя на вокзале)». ЦГКФФАУ им. Пшеничного, Киев
С глубоким уважением относясь к графу Келлеру, Штейфон никогда не позволял себе прикрываться его авторитетом, а тем более – втягивать его в ту военно-политическую деятельность, какая увлекала полковника. Только один раз он счёл необходимым предложить графу публичное выступление. Это было в те печальные дни, когда в Харьков дошла весть о мученической гибели Государя и его Семьи.
Было решено отслужить всенародную панихиду в кафедральном соборе. Дабы оформить это намерение, полковник побывал у архиепископа Антония. Владыка отнёсся с полным сочувствием к этой просьбе и не только благословил её, но и заявил, что лично будет служить заупокойную Литургию.
Панихида была назначена в ближайшее воскресенье, о чём и было объявлено в газетах. Одновременно было дано указание офицерам присутствовать в парадной форме. Утром в воскресенье полковник заехал в автомобиле за графом, и они отправились в собор. Фёдор Артурович был при орденах, как и полковник. Их проезд по Сумской улице и Николаевской площади, то есть по самым многолюдным местам, привлёк всеобщее внимание.
После литургии духовенство проследовало на Соборную площадь и в присутствии массы народа отслужило торжественную панихиду. В благоговейном молчании молились русские люди за своего царя-мученика. Редко у кого не было слёз. Оплакивали Царя, оплакивали и погибающую Родину!
Панихида на Соборной площади произвела сильное впечатление. Площадь эта являлась традиционным местом былых парадов, торжеств. И невольно в памяти возникали иные дни, иные картины, с воспоминаниями о которых отождествлялось недавнее величие Родины.
И живым воплощением близкого прошлого являлась фигура графа Келлера. Средь огромной толпы, в мундире и орденах Императорской Армии, престарелый и величественный, на голову выше других, он так ярко олицетворял величие и блеск Империи!
С тяжёлой душевной болью сознавалось, что русские люди на русской земле могли свободно молиться о русском Царе только потому, что город был занят вражескими войсками. Какая ужасная нелепость жизни! По окончании панихиды граф Келлер мог лишь с трудом пробраться к автомобилю. Толпа обезумела: люди плакали, крестили графа, старались дотронуться до его мундира, шашки… Всенародно, но, увы, поздно, каялись в вольных или невольных прегрешениях перед покойным Государем, перед загубленной, поверженной в уныние, еще недавно великой Россией…
Потрясённые, возвращались домой генерал и полковник. Молчали. Да и что они могли сказать друг другу в те минуты, когда так остро, так больно переживали национальное горе, национальный позор?
О панихиде в Харькове впоследствии вспоминал святитель Иоанн Шанхайский, закончивший в тот год юридический факультет Императорского Харьковского университета: «В начале июля 1918 года разнеслась весть, что убит большевиками находившийся в заключении в Екатеринбурге Император Николай II. То известие немедленно было опровергнуто советским правительством. Но через день-два от него же последовало сообщение, что Царь убит, а Семья «увезена в надёжное место».
Владыка вспоминал, что потрясающая весть не была осознана сразу. Надеялись, что вновь она будет опровергнута. Наряду с известием об убийстве пронеслись вести, что Царь и вся Семья спасены и освобождены из заключения верными людьми, сумевшими проникнуть к Царской Семье и вывезти Её в безопасное место. Оба известия распространялись одновременно, и не знали чему верить.
В Харькове одна из газет печатала сведения о бывшем убийстве, а другая, в то же время, все большие подробности об увозе из заключения Царской Семьи. Наконец, в обеих газетах появилось объявление о панихиде по Государю после Литургии в соборе в воскресенье 15 июля в день св. Владимира. К началу Литургии в этот день к собору стал стекаться народ. На паперти собора обращала на себя внимание стоявшая группа офицеров. Началась Литургия при уже большом стечении молящихся.
В начале Литургии в собор вошёл, окружённый офицерами в форме и орденах, генерал Келлер, бывший командир 10 Кавалерийского корпуса. Около года он не выходил из своих комнат, прибыв с фронта после отречения, чтобы не снять с себя погон и не появляться без формы Императорской Армии.
В течение Литургии народ всё прибывал и переполнил храм. Молящиеся почти были прижаты друг к другу. Во время запричастного стиха на амвон вышел протоиерей Иоанн Дмитриевский и начал слово. «Царь убит», - сказал он. Едва он произнёс это, послышалось рыдание. «Я не буду говорить от себя, - продолжал он, - я прочту то, что говорил о Нём митрополит Антоний в день десятилетия Его Царствования». Проповедник начал читать по книге характеристику юного тогда Государя, рыдания всё усиливались. Вся церковь превратилась в море рыданий и воплей, проповедника уже не было слышно. Напряжение достигло чрезмерных пределов. Слышались несвязные слова почти обезумевших людей. «Выпустите белку», - задыхаясь от духоты, кричала какая-то женщина.
Царские врата раскрылись, и Литургия продолжалась, приближаясь к своему концу, писал в воспоминаниях Владыка.
К концу Литургии народу было столько, не только в самом соборе, но и вокруг собора, что панихиду в церкви нельзя было служить. Решили служить её на площади перед собором. Из алтаря, по окончании Литургии, потянулось духовенство во главе с епископом Неофитом Старобельским, управлявшим тогда Харьковской епархией. На площади между собором и присутственными местами было устроено возвышение, на которое взошло духовенство. Народ заполнил всю площадь. В стороне от него, в конце площади, стояла группа немецких офицеров, т.к. Харьков в то время был оккупирован, как и вся Украина, германскими войсками.
Началась панихида. Поминали новопреставленного убиенного Государя Императора Николая Александровича, а также убиенного за полгода перед тем митрополита Владимира, бывшего в тот день именинником. Когда закончилась панихида, на возвышение взошёл председатель Съезда мировых судей, член Московского Всероссийского Собора Иван Михайлович Бич-Лубенский. Он обратился к народу с краткой речью: «Государь убит, - сказал он, - но жива Царская Семья. Наш долг позаботиться об Её спасении. Мы не имеем сейчас возможностей снестись с нашими союзниками. Мы имеем сейчас других союзников – обратимся к Германскому Императору, чтобы он позаботился о спасении Царской Семьи. Все согласны?» Гробовое молчание было ответом. «Все согласны?» - переспросил Бич-Лубенский.
«Ваше Высокопревосходительство, вы согласны?» - обратился он к генералу Келлеру, стоявшему впереди. «Нет, не согласен, - на всю площадь ответил Келлер так, что голос его долетел до немецких офицеров, стоявших на краю площади. – Нет, не согласен! Русская Царская Семья должна быть спасена русскими руками!» Бич-Лубенский разрыдался и сказал: «Но я верю, что Царь не убит, что Царь жив!»
Медленно расходился народ после панихиды. Через год стало известно, что не только Государь, но и вся Царская Семья были тогда уже убиты. Впоследствии на том самом месте, где Иван Михайлович Бич-Лубенский говорил речь, он был расстрелян вновь занявшими Харьков большевиками.
«Рыдание, слышанное тогда под сводами харьковского собора, доселе звучит в ушах и никогда не изгладится в сердцах тех, кто его тогда слышал. То рыдание и доныне потрясает всю Русскую землю. И лишь когда вся Русь принесёт покаяние перед Царственными Мучениками и прославит Их подвиг, сможет оно прекратиться...» - вспоминал святитель Иоанн Шанхайский. Свидетельство святителя Иоанна Шанхайского поясняет запись о Царской Семье – «живы ли они?» - в предсмертном дневнике графа Келлера в Киеве, спустя пол года,
Газета «Возрождение» от 29 (16) июля 1918 в заметке «Молебен и панихида по Николае Романове» сообщала: «Вчера с утра к Кафедральному собору стали стекаться отдельные группы граждан, привлечённые анонимными извещениями и слухами, что в этот день будет отслужена панихида по убиенном бывшем императоре всероссийском.
С 10 ч. утра началось служение молебна, прерванное, однако, извещением, что прибыла из Киева делегация церковно-приходских советов, ездившая туда с ходатайством за ген. П.И. Залесского, и сообщила, что Николай II действительно расстрелян, что в Киеве о нем отслужена была панихида митрополитом Антонием.
По требованию молящихся отслужена была затем панихида, прерываемая рыданиями наполнившего храм народа. (Один офицер даже упал, потеряв сознание.)
Присутствовало на панихиде 400–500 человек. Преобладали женщины. После панихиды молившиеся долго не расходились, обсуждая на площади перед собором то, что произошло с Россией после низвержения монарха. Не слышно было никаких надежд на будущее, никакой веры в возможность какой бы то ни было спасительной для нашей погибшей родины деятельности. Без страстности, которую привыкли мы встречать на таких собраниях за время революции, без ожесточённых споров, но с безнадёжной скорбью признавались все, что погубили Россию.
Уныло искали виновных. Многие просто жаловались на то, до чего довела Россию революция, никого в частности не обвиняя. И от унылой пестроты всего сказанного в этот печальный день теми, кто когда-то наивно радовался весне и революции на той же самой площади, осталось одно впечатление, одна мысль: гибель монархии – гибель России. Всем было ясно, что по Императору – это панихида и по родине».
Надежда Миллер-Христева, православная публицистка, Киев
На верхнем фото: последняя панихида графа Ф.А. Келлера в Киеве, служит епископ Камчатский Нестор (Анисимов), ноябрь 1918, автор фото Николай Булгаков. ЦГКФФАУ им. Г.С. Пшеничного. Атрибуция автора












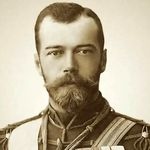






.jpg)