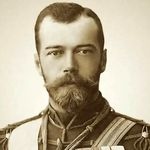На фото: генерал граф Ф.А. Келлер с офицерами штаба. 3-й справа – войсковой старшина 1-го Оренбургского казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича полка В.М. Печенкин, с. Клишковцы, Буковина, Австро-Венгрия, 1915 г., ныне Хотинский район Черновицкой обл., Украина.
Изданный в Киеве в 2012 году военный (1914 – 1917) фотоальбом генерала графа Фёдора Артуровича Келлера стал богатейшим источником сведений не только об участниках Великой войны (первой мировой), но и о самых близких офицерах, окружавших легендарного командира. Очевидно тех, кого Фёдор Артурович мог бы назвать друзьями. В каноне Покаянном, читаемом в обязательном порядке каждым православным христианином при подготовке ко Святому Причастию, в Песни 8 есть напоминание о том, что мы веруем в Суд Божий. И тогда «вси во своем чину станут, старии и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз?». Эти покаянные слова и вопрос - «где же я окажусь?» - призывают православного христианина непременно исследовать и своё родословие, чтобы молиться о предках и, возможно, более глубоко осознать свои собственные грехи.
Зачастую те или иные события в жизни человека словно отражают деяния его предков: добрые и худые. Киевский историк Андрей Видишенко считает, что, если мы можем назвать поименно своих дедов (а кто помоложе, уже и прадедов), воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, то с именами родителей их - воинов самой жестокой войны 20 века, Войны Священной для русского человека - дела обстоят гораздо хуже… Едва ли треть граждан России, а то и менее, имеет представление о собственных пра-прародителях. А ведь большинство из них были, вне сомнения, царскими воинами: кто офицером, а кто простым, но героическим солдатом, возможно, Георгиевским кавалером! Доблестные русские генералы, бывало, сами вольноопределяющимися солдатами сбегали на театры военных действий Империи, в тайне от своих влиятельных, вне сомнения, родителей! Многие ли современники имеют в своих воинских биографиях подобные подвиги?.. Вопрос риторический. Их попросту «брали за руку» и… отводили в «престижный», как говорится, вуз…
Редкие по умению подметить и «ухватить правду жизни» фотографии в альбоме графа Фёдора Артуровича Келлера донесли потомкам молчаливые свидетельства аскетического воинского походного быта боевого генерала. И вот, спустя более 100 лет, фотоотпечатки (казалось бы, кусочки плотной глянцевой бумаги) «заговорили». И, даже, возопили! На снимках нам предстал не просто командир, но отечески любящий солдат генерал, личным примером, словно игумен обители, вдохновляющий послушников на подвиг! Вне сомнения, граф Келлер разделял всецело убеждение своих предшественников - блистательных военачальников генералиссимуса князя Суворова и генерала Ермолова - о том, что монахом в душе обязан быть каждый русский человек, а уж военный и подавно.
Исследователи находят признаки того, что венец мученика от рук петлюровцев-бандюков в декабре 1918 года граф Келлер принял, будучи в тайном иноческом постриге. Графская чета – Фёдор Артурович и Мария Александровна, рожденная княжна Мурузи – стали одними из первых, если не первыми тайными монахами, откликнувшимися на призыв Патриарха Тихона и получившими благословение Его Святейшества на духовный подвиг. Именно в этом заключается объяснение категорического отказа генерала Келлера эвакуироваться из Киева вместе с германцами и гетманом Скоропадским. Этот отказ увенчал мученичеством воина Христова.
Тайный иноческий постриг супругов Келлер совершил епископ Камчатский Нестор (Анисимов) по прибытии в Киев из занятой большевиками Первопрестольной столицы накануне осеннего празднования Богородице Казанской. Владыка привез Фёдору Артуровичу Келлеру, прибывшему тогда же вместе с супругой в Киев из Харькова, благословение Патриарха – иконочку Богородицы Державной и просфору, очевидно, вынутую особым чином. Графиня Мария Александровна Келлер в постриге получила имя Херувима, а после мученической кончины супруга – инока Николая – не пожелала покинуть Россию, захваченную большевиками. В УССР она проживала по надёжным документам «Марфы Гурьевны Николаевой», не вызвавшим сомнений даже во время ареста монахини Херувимы в 1934 году. Подробнее.
К сожалению, далее идентификации «главного героя» фотоальбома, хранившегося, что знаменательно, с 1943 года в киевском архиве кинофотофонодокументов (ЦГКФФА) им. Г.С. Пшеничного, - графа Фёдора Артуровича Келлера – научные сотрудники не продвинулись… Но и это «открытие», вне сомнения, в контексте украинских реалий начала 10-ых годов XXI века считается значимым. Очевидно, разглядеть на многих снимках супругу графа Келлера в сестре милосердия одного из харьковских госпиталей времен Великой войны оказалось довольно непростым научным вопросом. Это удалось лишь спустя 7 лет после выхода из печати фотоальбома, снабженного двумя научными статьями – исторической и, собственно, идентификационной. Архивисты поделились в чересчур скупой заметке тем, каков был алгоритм их действий по установлению имени главного персонажа фотоальбома. Но «своим» для архивистов, похоже, знаменитый царский генерал так и не стал…
На фото: Походная кухня 1-го Оренбургского казачьего полка 10-й кавалерийской дивизии. Слева командир В.М. Печенкин, в центре начальник дивизии, генерал-майор граф Ф.А. Келлер, Австро-Венгрия, осень, 1914 г.
Любопытно, что одним из первых офицеров в научном комментарии к изданию значится войсковой старшина Василий Михайлович Печенкин (1863 – 1920), поскольку присутствует этот офицер на первых фотографиях, помещенных в альбоме. Сюжеты снимков свидетельствуют о том, что офицер Василий Печенкин был близким другом не только генералу Келлеру, но и его семье. Документальные свидетельства современников подтверждают то, что запечатлел фотограф. Бывший командир гусарского Ингерманландского полка генерал Василий Чеславский уже в эмиграции так охарактеризовал своего товарища по дивизии полковника Печенкина: «…был весьма серьезный командир и за графа Келлера готов был броситься в огонь и воду, и если он писал тревожные донесения, то они всегда соответствовали действительности». Отметим, что полковник Печенкин временно командовал 2-ой бригадой 10-ой кавалерийской дивизии в апреле-марте 1915 года, после награждения орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами.
Что касается снимка у походной кухни, разумеется, командир дивизии, как и игумен обители, должное внимание уделяет трапезе. Напомним, что в монастырях на братской трапезе читаются вслух жития святых. В русской армии походные кухни появились в 1898 году, до этого пища готовилась на кострах. Впервые в боевой обстановке использовались во время похода в Китай в 1901 году. Кавалерийская, как в дивизии графа Келлера, походная кухня была двухколесной, в отличие от четырехколесной пехотно-артиллерийской. Есаул Андрей Шкуро, впоследствии генерал ВСЮР, командовавший во время войны Кубанским конным отрядом особого назначения в составе корпуса генерала Келлера, вспоминал, что граф Фёдор Артурович был чрезвычайно заботлив о подчиненных: «особое внимание он обращал на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными, которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово».
Надписи к фотографиям в альбоме выполнены от первого лица. Почерковедческая экспертиза, а также содержание надписей подвели архивистов к мысли о принадлежности фотоальбома статному, внушительного роста генералу, присутствующему на большинстве снимков, им собственноручно надписанных. Так, спустя 100 лет, в Киеве вспомнили о страшном злодеянии – убийстве петлюровцами не просто безоружного царского генерала графа Фёдора Артуровича Келлера, но первого тайного монаха. «Запрет» большевиками Самого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, как оказалось, подхватили и украинские националисты. В дальнейшем они «строили» своё некое незалежное подобие государства, но без Бога, что и вскрыла СВО в наши дни. Волна насилия, захлестнувшая Украинскую Православную Церковь после 2018 года – столетия бессудного расстрела царского генерала Келлера – свидетельствует о псевдохристианской сущности «украинской государственности». События словно вопиют к современникам, призывают отдать должное почитание и прославить в лике святых воина Феодора Келлера, принявшего венец мученичества в Киеве на Софийской площади.
К сожалению киевские архивисты не догадались уточнить дату гибели сына генерала, Бориса Федоровича Келлера, которая указана на памятной доске в храме Иова Многострадального в Брюсселе – март 1919 года: «Погиб от рук большевиков в Полтаве». Посему в научном комментарии к фотоальбому присутствует ошибочная дата его гибели 1918 год, что неверно. В мемуарах о Киеве в весенне-осенний период 1918 года княгиня Мария Сергеевна Барятинская упоминает своего племянника, сына генерала Федора Артуровича Келлера. Ошибка в дате гибели Бориса возникла, как мы теперь понимаем, по причине того, что его дочь Марина Борисовна Галчун (девичья фамилия её матери) вышла замуж за советского военного. Её супруг, Антон Петренко, дослужился до звания капитана 1 ранга, преподавал в Военно-Морской Академии в Ленинграде. По вполне понятным причинам упоминание о предке супруги – легендарном царском генерале, убитом украинскими националистами без суда и следствия - было не просто нежелательным, но и опасным для советской воинской карьеры... Оба сына четы Петренко – правнуки генерала графа Келлера - стали инженерами, но продолжали трудиться в оборонной отрасли. Сыновья не знали, что их мама - Марина Борисовна Келлер - родилась спустя три месяца после гибели своего отца в полтавском поместье, в деревне Веприк, принадлежавшем дворянской малороссийской семье Галчун. Свидетельство о рождении дочери было выдано вдове Бориса Келлера, очевидно, большевиками. По этой причине новорожденной девочке присвоена материнская фамилия. Так потомки легендарного командира графа Фёдора Артуровича Келлера затерялись в СССР.
На фото: Войсковой старшина В.М. Печенкин и сестра милосердия Татьяна Галчун, Австро-Венгрия, 1914 год
Возвратимся к фотографиям, на которых запечатлён войсковой старшина Василий Печенкин. На одном из первых снимков составитель альбома сразу же знакомит нас с молоденькой сестрой милосердия, чьё имя, как и имя «главного героя» не надписано. Очевидно, что и она - в числе самых близких легендарному генералу Келлеру лиц. Юная «сестричка» только что – поздней осенью 1914 года - прибыла вместе со старшей медсестрой на поезде из Харькова в Австро-Венгерский городок Санок, в расположение 10-й кавалерийской дивизии под командованием своего будущего свекра графа Фёдора Артуровича Келлера. Она не вполне ещё проснулась после длительного пути, потому зажмурилась, категорически отказываясь позировать… своему жениху! Да ещё в присутствии бравых офицеров 1-го Оренбургского казачьего полка, что несколько её, поначалу, смутило.
Молоденькая «сестричка» - Татьяна Демьяновна Галчун, дворянка Черниговской губернии. Благодаря её фотографиям, сохранившимся у петербурженки Елены Сергеевны Кудряшовой, правнучки Бориса Фёдоровича Келлера (внучки Марины Борисовны Галчун-Петренко), стало возможным определить, кого отечески заключил в объятия – так, словно поймал беглянку - войсковой старшина Василий Печенкин. А кто же усадил войскового старшину в сани вместе с «конвоем», прибывшим на станцию к поезду, чтобы встретить дорогих гостей – обеих сестер милосердия – и доставить их в село Ясмерж в расположение штаба дивизии?
Василий Печенкин почти ровесник своему боевому командиру графу Келлеру – он всего на 6 лет моложе Фёдора Артуровича. Кто же мог усадить 52-летнего (почти старика по тем временам!) войскового старшину в сани? Кто вверил «отеческим объятиям» свою норовящую выскользнуть невесту, явно нерасположенную к неожиданной «фотосессии»? А ведь прежде, в довоенное время, Татьяна дарила жениху свои фотопортреты, посещая самых лучших фотографов в Харькове, где обучалась в частной гимназии, учрежденной дворянкой Верой Константиновной Левковец и располагавшейся на улице Екатерининской, 39. Почему же автор фотографий в альбоме не указал своего имени? Как это сделал войсковой фотограф штаб-ротмистр 10-го драгунского Новгородского полка Петр Александрович Болтин, запечатлевший официальные воинские сюжеты, где граф Келлер далеко не «главное действующее лицо»? Читатель догадывается, что, вне сомнения, этот анонимный фотограф - тоже из числа самых близких Фёдору Артуровичу лиц!
По прибытии в расположение дивизии, Василий Михайлович Печенкин сделал обстоятельный доклад Фёдору Артуровичу Келлеру о том, какое благоприятное впечатление произвела юная медсестра на него лично и на встречавших офицеров. Этот знаменательный момент весьма интересовал фотографа. Ведь позволение на венчание подопечному давал именно командир полка. Потому снимок, на котором граф Келлер, в ущерб своей безупречной выправке, даже несколько склонился к своему подчиненному по причине важности обсуждаемого вопроса, занял одно из первых мест в альбоме. Нельзя не заметить, что по прибытии Татьяны в полк, погода улучшилась - выглянуло низкое зимнее солнышко, о чем свидетельствуют длинные тени на снимке.
На фото: Граф Ф.А. Келлер и войсковой старшина В.М. Печенкин, Австро-Венгрия, 1914 г.
Благодаря фотографиям с войсковым старшиной Василием Печенкиным, дослужившимся впоследствии до генеральского чина, соратником генерала Келлера, удалось установить автора большинства фотографий в альбоме, фотографом не подписанных. Фотосюжеты с графом Фёдором Артуровичем сняты в непринужденной, чаще всего неофициальной обстановке в окружении солдат. На многих снимках граф приветливо улыбается. Подобное состояние легендарного командира мог «ухватить» лишь самый близкий человек, член семьи – Борис, сын Фёдора Артуровича от второго, благословенного брака с молдавской княжной, представительницей древнего православного рода. Борис Фёдорович Келлер был хорунжим 1-го Оренбургского казачьего полка, коим командовал войсковой старшина Василий Михайлович Печенкин.
Что же известно о генерале Печенкине? В апреле 1917 года, после отрешения Государя от престола, он был назначен командиром 1-й бригады 2-ой Оренбургской казачьей дивизии. Во время гражданской войны сражался в белых частях Восточного фронта, был комендантом Челябинского уезда, участвовал в Сибирском ледяном походе. В январе 1920 года под Красноярском взят в плен, 5 июня расстрелян по приговору Омской губЧК. Эти данные помещены в научном комментарии к изданию фотоальбома.
Очевидно, замысел расположить накопившиеся воинские фотографии в альбоме, возник у родственников графа Келлера в 1917 году, после двух страшных переворотов в России – февральского и большевицкого октябрьского. Это был юбилейный год – 60-летие генерала! Былая Россия буквально на глазах уходила в небытие... В предсмертном дневнике, который вел Фёдор Артурович в Михайловском Златоверхом монастыре, пребывая в добровольном заточении у петлюровской «Директории», граф именует себя «старым генералом», описывая довольно неумелое поведение своих «стражников», слабо знакомых с воинским этикетом.
Фотоальбом – подарок сына к юбилею – граф Келлер привез с собой в Киев из Харькова. Так реликвия очутилась в «небоскребе Гинзбурга», первой киевской высотке, в квартире племянницы генерала – княгини Марии Сергеевны Барятинской, известной мемуаристки. Бесстрашная княгиня, вместе с невесткой графа Татьяной Демьяновной Келлер, посетила дядюшку в заточении в Михайловском монастыре. Во время бегства из Киева в Берлин спустя несколько дней после убийства генерала Келлера, княгиня с дочерью не сумели взять фотоальбом с собой, в надежде на скорое возвращение… Очевидно, новые жильцы, вселившиеся в квартиру Барятинских, фотоальбом сохранили, воспользовавшись и мебелью прежних хозяев. А в 1943 году высотку разбомбили. Так военный фотоальбом неизвестного генерала очутился в киевском архиве.