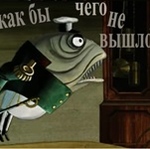Их было два брата – Глеб и Борис, названных именами святых братьев (как мне теперь видится) их отцом и моим другом Владом не случайно и не как дань моде на православие, а промыслительно. Влада не стало в 2016 году: переживший все перипетии 90-х, он не смог пережить стресса от несправедливого увольнения со стороны московских властей, не смог пережить отстранения от любимого дела и детища, которое возглавил пришлый человек, по сути – карьерист. Его жена Наталья, оставшаяся с двумя несовершеннолетними детьми, тяжело тогда пережила утрату. А теперь новый удар: при исполнении воинского долга погиб её старший сын, двадцати семи лет отроду, ефрейтор срочной службы Глеб, не оставив после себя ни жены, ни потомства. Скорбная весть пришла к матери воина только через десять дней (из воинской части не могли дозвониться, так как она не отвечала на незнакомые звонки, опасаясь многочисленных мошенников).
От трагических событий в этой жизни не застрахован никто, о них стараются не думать, не готовятся заранее, поэтому самое страшное обычно случается внезапно. Вот и я такого не ожидал. Меня это горестное известие (кстати, второе за неполный месяц) достигло чуть позже: по дороге к недавно обретённым друзьям позвонил общий давний знакомый и сообщил о случившемся, в общем, без уточняющих деталей. О дне похорон и где они состоятся, он обещал сообщить позже. Это известие повергло меня в шок, ввело в ступор, быстро, правда, прошедший. После некоторых сомнений решил вместе с женой, которая дружила с матерью Глеба, ехать на похороны, несмотря ни на какие дела, планы и состояние здоровья.
Холодным утром 25 сентября мы тронулись из Москвы, чтобы успеть к началу отпевания новопреставленного, которое должно было пройти в стареньком Успенском храме (восстанавливать который из руин начал его отец ещё в первые годы нового – XXI века) небольшого села в десяти километрах от Бронниц. Представители Министерства обороны предлагали похоронить Глеба на «аллее героев» на определённом кладбище, но его мама предпочла, чтобы сын покоился на деревенском кладбище, расположенном недалеко от их дачи; чтобы захоронили его рядом с отцом и дедом, которых он так любил.
Доехали быстро. Оставив машину в небольшом отдалении от храма (все подъезды к нему были заставлены разнообразными авто), двинулись к воротам церковной ограды, за которой разместилось несколько легковушек и чёрный микроавтобус-катафалк. За воротами нас встретили несколько старых знакомых, с которыми мы поздоровались, и младший брат погибшего Борис, который, несмотря на случившееся, был спокоен и, поздоровавшись, удивил нас фразой, свойственной скорее христианским мудрецам, чем столь молодому человеку: брат, мол, отошёл ко Господу, то есть всё это в промысле Божием и не надо расстраиваться.
В бедно украшенной и не до конца отремонтированной церкви, которая, видимо, не представляла интереса богатеньким спонсорам, а немногочисленные прихожане в обычное время – сплошь местные старушки, было уже много людей, преимущественно молодых. Это были друзья и знакомые Глеба – местные и приехавшие из Москвы, в том числе с кем он учился в институте. Ну и, конечно же, родные и близкие, друзья семьи и те старожилы деревни, которые знали Глеба с детства. Чуть не забыл сказать о почётном карауле от МО, который обязателен в таких случаях. Когда раздали свечи и началось отпевание, неспешно и проникновенно проводимое приходским священником, храм был заполнен, так что некоторым пожелавшим отдать последний долг почившему пришлось ждать вовне.
Чем старше становится человек, тем короче его список поминаемых о здравии и тем длиннее его список поминания усопших. В последнее время пришлось многих хоронить, во многих храмах побывать на панихидах, слушать прощальные слова, но последняя как-то особенно тронула душу. Вопреки нашим ожиданиям погибшего при исполнении воинского долга Глеба отпевали в открытом гробу, он мало подвергся посмертным изменениям. По странному мнению стоявшей рядом с нами моложавой женщины, усопший был мало похож на прежнего Глеба, так что можно, якобы, считать, что это не он – от этого, мол, легче будет. Мы с женой переглянулись и не согласились с таким «мнением», потому что видели хоть и мёртвого, но именно Глеба, только более взрослого и сурового.
Из-за того, что прощающихся было много, процедура затянулась. Мы подошли к гробу одними из последних, еле сдерживая наворачивающиеся слёзы, предварительно обнявшись с сидевшей справа Наташей, которой не смогли сказать ничего, но которая поблагодарила нас за поддержку. Выйдя из храма, встретили нескольких старых знакомых, которых не видели лет пять, раскланялись, перебросившись несколькими фразами. Общий интерес давно пропал, пути разошлись. Только с одним из них, искренним товарищем Влада, отца Глеба, мы откровенно поговорили по пути к кладбищу, расположенному примерно в километре от храма, следуя пешком за катафалком.
Каким же он был, удостоенный Ордена Мужества посмертно, Глеб Владиславович, наш Глебушка? На первый взгляд, таким же, как и многие его ровесники. Вроде бы таким же, но вот не таким – что-то в нём было особенное, незаметное при шапочном знакомстве, не открывающееся людям с чёрствым сердцем. В отличие от нас, старшего поколения, нахватавшихся «грязи» в условиях выживания после крушения СССР и привычного уклада жизни, когда происходило и переформатирование всего и вся при становлении новой системы власти и накоплении «первичного капитала» (дикого капитализма 90-х), представителям поколения конца 90-х начала 2000-х проще остаться незапятнанными. Если только они, конечно, не стяжатели и законченные эгоисты, оправдывающие свою духовную порчу: так, мол, сейчас большинство живёт, это требование времени.
Глеб сумел остаться «чистым», потому что не был ни стяжателем, ни эгоистом. Не был он и приспособленцем, лживым и фальшивым, но был мятущейся душой; в чём-то наивным, но искренним, но настоящим. Его не устраивало покойное счастье современных мещан и утешительные сказки для «спящих бандерлогов», он жаждал правды и какого-никакого подвига, а не обыденности; какого-то проявления собственного я в острых ситуациях, поэтому завидовал тем, кто пережил «лихие 90-е». Любил слушать рассказы тех, кто оказался в гуще событий тех лет. Хотел ли он стать «героем», чтобы тщеславиться своим званием? Нет. Он просто не хотел быть как все, то есть жить по запланированному сценарию, не находил в этом удовлетворения, ему было скучно. Как мне думается, Глеб завидовал людям идейным, особенно «сильным духом», сравнивал их с собой и подсознательно стремился испытать себя: а он бы так смог? Попробовав спиртное и прочие «удовольствия», он быстро от них отказался. Он менял работу, потому что не устраивала рутинность и монотонность; среди женского пола искал свою «единственную», не находя искомого. Поняв, что современные девушки в основном меркантильные и пустые, связывать себя узами брака не торопился. А перед самым призывом в армию сказал матери: буду пока жить с тобой...
При этом особого желания служить в армии, тем более заключить контракт на участие в СВО, он не испытывал. Но и бегать от призыва, тянуть время, Глебу не хотелось. Поэтому в определённый момент явился в военкомат: будь что будет, от судьбы не уйдёшь. Попал в учебку под Воронежем. Потом – на границу Белгородской области, где усилилось давление противника после разгрома в Курской области. Была возможность служить в другом месте, но Глеб не хотел расставаться с новыми товарищами, предпочитая разделить судьбу с ними. Поначалу было тяжело и страшновато, но потом привык. Тосковал по матери, брату, мирной жизни, но терпел, решив дослужить достойно и не ныть. Утомляло, конечно, то, что, находясь в дозоре, часами приходилось смотреть на небо, выглядывая вражеские беспилотники. Он не хотел пугать и расстраивать мать, поэтому в телефонных разговорах говорил, что всё нормально, что очень скучает, но скоро вернётся домой – всего-то два месяца осталось...
Глеб погиб 10 сентября вместе с сослуживцем на Белгородской границе. Их накрыло «градом», истёк кровью... Причём он умирал на руках у «контрактника», которому незадолго до этого спас жизнь (о чём последний поведал несколько дней назад в переписке с младшим братом Глеба).
На площадке при въезде на сельское кладбище была разбита палатка-навес от министерства обороны, рядом выстроился почётный караул с автоматами. Гроб с телом покойного воина разметили на своеобразном постаменте, в окружении траурных венков, принесли триколор. Участники траурной процессии выстроились плотным полукругом перед этим навесом, чтобы выслушать представителя министерства обороны и отдать Глебу последние воинские почести.
Христианство не религия, а жизнь – так считали многие христианские святые и подвижники. К такому же выводу пришёл, в конце концов, и я. Признаком каждого христианина является, кроме любви непременной, мужество. Наша вера самая мужественная в этом мире. Об этом писали учителя Церкви и старцы. И ничего случайного в этой жизни не бывает и гибель Глеба не случайна. И неспроста воин Глеб удостоен именно Ордена Мужества посмертно. Всё наполнено высшим смыслом, понять который мы, к сожалению, сможем только перейдя в мир иной...
Когда полковник из МО произнёс прощальную речь о ефрейторе Глебе Владиславовиче Рунове и вручил заслуженную награду сына матери героя, многие из собравшихся аплодировали. А в моей голове стучало: аксиос! Достоин! Твой отец, Глебушка, гордился бы тобой.
Когда тело опустили в могилу, прозвучали выстрелы салюта, а провожающие Глеба в последний путь кинули по три горсти земли, все стали расходиться. Мы шли позади Наташи, её младшего сына и подруги, среди местных жителей. Вдруг один пожилой мужчина в спортивном костюме с советским гербом на груди и надписью СССР на спине произнёс: теперь и у нас в деревне есть свой герой...
Александр Фёдорович Огородников, публицист, член Союза писателей России