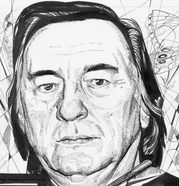Беда России в том, что власть не дала народу хотя бы абриса возводимой государственной архитектоники на месте остаточного СССР, именуемой Российской Федерацией. Без ясного понимания национально-государственного конструктива сама политическая наука всё ещё ориентируется на западные постулаты, заимствованные из соровских учебников либерально-перестроечных критериев и корпоративно-государственной практики «лихих 90-х». Российская наука о власти и управлении народом, как базовые спецификации политологии, оказалась в плену чужой логики, заимствованных схем и чуждых «подсказок» – если не подрывных идей для России, то вредных утопий. При такой кривой заданности параметров и бракованном инструментарии проектирования каждая попытка стратегического системного прогнозирования обречена на ошибку. Чужие линейные модели, не учитывающие национально-ценностные постулаты, такие как соборность и сакральное ядро власти, дают на выходе ложные результаты. Та же системная ошибка, которую допустило ЦРУ, подсчитывая советскую экономику в долларах, повторяется сегодня в российской политологии – последствия для страны куда более разрушительные.
С первых шагов постсоветской модернизации формировался системный перекос. Либеральная демократия (Liberal Democracy, Locke, Mill, Rawls) стала ориентиром для всех институтов, хотя народ исторически – целостная общность, где идея, традиция и сакральный центр власти формируют порядок. Конституция 1993 года придала формальные права индивидууму, но при этом оставила народ без стратегической цели и вообще без идеологии по сей день, превратив политологию в инструмент чужих дискурсов. Скрытый негатив проявился мгновенно: приоритет прав отдельного индивида над коллективным сознанием расщепил общество, дезориентировал элиту и население и подорвал доверие к власти – как к «глухонемому демону» (образ поэта Максимилиана Волошина). Принцип «свободы без креста» (Блоковская ассоциация) – прав без идейно-национальной ответственности – вылился в вооружённый конфликт 1993 года между ветвями власти.
Заимствование модели Структурный функционализм (Structural Functionalism, Parsons, Almond) создавал иллюзию управляемости. В России институты были вторичны: они существовали лишь как формальные оболочки, а реальная власть часто оказывалась разобщённой, неустойчивой и зависела от личных решений отдельных фигур. Конституционный кризис 1993 года показал полную неспособность формальных институтов – Верховного Совета и Президента – разрешить конфликт цивилизованно; исход определялся не законами и процедурами, а силой оружия и боевыми столкновениями на улицах Москвы. В регионах формальные органы власти существовали как декорации, а реальное управление осуществляли местные группы влияния, контролировавшие финансы и промышленность. Судебная и правоохранительная система, включая Конституционный суд и прокуратуру, была слаба и подвержена давлению политических и экономических элит. Эти примеры показывают: институты в России 1990-х играли второстепенную роль, а государство находилось в состоянии хаотичной и слабой централизации, где выживание зависело от силы, интриг и краткосрочных союзов, а не от формальной структуры.
Политическая культура (Political Culture, Easton, Luhmann) на Западе измерялась «эффективностью» и «гражданской активностью», а в России формируется преданностью, доверием и исторической памятью. Когда западные эксперты заявляли о «низкой политической культуре», они подменяли уникальную соборную организацию общества чужой оценочной шкалой, деморализовывали население и оправдывали вмешательство извне. На практике это проявилось в постоянной критике выборов 1993, 1995 и 1996 годов, ложных докладах о «неразвитой демократии» и западной поддержке оппозиционных групп. Такая внешняя оценка стала стратегическим токсином, формируя иллюзию слабости, чем активно пользовались международные финансовые и политические центры.
Трансформационные модели (Transitions, Huntington, Linz, Schmitter) от авторитаризма к демократии и от плановой экономики к рынку превратили Россию в объект эксперимента. «Шоковая терапия» и имитация западных институтов разрушили ткань государства и стратегическую субъектность. Дефолт 1998 года, массовая бедность, разрушение промышленности и рост социальной напряжённости стали прямыми последствиями механического внедрения чужих моделей без учёта национального контекста. В городах и регионах, где власти не хватало для координации экономики, формировались криминальные сети, влияя на политику и общественный порядок, что усиливало чувство стратегической дезориентации общества.
Глобализация (Globalization, Giddens, Beck, Huntington) изначально предполагала растворение национальных государств в мировой сети и универсализацию ценностей, но для России эта «интеграция» обернулась потерей суверенитета и зависимостью от внешних финансово-технологических центров. Попытки «вписаться в цивилизованный мир» под диктовку чужих правил превратили страну в уязвимый объект системных кризисов – достаточно вспомнить крах 1997–1998 годов, когда внешняя волатильность вкупе с отсутствием собственной стратегии едва не обрушила государство. И сегодня та же логика продолжается: под давлением глобальных рейтингов и индексов формируется иллюзия «успеха», в то время как реальная промышленность и социальный фундамент деградируют. Так, Центробанк заявляет о «перегреве экономики», будто бы рост слишком быстрый и опасный для инфляции, хотя фактические темпы развития предельно скромны: 1,7 % в I квартале 2025 года и около 1,9 % во II квартале, с прогнозом падения к концу года до стагнации (Interfax, Reuters). МВФ оценивает рост ВВП России всего в 1,8 % – заметно ниже, чем у ведущих экономик Запада и даже ряда развивающихся стран (Business Insider, Wikipedia). Это не перегрев, а болевое торможение, наглядно демонстрирующее, что в условиях глобальной матрицы Россия до сих пор живёт по чужим правилам, расплачиваясь собственной устойчивостью.
Рациональный выбор (Rational Choice, Downs, Olson) ставил во главу угла личную выгоду индивида. В России исторический опыт показывает, что подвиг, жертва и соборность всегда перевешивают личную выгоду. Попытка объяснить массовую мобилизацию населения через «выгоду» приводила к ошибочным прогнозам и недооценке патриотических настроений, разрушая понимание органического целого. Пример – мобилизация 1941 года и массовая поддержка политики в годы Великой Отечественной войны, которые не поддаются логике «индивид-выгода».
Теория общественного выбора (Public Choice Theory, Buchanan, Tullock) усилила деградацию элит. Приватизация 1990-х, концентрация богатства в узких кругах и рост коррупции показали, что западная логика «выгоды ради власти» подрывает долгосрочную стратегию и разрывает связь власти с народом. Создание «теневого управления» экономикой и политикой демонстрировало, что формальные процедуры без идеи ведут к разрушению государства.
Теория модернизации (Modernization Theory, Rostow) разрушала историческую преемственность. Попытки внедрить западные экономические схемы через «этапы роста» привели к деиндустриализации регионов, утрате управляемости и росту социального недовольства, формируя иллюзию прогресса при реальном хаосе. Пример – закрытие заводов в Пермском и Свердловском регионах, где промышленная база была уничтожена под видом «эффективной модернизации».
Теория демократического мира (Democratic Peace Theory, Kant, Doyle) ослабляла стратегическое мышление, формируя иллюзию безопасности. Сокращение армии, зависимость от международных гарантий, недооценка угроз на Кавказе и в Чечне стали прямыми последствиями. Уроки первой и второй чеченской кампаний показали, что ложная вера в «мирные механизмы» западного образца не спасает от реальных угроз.
Теория зависимости (Frank, Cardoso) формировала у российской элиты психологию периферийности и комплекса «вечно догоняющего», закрепляя подчинённость внешним экономическим центрам и снижая стратегическую самостоятельность; постмодернизм (Lyotard, Derrida) разрушал целостную систему ценностей, создавал хаос смыслов и лишал общество исторической направленности; идеи «мягкой силы» и культурной глобализации внедрялись через медиа, НКО и образовательные программы, выращивая поколение без национальной идентичности и с ориентацией на внешние образцы; сетевое общество (Castells) и сетевые теории власти (Dahl, Michels) подменяли реальные механизмы управления информационными потоками и виртуальными связями, размывая вертикаль и национальный суверенитет; культурный империализм (Schiller, Tomlinson) и западные концепции идентичности (Hall) внедряли модель «глобального человека», подрывая русский архетип и духовный фундамент; теория социальных сетей (Granovetter) легализовала клановость и клиентелизм, теория элит (Pareto, Mosca) оправдала господство закрытых групп, а теория политических циклов (Nordhaus, Tufte) – волюнтаризм власти, зависящей от электоральных манипуляций; консенсусная теория (Lijphart) парализовала стратегические решения под предлогом «поиска компромиссов»; политическая социализация (Almond, Verba) воспитывала не гражданина России, а потребителя глобального рынка; рациональный институционализм (March, Olsen) превращал государство в холодный механизм без традиции и органики; когнитивная политика (Simon) легитимировала управленческую некомпетентность и хаос решений; теория структурного неравенства (Tilly) закрепляла кастовую стратификацию; корпоративное государство (Dahrendorf) оформила союз бюрократии и капитала против народа; доктрина «правового государства» (Fuller, Raz) подменилась внешними нормами и международными юрисдикциями; социал-демократия (Bernstein, Crosland) служила ширмой для разграбления индустриального наследия СССР
В совокупности заимствованные схемы не укрепляли государство, а деморализовывали население, размывали ценностное ядро, подрывали вертикаль власти, фиксировали психологию зависимости, разрушали традицию и идентичность, парализовывали стратегические решения, заменяли органическую державность суррогатами западных конструкций и в конечном счёте лишали Россию стратегической субъектности.
Системно-аналитическая политология России должна исходить из этих уроков: видеть народ как органическое целое, опираться на историю, традиции и религиозно-культурный контекст; учитывать реальные социальные диспропорции и устранять институционализированное неравенство; работать с категорией идеи и образа будущего, а не только с институтами; строить прогнозы на долгую траекторию, а не на внешние рейтинги и глобальные индикаторы; видеть связку «народ – власть – традиция» как стратегический фундамент; оценивать угрозы и возможности через призму внутреннего потенциала, а не через чужие линейные модели; учитывать духовное измерение, православие, соборность и ценности; развивать устойчивую вертикаль управления и стратегическую субъектность, исходя из национальной цивилизационной логики. Только такой подход позволит политологии превратиться из инструмента чужих интересов в стратегический инструмент защиты и развития России как цивилизации, способной сохранять собственный суверенитет и формировать справедливое социальное устройство.
Параметры системно-аналитической политологии (нарратив). Системно-аналитическая политология исходит из понимания государства как органической целостности, где теория зависимости рассматривается как инструмент внешнего контроля и должна быть нейтрализована через формирование собственных центров развития; постмодернизм оценивается как деструктивный фактор, противодействие которому обеспечивается возрождением цельной ценностной матрицы; концепции «мягкой силы» и культурной глобализации анализируются не как универсальные модели, а как каналы идеологического проникновения, требующие создания встречной национальной культурной экспансии; сетевое общество и сетевые теории власти включаются в модель лишь как вспомогательные инструменты при сохранении жёсткой вертикали и суверенного контроля над информацией; культурный империализм и западные концепции идентичности учитываются как источники эрозии традиционного архетипа и парируются формированием собственной цивилизационной модели; теория социальных сетей признаётся полезной только в части анализа коммуникационных узлов, но отвергается как оправдание клановости; теория элит интегрируется в систему лишь при условии национальной ответственности элитного слоя перед государством и народом; теория политических циклов признаётся вредной как источник электорального волюнтаризма и заменяется стратегическим планированием; консенсусная теория учитывается в части стабилизации, но не допускается как препятствие для решающих шагов; политическая социализация переформатируется с ориентации на глобализм к воспитанию гражданина России как носителя имперской идентичности; рациональный институционализм корректируется за счёт включения традиционных и духовных факторов, когнитивная политика - через привязку к стратегической компетентности; теория структурного неравенства признаётся отражением реальности, но устраняется за счёт органической социальной мобилизации; корпоративное государство отвергается в западной интерпретации и заменяется народно-государственной интеграцией; доктрина правового государства выводится из-под внешнего диктата и укореняется в русской правовой традиции; социал-демократия оценивается как западный фасад, но её элементы перерабатываются в национально ориентированную модель социальной справедливости. Таким образом, системно-аналитическая политология – это дисциплина, которая не заимствует готовые западные конструкции, а вскрывает их подрывной характер и перерабатывает в элементы собственной цивилизационной стратегии, направленной на укрепление суверенитета, вертикали и национальной идентичности.
Евгений Александрович Вертлиб / Dr.Eugene A. Vertlieb, Член Союза писателей и Союза журналистов России, академик РАЕН, бывший Советник Аналитического центра Экспертного Совета при Комитете Совета Федерации по международным делам (по Европейскому региону) Сената РФ, президент Международного Института стратегических оценок и управления конфликтами (МИСОУК, Франция)













 на Дне знаний в МПУ 3.jpg)