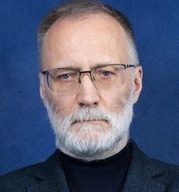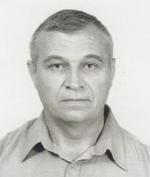Художественная одарённость русских людей вырастает из коренных основ Православия. Они искренне веруют в бессмертие души и в земной жизни видят лишь пролог к жизни вечной. Они ощущают кратковременность своего пребывания на земле, сознают, что в здешнем мире они только странники. Потому они не прельщается материальной плотью мира, мирскими ценностями и благами. Православная вера позволяет им смотреть на жизнь бескорыстно и благоговейно. Она воспитывает в них дар созерцания, являющийся основой эстетического восприятия. Православный человек воспринимает жизнь широко и полнокровно, так как он ничем узко-прагматическим и утилитарным в этом мире не связан. По той же причине созерцательный взгляд его целен: в нём красота неразлучна с добром, а добро – с правдой.
А. К. Толстой считал, что обыденное сознание, согласно которому сначала создаётся вещь, а потом ей даётся название, совершает ошибку. Точно так же нам кажется, что солнце вращается вокруг земли. В Божьем творчестве – обратный порядок. В сотворении мира Слово опережает вещь. Слово вызывает её к жизни. В Слове заключена духовная основа вещи. В земном мире, помрачённом грехопадением людей, исказился Божий замысел о мире. Божественные основы в человеке и в природе потускнели. Духовная любовь пробуждает стремление вернуться к Божьему смыслу, к тому, что «всё, рождённое от Слова, / Лучи любви кругом лия, / К Нему вернутся жаждет снова».
Источником творчества, по Толстому, является мир «предвечных Слов-образов» существующих вне земной сферы. Художественно одарённый человек проникает «В то сокровенное горнило, / Где первообразы кипят, / Трепещут творческие силы!» Искусство – посредник между миром земным и миром небесным. Поэт ловит отблеск вечного и бесконечного в преходящих формах земного бытия. Он не сочиняет произведение по своему произволу. Напротив, в минуту поэтического вдохновения его духовному зрению открывается тайна божественной гармонии:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землёю, незримые оку.
Новая русская литература никогда не теряла свою духовную связь с литературой Древней Руси. Создавая свой литературный язык, она прививала ему церковнославянскую первооснову. Высокий дух нашего литературного языка прямо связан с языком богослужебных книг и православной литургии. Ведь с момента принятия Православия на Руси при святом Владимире и вплоть до наших дней церковная служба у нас ведётся не на мёртвой латыни, а на особом, но сравнительно доступном русскому человеку языке Священного писания и святоотеческого Предания. Православной оказалась высокая ценностная шкала нашего литературного языка, по отношению к которой выстраиваются в нём все другие слова и стоящие за ними понятия.
В смутные для России времена после первомартовской катастрофы 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, Тургенев создаёт стихотворение в прозе «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».
Горькое сознание глубочайшего национального кризиса, переживаемого тогда Россией, не лишило Тургенева надежды и веры. Эту веру и надежду давал ему наш язык. В одном из писем Тургенев сказал о нём так: «…Для выражения многих и лучших мыслей – он удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело! Этих четырёх качеств – честности, простоты, свободы и силы нет в народе – а в языке они есть...» И, подумав, он добавил: «Значит, будут и в народе».
Сомневающимся в будущности России маловерам Тургенев настойчиво повторял: «И я бы, может быть, сомневался – но язык? Куда денут скептики наш гибкий, чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, у которого такой язык, – народ великий».
Судьбы народа не определяются, только сиюминутными состояниями его жизни, которые порой повергают в уныние и растерянность. Судьбу народа во многом определяет дух языка, на котором он говорит и в котором скрыта энергия многовековой исторической памяти.
«Отличительная черта» русской литературы – отрицание человеческой гордыни. Отсюда – характерная, православная по своей сути, «стыдливость художественной формы», свойственная фактически всем нашим писателям-классикам и составляющая родовую черту нашего художественного сознания. В пушкинской гармонии, например, нет самодовольного чувства, нет претензии на полную завершённость и совершенство. Чувство красоты в его поэзии не довлеет себе, не стремится к эффекту и блеску и постоянно уравновешивается чувствами добра и правды.
На эту особенность русской поэзии чаще всего обращали внимание французы. И.С. Тургенев в речи по поводу открытия памятника Пушкину вспоминал: «Ваша поэзия, – сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, – ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу». «У Пушкина, – прибавлял он, – поэзия чудесным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы».
Ни русский роман, ни русская драма не укладываются в те чёткие, отточенные художественные формы, какие предлагают им западноевропейские драма и роман. «Что такое “Война и мир”? – спрашивал Л.Н. Толстой и отвечал на этот вопрос так. – Это не роман, ещё менее поэма, ещё менее историческая хроника. “Война и мир” есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не даёт даже ни одного примера противного. Начиная от “Мёртвых душ” Гоголя и до “Мёртвого Дома” Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».
Основным содержанием западноевропейского романа явился конфликт личности с обществом, частного человека с ходом истории. Поэтому Гегель назвал роман «продуктом распада эпоса». Однако в русской литературе XIX века зародилась особая форма романа и особая форма драмы, в которых возрождались утраченные европейским искусством эпические начала. Русский роман 1860-х годов диалектически снимает противоречие между классическими формами древнего эпоса и новыми формами романа. Глубоко и всесторонне осваивая достижения романа, удерживая свойственную ему конфликтность во взаимоотношениях личности и общества, героя и народа, русская литература придает этой конфликтности диалектический характер. В сложной борьбе с обществом и самими собой, проходя через драматические духовные кризисы и переломы, герои «Войны и мира» движутся к постижению высшего смысла жизни «миром», к правде народной, за которой стоит высшая Правда – христианская. Одновременно с ними, подвергаясь суровым историческим испытаниям, обогащается этой высшей Правдой и сама «народная мысль». Конфликт личности и общества, героя и народа преодолевается, жанровые рамки западноевропейского романа раздвигаются и обретают утраченные эпические горизонты.
Классик немецкой литературы начала ХХ века Томас Манн писал: «Лев Толстой также был романистом новейшего времени и, без сомнения, наиболее могущественным. Это один из тех случаев, которые вводят нас в искушение опрокинуть соотношение между романом и эпосом, утверждаемое школьной эстетикой, и не роман рассматривать как продукт распада эпоса, а эпос – как примитивный прообраз романа».
Аналоги русскому реализму в западноевропейской литературе можно найти не только и не столько у Бальзака и Золя, современников Пушкина и Гоголя, сколько у Шекспира и Сервантеса, Данте и Рабле – великих реалистов эпохи Возрождения. Русскому реализму XIX века свойственна та же самая широта изображения жизни в общенациональном ракурсе, та же самая «шекспировская» полнота постижения человеческих характеров, и, наконец, тот же самый антропоцентризм, основанный на ощущении безграничных возможностей человека.
Если в литературе Западной Европы в ХIХ веке идёт процесс дифференциации творчества во всех родах, видах и жанрах, то в русской возникает стремление их интегрировать в какую-то новую, широкую и свободную литературную форму. Такова, например, не только форма «Войны и мира» Толстого, но и форма «Былого и дум» Герцена. Эта форма, по определению И. Новича, «заключала в себе единство в многообразии – соединение образа искусства и понятия науки, философии и религии, жизни реальной и мистицизма, сцен и мыслей и т. д., то есть единство целой системы противоположностей. В этом “странном замысле”, ставшем впоследствии принципом его литературного творчества, отразилась богатейшая индивидуальность писателя, широта, глубина, многообразие, брожение его идей, мыслей, чувств, разнообразие стремлений, исканий в разных сферах мысли и творчества, темперамент автора, стремление “жить во все стороны”, наконец, – словно ему было тесно в рамках канонизированных литературных форм с их точными границами, с их “табу”».
Исследователь точно указывает здесь, что исток жанрового своеобразия «Былого и дум» лежит в личности Герцена, резко отличающейся от утверждавшегося в Западной Европе той поры «индивидуума», стремящегося к обособлению, к противопоставлению себя всему миру, теряющему способность рассматривать мир в его целостности. Индивидууму, отмечает М. Дунаев, «оказывается под силу лишь выделение разрозненных частей из общей картины бытия, отдельных вопросов, не связываемых им обычно с проблемами всеобщими». В личности Герцена, напротив, отразились родовые черты русского национального характера. Достоевский в речи о Пушкине в 1880 году заметил, что такой тип личности у нас постоянный и надолго в нашей Русской земле поселившийся – «тип исторического русского скитальца», которому необходимо «всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится…». Герой романа Достоевского «Подросток» Версилов, обращаясь к сыну Аркадию, говорит: «У нас создался веками какой-то ещё нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. <…> Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я – настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю её главную мысль. <…> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. <…> О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Там консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем достигнуть Царствия Божия».
Пытаясь определить жанр своей книги, Герцен писал в начале пятой части, что «“Былое и думы” не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на её дороге». Обдумывая семейную драму, Герцен вспомнил роман «Арминий», который читал ещё в юности: «Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного – старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого – дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, то есть знаем официальную, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли в столкновениях… Автор “Арминия” (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб».
О чём здесь идёт речь?
Во-первых, о стремлении Герцена почувствовать биение исторического пульса не в массовых («гуртовых») событиях революционного или военного масштаба, а в повседневности, в бытовой жизненной глубине. Можно сказать, что, предвосхищая Л. Толстого, Герцен хочет писать историю «с сорочки, то есть с рубахи, которая телу ближе» (так определил своеобразие историзма Толстого в «Войне и мире» А.А. Фет).
Во-вторых, люди в авторском представлении Герцена являются «волосяными проводниками истории». За личностью автора стоит судьба России, которая, по его западническим понятиям, вся в будущем, которая ещё только выходит «из леса» на всемирно-историческое поприще. За Гервегом, напротив, – судьба Западной Европы, историческая миссия которой завершена: она вступает в полосу стагнации и упадка – движется из истории «в гроб».
Универсализм личностного сознания Герцена проявляется и в его оценке людей, с которыми его сводила судьба. Он не разделяет в личности человека общественную и частную ипостась: революционность он понимает как категорию не только политическую, но и моральную. «Былое и думы» – не роман, не автобиография, не мемуары, а первая в русской литературе эпопея в современных формах искусства.
Главное открытие, к которому пришёл Достоевский в своём художественном исследовании человека, заключалось в опровержении истин «гуманизма», утвердившихся в Западной Европе ещё в эпоху Возрождения. Суть его основывалась на вере в добрую природу человека, лишь искажённую окружающими жизненными обстоятельствами. Отпусти человека на свободу – и добрые инстинкты его природы восторжествуют!
Русский писатель не идеализирует человека, сознавая, что его природа помрачена грехом. Он утверждает, что мерою всех вещей является не человек, а идеал человека – образ Божий. Реализм в России свободен от соблазна обожествления человека, свойственного западноевропейскому Ренессансу, от искушения – «и будем, как боги». Начиная с Пушкина, наша литература утверждает не светский гуманизм обожествившего себя человека, а гуманизм христианский, основанный на сознании, что образ человека держится силою более высокой, чем он сам.
Утверждаемое классической русской литературой понимание личности снимает типичное для буржуазного миросозерцания противопоставление индивида и общества. Личность является средоточием бесконечного множества отношений с другими, с природой, с мирозданием в его прошлом, настоящем и первыми ростками будущего, с национальной святыней и вне этих отношений она лишается живого содержания.
В статье «Русская точка зрения» английская писательница Вирджиния Вулф сказала: «Во всех великих русских писателях мы обнаруживаем черты святости, если сочувствие к чужим страданиям, любовь к ближним, стремление достичь цели, достойной самых строгих требований духа, составляют святость. Именно их святость заставляет нас стесняться нашей собственной бездуховной посредственности и превращает столько знаменитых наших романов в мишуру и надувательство».
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук