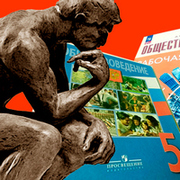«Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слуг; а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом, – поучает святитель Иоанн Златоуст. – Каким надлежащим образом? – Как следует господам, а не рабам; т. е. владеть богатством, а не так, чтобы оно владело нами, употреблять его, а не злоупотреблять».
Н.В.Гоголь писал: «Человек рождён, чтобы трудиться. "В поте лица снеси хлеб свой", – сказал Бог по изгнании человека за непослушание из рая. И с тех пор это стало заповедью человеку. Кто уклоняется от труда, тот грешит перед Богом. Всякую работу делай так, как бы её заказал тебе Бог, а не человек».
Лишь тем откроются в будущей жизни небесные блага, кто здесь, на земле, проводит время не в праздности, а в праведных трудах. «Работа великая» – самый надежный способ духовного спасения. В легенде «О двух великих грешниках» в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Господь открывает Кудеяру-разбойнику такой путь спасения. Он предлагает срезать ножом, орудием его кровавых бесчинств, вековой дуб:
Будет работа великая,
Будет награда за труд,
Только что рухнется дерево –
Цепи греха упадут.
Здесь отсутствует материальная цель труда: никакой корысти «работа великая» Кудеяру не принесёт. Труд представлен тут как молитвенное служение, как путь к спасению.
Тема христианской трудовой этики стала одной из ведущих в лирике и поэмах Некрасова. На неё указывает поэт в стихотворении «Крестьянские дети». Он призывает хранить в чистоте духовные ценности, освящающие труд крестьянина на его скудной земле:
Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Храните своё вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой –
И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной!..
«Скудное русское поле» не обещает нашему крестьянину материального изобилия. Это поле взывает к любви, далёкой от утилитарных чаяний.
На той же христианской духовной основе вырастает у Ю.В.Жадовской знаменитая «Нива», в которой передаётся крестьянское отношение к земле-кормилице как к живому существу. Здесь и восхищение красотою созревающей нивы, и сострадательная любовь к ней от сознания её незащищённости. Одновременно это и стихи о ниве человеческой жизни, такой же беззащитной перед капризами сурового русского климата. Как нива в северных наших краях, в зоне «рискованного земледелия», всегда под угрозой гибели, так и жизнь человека слишком незащищена на холодных общественных ветрах. Именно сознание этой незащищённости и развивает в русском человеке любовь-жалость, любовь-сострадание. Когда слабы надежды на силы человеческие, на помощь приходит вера в силу Божию:
Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая,
По тебе от ветру,
Словно в синем море,
Волны так и ходят,
Ходят на просторе.
Над тобою с песней
Жаворонок вьётся;
Над тобою и туча
Грозно пронесётся.
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая,
О людских заботах
Ничего не зная.
Уноси ты ветер,
Тучу градовую;
Сбереги нам, Боже,
Ниву трудовую!..
Песнь строителей в «Железной дороге» у Некрасова тоже не сводится к обличению эксплуататоров. Пафос её ещё и в другом. Страдания только укрепляют в народном сознании величие трудового подвижничества:
... В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Строителям железной дороги, «божьим ратникам», «любо» видеть свой труд. Такую привычку к труду поэт рекомендует перенять и господскому мальчику Ване. Как памятник трудовому подвижничеству – образ белоруса:
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь ещё: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мёрзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять…
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Светом православного отношения к труду окрашен и финал «Железной дороги». Обычно обращают внимание на фигуру «красного, как медь» лабазника и говорят о «рабской психологии» народа, помчавшего с криком «ура!» притеснителя-купчину. Но дело-то в том, что строители железной дороги – не рабы подрядчиков, не рабы графа Клейнмихеля. Свой подвижнический труд строители отдавали не подрядчикам, не Клейнмихелю, а самому Богу («Божии ратники»). А потому они не были слишком озабочены материальными результатами труда:
Всё заносили десятники в книжку –
Брал ли на баню, лежал ли больной:
"Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот поди ты!.." Махнули рукой...
«Лучше быть бедняком, чем работать со грехом», – говорит русская пословица. Строители железной дороги работали без греха. Грех остался на Клейнмихеле, на подрядчиках и на «красных как медь» лабазниках.
Трудничество – характерная примета всех народных героев Некрасова. В основе стихотворения «Дума», например, – житейский сюжет. Мужик, лишённый земли, идёт наниматься к хозяину: «Эй! возьми меня в работники!». Лукавая логика подскажет, что сейчас случится трудовой договор: мужик будет добиваться работы полегче, а платы побольше. Но ничего подобного не происходит! Русский труженик, у которого «поработать руки чешутся», мечтает совсем о другом:
Повели ты в лето жаркое
Мне пахать пески сыпучие,
Повели ты в зиму лютую
Вырубать леса дремучие, –
Только треск стоял бы до неба,
Как деревья бы валилися;
Вместо шапки белым инеем
Волоса бы серебрилися!
Некрасов знает, что крестьянский труд в суровом северном краю на скудном поле России в лучшем случае даст мужику то, о чём он просит в молитве Господней, – «хлеб насущный». Он даст ему столько, сколько нужно для скромного достатка. Суровая природа приглушает в русском человеке материальные стимулы труда, но зато сполна мобилизует другие – духовные. Без высшей духовной санкции труд в России теряет свою красоту, свой высокий смысл.
Людям Западной Европы такая трудовая этика кажется странной. В «Сценах из лирической комедии "Медвежья охота"» барон фон дер Гребен смотрит на русского крестьянина так:
Здесь мужику, что вышел за ворота,
Кровавый труд, кровавая борьба:
За крошку хлеба капля пота –
Вот в двух словах его судьба!
Его сама природа осудила
На грубый труд, неблагодарный бой
И от отчаянья разумно оградила
Невежества спасительной броней.
То, что инородцам кажется «бронёй невежества», в действительности является спасительной христианской одухотворенностью. Не случайно «Сцены из лирической комедии "Медвежья охота"» Некрасов завершает «Песней о труде». Эта песня опровергает русофобский взгляд на крестьянский труд тех сословий нашего общества, которые оказались оторванными от национальных корней:
Кому бросаются в глаза
В труде одни мозоли,
Тот глуп, не смыслит ни аза!
Страдает праздность боле.
Труд как форма духовного делания был близок и самому Некрасову, глубоко усвоившему народную мораль, крестьянскую трудовую этику. Уже на смертном одре, обращаясь к своему другу, он сказал:
Пододвинь перо, бумагу, книги!
Милый друг! Легенду я слыхал:
Пали с плеч подвижника вериги,
И подвижник мертвый пал!
Помогай же мне трудиться, Зина!
Труд всегда меня животворил…
Мечтая о народном счастье, Некрасов не впадает в соблазн искушения «хлебом земным». Неспроста Ф.М.Достоевский утверждал: «И вообще, все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с Православием, и это совершится в какое-нибудь столетие – вот моя страстная вера».
Идеал Некрасова – народное довольство. Этот идеал в разных вариациях проходит через всё творчество поэта. В поэме «Мороз, Красный нос» он говорит о крестьянской семье:
В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьётся в нужде,
Всегда у них тёплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.
Именно о таком счастье мечтают некрасовские народные заступники: «И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!».
Обращаясь к наследию святителя Тихона Задонского, к его труду «Сокровище духовное, от мира собираемое», открываешь для себя далёкую от протестантской этики и находящуюся ныне в полном небрежении трудовую этику Православия. «Употребляй богатство не на прихоти мирские, но со страхом и смирением, смотри на него не как на своё, но как на Божие добро. Помни, что за расход его дашь ответ Богу: расходчик ты, а не хозяин, строитель, а не господин». Даётся нам богатство не ради нас единых, но и ради ближних наших. Видишь, как неправедно делают люди, когда добро, которое дано на общую пользу, на свои прихоти расточают. Так они воле Божией противятся» (курсив мой – Ю.Л.).
Православное отношение к собственности порождает и особое отношение русского христианина к труду. Именно в предпринимателях с русской православно-христианской душой видел спасение России от бесконечных «обрывов», от разрушительных революционных потрясений И.А.Гончаров. Его Тушины в романе «Обрыв» – это строители и созидатели, опирающиеся в своей работе на тысячелетний опыт русского хозяйствования. Артель его мужиков напоминает крепкую дружину, а Тушин среди них кажется первым работником. «В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния», Гончаров видел «какого-то заволжского Роберта Овена!».
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук