
I. Мы продолжаем наш заочный спор с критиками православного социализма. Если в статье «Социализм – принуждение к бедности?» мы разбирали упреки со стороны «либеральных христиан» (сторонников православия, но противников социализма), то теперь обратимся к неомарксистам (сторонникам социализма, но противникам православия). Сразу оговоримся, что новые марксисты вовсе не обязательно атеисты и борцы с православием, – они могут быть верующими и даже воцерковленными товарищами, но они ратуют за светский социализм, СССР 2.0, где РПЦ – допустимая, но необязательная опция (наряду с исламом, буддизмом и даже шаманизмом), традиционалистская рюшечка на локомотиве Прогресса.
Главный тезис представителей этого лагеря (условно назовем их «прогрессистами») состоит в том, что церковь в лучшем случае должна заниматься нравственностью и «улучшением нравов», не посягая на мирскую жизнь своих чад. Религия «устарела», а люди «повзрослели» – теперь они руководствуются не «преданьем старины глубокой», а новейшими достижениями науки и техники. Экономическая мощь государства и рост благосостояния граждан – вот категорический императив социалиста, от Энгельса до наших дней. Если церковь не против отведенной ей скромной роли в обществе, то и строители светского социализма великодушно посадят ее на почетное, но мало на что влияющее место «свадебного генерала» (собственно, на это место РПЦ уже усадили в 1991 году).
В прогрессистской оптике православный социализм, призывающий к главенствующей роли Православия и Православной церкви в общественной жизни, представляется анахронизмом и вопиющим мракобесием. «Мы тут космос покоряем, атом почти приручили, а вы всё кадилом перед нашим ученым взором машете, космические горизонты загораживаете», – говорят они в наш адрес. Ничто так не чуждо прогрессу, как консерватизм. Человеку, полностью устремленному в будущее, противна любая заминка, любое обращение к прошлому: «пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Конечно, социалисты чтут культуру, отдают дань культурной традиции – мы помним и ценим бережное до трепетности отношение в СССР к русской культуре. Но на остановке «культурное православие» нас попросят сойти, в образе будущего светского социализма Православию уготовано это, совсем не центральное место.
А действительно, каков образ будущего у православного социализма?
II. Когда автор написал статью «Православный социализм и «образ будущего»», Николай Владимирович Сомин порекомендовал ему разработать тему, более ясно и отчетливо прорисовать этот самый «образ будущего». Поначалу автор с готовностью и энтузиазмом взялся за поставленную наставником задачу, но чем больше он размышлял над проблемой, тем больше осознавал свое бессилие перед ней. Советский проект, всецело устремленный в будущее, нам давал вроде бы благодатную почву для этого, если бы не один изъян в его грандиозном полотне.
Радостно-романтический технокоммунизм раннего И.А. Ефремова («Туманность Андромеды») и ранних Стругацких («Страна багровых туч»,) быстро, очень быстро у того же Ефремова («Час быка») и тех же Стругацких («Обитаемый остров»), только повзрослевших, был вытеснен тревожной темой прогрессорства и даже элементами антиутопии («Град обреченный»). Советский образ будущего, лишенный прочной и постоянной связи с горним миром, очень быстро померк и обессмыслился – икона превратилась в «черный квадрат».
Проблема осложняется тем, что христиане вообще довольно мрачно смотрят на будущее, апостол Иоанн Богослов развернул перед ними такой «образ будущего», от которого содрогнется любой, даже самый пылкий почитатель жанра антиутопии. Можно ли в принципе созидать будущее перед лицом столь ужасающей эсхатологической перспективы?
Не только можно, но тем более нужно. Задача христианина – не отвратить приход антихриста (что невозможно), но всячески его отсрочить. Чем более христианское общество воцарится на земле, тем труднее дьяволу осуществить свои козни.
III. Задумавшись о будущем, христианин волей-неволей обращает свой взор на прошлое – потому что там, в уже почти забытой древности христианское общество уже было, его уже построили апостолы, свято следуя заповедям Христа. Христианский идеал – горний, надмирный, вечный, но чудесным образом однажды воплотившийся во всей полноте, материалистической данности и в конкретный исторический период, когда Христос, сам Бог, ступал по земля, уча апостолов, а через них всё человечество, как следует ему жить.
Будущее уже наступило, просто мы его вовремя не распознали и не приняли как самую величайшую драгоценность. Однажды мы отвергли Бога и продолжили жить дальше так, словно бы Он вовсе не спускался на землю. Лишь Церковь запомнила и бережно сохранила в истории это священное событие. Будущее уже было – теперь нам только и надо, что взять и хорошенько вспомнить его. В английском языке есть немного загадочная синтаксическая конструкция Future in the Past (Будущее в прошедшем), когда о будущем говорят из прошлого. Мы же заявляем о совершенно новой, для многих неожиданной семантической конструкции – Future out the Past (Будущее из прошедшего), когда будущее прозревается в прошлом. Православный социализм полновесно и ярко воплотился в апостольских общинах, был увековечен в Деяниях Апостолов и во вдохновенных текстах Иоанна Златоуста. К этим страницам человеческой истории апеллирует современный православный социализм и в этом, именно в этом состоит его консерватизм.
Славянофил Юрий Самарин однажды ввел парадоксальное понятие «революционный консерватизм». Это понятие как нельзя точно описывает парадоксальную позицию православного социалиста, устремленного в будущее, давным-давно уже случившееся. «Революционный консерватизм» – это то, что консерватор делает, когда он не может эволюционным путем воплотить идеальные ценности консерватора. Это обращение не к «завтра» (как сделал бы революционер) и не обращение к «вчера» (как сделал бы «обычный» консерватор). Это радикальное обращение к «присно» – настолько радикальное, что является гораздо куда более революционным шагом, чем все самые смелые претензии самых отчаянных революционеров, революции которых зачастую обращены лишь к внешнему содержанию социальной жизни.
Прогрессисты часто утверждают, будто мы хотим скопировать и перенести духовную и историческую обстановку двухтысячелетней давности в сегодняшний день. Действительно, среди христиан довольно распространена точка зрения буквального (если не сказать «буквалистского») подхода: всё уже сказано в Священном Писании и Священном Предании до нас, нам не нужно ничего выдумывать, вот эти все ваши «социализмы» и прочие «-измы», а жить строго по Домострою.
Это и так, и не так. Нам надобно жить в обществе Любви, как заповедано Христом, нам бы очень хотелось жить в таком обществе – но это невозможно в том состоянии общества и при тех царящих в нем нравах. В лучшем случае наше благочестивое намерение списать образ будущего из Библии начинается и заканчивается игрой в реконструкцию, созданием общины при приходе, не имеющей никакой возможности распространиться вовне и потому больше напоминающей резервацию. В худшем же случае оно оборачивается уранополитизмом, в зародыше подавляющем любые альтернативные попытки построения христианского общества (и обрекающем жить христиан в узилище заведомо нехристианского капиталистического общества). Если бы православные социалисты ратовали за такой наивный и буквально понятый консерватизм, то его критика со стороны прогрессистов была вполне резонной.
В недавней статье «Истина и консерватизм» евразийский философ Рустем Вахитов формулирует важный тезис: «консерватизм – идеология, выступающая за сохранение и охранение истинных ценностей, существующих в обществе. Причем срок их существования перестает быть определяющим критерием (как бы странно ни звучало это для тех людей, кто постоянно путают понятия “консерватор” и “антиквар”). В конце концов, не все традиции нужно сохранять и не от всех новаций нужно отказываться». Консерватор охраняет или возрождает не то, что старо, а то, что истинно.
Конечно, Рустем Вахитов не открывает Америки, этим вопросом задолго до нас задались славянофилы, а позже эстафету подхватили почвенники и евразийцы. Но что именно следует охранять консерватору? Как обнаружить Истину, руку Божьего Промысла, которая и есть наш «образ будущего» (точнее, Вечности)? Нужно обладать поистине невероятной духовной зоркостью, чтобы прозреть за двухтысячелетней плотью истории её душу.
IV. Задача была бы почти невыполнимой, если бы на этом пути не было подсказок и подсказчиков – святых, прозревающих обличье Истины в конкретно-исторические одежды. Величайшим подвигом Сергия Радонежского христианское общество во всей полноте было воссоздано на Руси, страдающей от гнета татаро-монгольской Орды (как тут не провести аналогию с Иудеей под гнетом Римской империи).
В работе «Троице-Сергиева Лавра и Россия» о. Павел Флоренский не без оснований считает эпоху преп. Сергия Радонежского началом и высшей точкой («золотым веком») русской истории: «Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси, как народа исторического; Преподобным Сергием incipit historia [начинается история – А.К.]». Преподобный возрождал общежительный дух и плоть христианского общества: «Общежитием начиналась культура: христианская община, монашеские общежития. Киевская Лавра, Троицкая Лавра. Центр видели не в насельниках, а в русском народе, говорящем через Лавру».
П.А. Флоренский прямо описывает этот общежительный строй русского общества как «коммунизм»: «Идея Пресвятой Троицы для Преподобного Сергия, была, в порядке общественного строительства, заповедью общежития. "Там не говорят: это мое, это – твое; оттуда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей", писал в свое время св. Иоанн Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежительство знаменует всегда духовный подъем: таковым было начало христианства, Начало Киевской Руси также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской Лавре вскоре после крещения Руси; и начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития, по совету и с благословения умирающей Византии. Идея общежития, как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, – назовется ли она по-гречески киновией, или по-латыни – communia, – всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней, как вожделеннейшая заповедь жизни, – была водружена и воплощена в Троице-Сергиевой Лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной, и, наконец, моральной».
В политической жизни того времен мы видим настоящую, а не имитационную симфонию властей: преподобный Сергий наставляет и благословляет на воинский подвиг Дмитрия Донского, а великий князь восславлен в лике святого благоверного правителя. Когда в России было еще такое изумительное единство светской и религиозной жизни? Даже при Иване Грозном, политическом идеале царя-философа славянофилов, уже торжествует «византизм», болезненное нестроение симфонии.
Эпоха Сергия Радонежского несравненно ближе к нам исторически и географически, чем эпоха земной жизни Христа, но все равно бесконечно далека. Церковь уже не имеет того значения и авторитета в обществе – даже если бы стараниями пастырей и началось подобное возрождение, вряд ли оно получило поддержку и понимание у «прогрессивной общественности». Есть ли еще подсказка, зацепка?
V. Есть, очередная попытка воссоздания христианского общества на православно-социалистических началах виртуально воплотилась в жизни, подвиге и трудах ученого, философа и священника Павла Флоренского, так восхищавшегося эпохой Сергия Радонежского и так мечтавшего воплотить ее в Советской России, наперекор религиозным гонениям и революционному неистовству. Октябрьская революция 1917 года была уникальным поворотным моментом истории, один из поворотов которого проницательно предвосхитили национал-большевики и евразийцы в эмиграции, и Флоренский в самой гуще событий. Этот поворот они не называли «православным социализмом» (только о. Сергий Булгаков явно оперировал термином «христианский социализм»), но они говорили именно о возрождении православной России в допетровском (не искаженном западным влиянием) изводе.
П.А. Флоренский воплотил в себе идеальный тип «революционного консерватора», насколько это вообще возможно. О. Павел восхищался замкнутым и иерархическим образом мира Средневековья и открыто признавал себя его сторонником. Близкий друг Флоренского, С.Н. Булгаков, восхищаясь цельностью натуры философа, называл его «древним эллином». Бури начала XX века ломали судьбы, сокрушали империи, рассеивали народы – и среди «идеального шторма 1917 года» неколебимым маяком стоит скромная, немного сгорбленная фигура Флоренского, им самим символизирующая «столп и утверждение Истины». Ученый, математик и инженер, занимающий ответственные посты на поприще индустриализации Советской России, и одновременно философ и богослов, глубоко погруженный в православную традицию и взыскующий её торжества. Революционный консерватор, по-другому и не скажешь.
Что же увидел и какой образ будущего нарисовал Павел Флоренский? Наиболее концептуально Флоренский обозначает черты Новой России в своем проекте «Предполагаемое государственное устройство в будущем», отсылающем к традиции «Государства» Платона и «Города Солнца» Кампанеллы.
В части государственного устройства Флоренский недвусмысленно утверждает о необходимости торжества новой «самодержавной» государственности, которая не должна повторять ошибки старой, впавшей в петровский абсолютизм. Он фактически восстанавливал в правах старую славянофильскую истину о том, что политическая гармония в обществе и государстве покоится не на смешении законного самодержавия и «суверенитета народа», а на творческом сочетании священной полновластности самодержца и свободного мнения граждан.
Экономическая организация общества по Флоренскому мало отличается от советской сталинской системы: орудия производства принадлежат непосредственно государству. В сельском хозяйстве основной производственной единицей должен быть колхоз ввиду своей наибольшей выгодности, но наряду с ним допускается существование артелей, личных хозяйств и других хозяйственных организаций. Флоренский говорит о государстве будущего как об автаркии, о «по возможности самозамкнутом, независимом от оценок и цен внешнего мирового рынка».
Показательно, что Флоренский ставит раздел о быте впереди разделов о внутренней и внешней политике (небезосновательность подобного внимания мы способны оценить, увы, только сейчас). Быт – неотъемлемый момент человеческой жизни, и государство должно понимать, что забота о быте входит в число необходимых задач управления. Здоровье народа, работоспособность, преданность стране, способность к творчеству – «все это существенно зависит от наличия сочного и красивого, здорового быта… Без быта нет и вкуса жизни… Быт коренится в истории... Полнота государственной жизни – в богатстве и разнообразии проявлений быта, соответствующего богатству и разнообразию местных условий. Нивелировка быта неминуемо поведет к уничтожению вкуса к жизни, радости бытия, а потому и к рабскому труду и ко всяческому обеднению. Крепкая сплоченность государства опирается не на монотонную унификацию всех его частей, а на взаимную их связь, обусловленную глубоким сознанием взаимной необходимости частей, нужности каждой из них на своем месте… Быт есть цветение жизни каждой из частей государства». Заметим, что внимание к быту у Флоренского соседствует с воспитанием в гражданах аскетики, самоограничения и непритязательности в быту. Т.е. быт у Флоренского понимается не в потребительском, мещанском измерении, но как облагораживание личного (и общественного) пространства.
Флоренский подчеркивает, что «порядок, достигнутый советской властью, должен быть углубляем и укрепляем, но никак не растворен при переходе к новому строю». Советский строй для Флоренского – черновой набросок Новой России, к последней можно прийти реформами «сверху», без коренных преобразований: «никак не может быть допущено такого перехода к новому строю, который сопровождался бы ломкой наличного. Этот переход должен быть плавным и неуловимым как для широких масс внутри страны, так и для всех внешних держав. Будучи изменением по существу, переход должен быть лишь одним из частных мероприятий советской власти, поворот к нему может стать достоянием гласности лишь [тогда], когда позиции новой власти будут достаточно закреплены... Таким образом, обсуждаемое изменение строя предполагает не революцию и не контрреволюцию, а некоторый сдвиг в руководящих кругах, который мог бы оказаться даже более простым, чем дворцовые перевороты». Увы, эту спасительную развилку мы проскочили – мнение великого гения не было понято ни тогда, ни тем более оно ни ко двору сейчас.
VI. Православный социализм – безусловно, консервативное учение. Этот упрек со стороны прогрессистов мы не просто принимаем, но принимаем как похвалу. Наш идеал, наше будущее – в прошлом, которое уже случилось. Но одновременно православный социализм – революционное учение. Самым революционным, самым радикальным, что только можно придумать для выхода из нашего нынешнего бедственного положения, является решительное и бескомпромиссное обращение к живой православной традиции: Савл должен стать Павлом. Революционный консерватизм – только с этой позиции можно понять и по достоинству оценить православный социализм.
Костерин Андрей Борисович, православный публицист, г. Владимир

































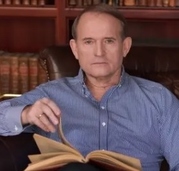


3.
А. Б. Костерин:
«П.А. Флоренский воплотил в себе идеальный тип «революционного консерватора», насколько это вообще возможно…
…Что же увидел и какой образ будущего нарисовал Павел Флоренский? Наиболее концептуально Флоренский обозначает черты Новой России в своем проекте «Предполагаемое государственное устройство в будущем», отсылающем к традиции «Государства» Платона и «Города Солнца» Кампанеллы.»
//////////////////////////////
А не вызывает ли настороженности-смущения в предложенной автором публикации ссылке на проект утверждение Шумена АНДРОНИКА (Трубачева) (?) в предисловии, что «философско-политический трактат… …по содержательной стороне и стилистической емкости может быть поставлен в ряд классических работ Л. Тихомирова, И Ильина, А. Солженицына.»?
Ведь что, в «конце-концов» «представляет» собой мировоззренчески в теоретико-практическом отношении тот же А. И. Солженицын? Ну, не политический же гений В.И. Ленин (Ульянов), учитывая пусть пока и призрачно-неуверенно-робкий «замах» России на «статус» Третьего Рима?
«Государства» Платона», «Города Солнца» Кампанеллы.»… теперь вот «Русская Мечта»?
2.
Неугомонный не дремлет враг!»
(«Двенадцать»
А. Б, Костерин:
«Революционный консерватизм – только с этой позиции можно понять и по достоинству оценить православный социализм.»
//////////////////////
В параллели-ассоциации «вспомнилась» давнишняя направляющая «идея» известной лужковской (?) политической коалиции «Отечество – Вся Россия»: - «идея» т.ск. «наоборот» - Консервативная Революция… Вообщем, как «понималось», предложение неспешно-естественного «путешествия» в Будущее на Раскаленном Айсберге? Куда «приплыли» (то ли «заплыли»?) изрядно «подтаяв», что делать дальше -- сплошь вопросы?
«Революционный консерватизм» - это что – «команда» «отработать» «ЗАДНИЙ ХОД»? И «вскорости» Умку с мвмой Медведицей кликать на помощь для вызволения с раскалывающейся уже льдины – «Красина»-то уже «проехали»?
1.