Страсти вокруг представителей Дома Романовых
С февраля 1918-го отношение к представителям Дома Романовых определяли обстановка в стране, положение дел на немецком фронте и возможные геополитические интересы, связанные с политическим моментом и статусом Михаила Александровича Романова, как легитимного Императора Михаила II. Сотрудник ГА РФ, к.и.н. В.М. Хрусталев в предисловии к Разделу III «Дорога на Голгофу» наиболее полного 2-х томного сборника документов «Пермская Голгофа Михаила II»[1] обращает внимание на следующий момент: «Английский корреспондент газеты «Таймс» Роберт Вильтон, длительное время находившийся в России, награжденный Георгиевским крестом в годы Первой мировой войны, позднее в своей знаменитой книге «Последние дни Романовых» пытался анализировать сложившуюся в начале 1918 г. ситуацию: «Меры к восстановлению царской власти были приняты скоро после заключения Брест-Литовского договора. Против большевиков образовались два политические объединения: Союз Возрождения и Национальный центр. Этот последний, состоящий из крупных помещиков и монархистов, охотно шел на всякие уступки, лишь бы освободиться от большевиков; поэтому он был вполне согласен идти заодно с немцами, которых к тому считал раскаявшимися в их большевистской затее. Союз представлял собой интеллигенцию, партию конституционалистов-демократов. Эта партия оставалась непримиримой: “кайзеризм - вот враг” - таков был ее девиз.
Обе группы допускали русскую монархию, но со следующим различием: консерваторы готовы были принять ее из немецких рук, радикалы отказывались от всякого “подарка” из Берлина. Кандидатом германцев был юный Алексей, который был бы более податлив их влиянию; радикалы предпочитали Великого Князя Михаила Александровича, наследника, признанного актом отречения. Весной 1918 г. эти две группы собрались в Москве в ответ на приглашение графа Мирбаха. Центр очень быстро пришел к соглашению. Союз разделился на две неравные части: одну составляли сторонники кадетского лидера П. Н. Милюкова; другую - почти все бывшие на собрании. Отсутствие единодушия у противников большевиков вскоре осложнилось вторым препятствием: Николай II наотрез отказывался от немецких предложений; цесаревич Алексей был болен»[2].
Руководители Советской власти это понимали и не могли оставить «гражданина» Романова Михаила Александровича без своей опеки. Более подробно сложившаяся в начале 1918-го года ситуация описана авторами в статье «Михаил Романов – заложник императорского статуса»[3].
В своих «Очерках русской смуты» Антон Иванович Деникин, касаясь вопроса о попытках объединения монархических сил, пишет[4]: «Правый Центр пополнил свой состав представителями союза земельных собственников, церковно-приходских и крайних правых московских организаций … Его лозунгами стали — монархия (для меньшинства — конституционная), реакция (для меньшинства — «социальные реформы») и союз с немцами. Существовала, между прочим, идея обращения к патриарху, который «при помощи созванного на персональных началах Земского Собора» должен был провозгласить царем вел. кн. Михаила Александровича…(…)
Шульгин видел в соглашении с немцами — новое и окончательное закрепощение России, а в восстановлении монархии немецкими руками — национальное бедствие: «монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы»… Шульгинская группа твердо настаивала на легитимном принципе**, но тотчас же под давлением чрезвычайных условий жизни вступала с ним в резкое противоречие: акты 2 и 3 марта… непререкаемы — говорили они — отсюда связанность Михаила Александровича словом в отношении Учредительного собрания. Тяжкая болезнь и вообще неопределенность судьбы цесаревича Алексея Николаевича… «Личные качества» других законных преемников… Как выход, Шульгин предлагал весьма сложную систему «добровольных (?) отказов менее подходящих кандидатов, пока престол не перейдет к лицу, более или менее известному населению или, во всяком случае, не возбуждающему нежелательного противодействия»…(…)
**Крайняя правая и Правый Центр считали необходимым восстановить на престоле императора Николая II, часть Правого Центра, Национальный Центр и Милюков склонялись к кандидатуре в. к. Михаила Александровича.
…(…)Правый Центр предполагал поставить во главе вооруженных сил одного из следующих генералов: Брусилова, Лукомского, Юденича или Лечицкого. В связи с предположением о создании Восточного фронта, вопрос о верховном возглавлении русской армии поднят был и в других организациях. Киевские монархисты хотели видеть на этом посту В. К. Николая Николаевича или Михаила Александровича, которого молва настойчиво связывала с чехо-словаками. Союз Возрождения называл имена ген. Алексеева, адмирала Колчака и ген. Болдырева».
Исследователь Вениамин Васильевич Серафимов в своей книге «Великий князь Михаил Александрович, последний император. Тайна участи» более конкретен[5]: «В январе – марте 1918 г., по наблюдениям историка К.А. Тарасова, «несмотря на мирные переговоры в Брест-Литовске и начало демобилизации армии, Россия фактически все еще находилась в состоянии войны с Германией. Петроград являлся столичным городом, и здесь, как и в 1917 г., была сосредоточена борьба основных политических сил, причем в значительной степени она была открытой. …(…) Эсерам стало известно о существовании “правой беспартийной организации” во главе с бывшим верховным комиссаром Временного правительства М.М. Филоненко …(…) важная характеристика этой организации – это попытка объединить деятельность представителей довольно широкого политического спектра – от монархистов (Правый центр) до социалистов (Военная комиссия эсеров)» Ее лозунгом был: «Все, кто против большевиков, – с нами»…(…) Организация планировала наладить связь с командующим войсками белофиннов К.Г. Маннергеймом… и генералом М.В. Алексеевым, стоявшим во главе Добровольческой армии. После переговоров эсеров с Федоровым был налажен их контакт. Готовился вооруженный переворот в Петрограде, противодействовали формированию отрядов РККА. 15 марта действия блока эсеров и Филоненко были парализованы успешной операцией петроградских частей РККА»,… и перешли на подпольное существование.
Материалы официального красного следствия 1919 г. по делу представителей партии кадетов (народной свободы) и эсеров после разоблачения их нелегальной деятельности и ареста руководителей свидетельствуют, что к началу 1918 г. в кадетской партии (и шире – в антибольшевистском межпартийном блоке) наметились 2 направления: более правое, «немецкой ориентации», и более левое, – союзнической (в сторону Антанты) ориентации. То и другое пришли к убеждению о необходимости использовать в борьбе с большевиками силы иностранной интервенции.
По мнению искреннего монархиста и близкого соратника следователя Н.А. Соколова П.П. Булыгина,… – не было никакого сомнения в том, что правительство Германского Императора Вильгельма II весной – летом 1918 г. планировало реставрацию Монархии в России (здесь и далее – выд. авт.). Ведь «чудесным образом» спасенная монархия не могла оставаться враждебной к своему спасителю, и тогда крепкие узы дружбы установились бы между тронами России и Германии. Поэтому немецкий генеральный штаб одобрил план генерала Гофмана по «усмирению России». «Предложение генерала Гофмана заключалось в том, что немцы начнут наступление двумя колоннами одновременно с Украины и Прибалтики на Москву и Санкт-Петербург, вбирая по пути в свою армию приверженцев Монархии прогерманских настроений (убеждений) и своих собственных военнопленных из этих мест. (…) План Гофмана потерпел неудачу потому, что, во-первых, большевики перехитрили графа Мирбаха,1 и, во-вторых, до решения этой проблемы внутреннее и внешнее положение Германии стало настолько сложным, что это заставило ее изменить политику. Империалистическая Германия отошла в сторону (…)»…
Среди несоциалистических партийных деятелей «немецкой ориентации» придерживался атаман войска Донского генерал П.Н. Краснов, а также некоторые монархисты, примыкавшие к правым кадетам, – не без основания считавшие, что в России нет возможности создать единый национальный промонархический центр, – как в силу внутренней разрозненности, так и в результате двойственной позиции союзников: Антанта – при наличии среди французских и британских военных монархических элементов – в ее целом ни в коем случае не была заинтересована в реставрации Российской монархии.
На прогерманскую ориентацию перешел так называемый межпартийный «Правый центр» (ПЦ), выступавший за установление конституционной монархии, возглявлявшийся бывшим министром Временного правительства масоном профессором А.В. Карташевым, образовавшийся в марте 1918 г. и изначально объединивший все несоциалистические партии Москвы.
По свидетельству В.И. Игнатьева, главы левого (с примесью социалистов) «Союза возрождения России» (Левый центр), Н.Н. Щепкин от имени кадетов - ПЦ настаивал на единоличной диктатуре в антибольшевистском движении, причем в качестве кандидата выдвигал генерала Алексеева. Однако возобладала более либеральная концепция директории – во главе с военным генералом, причем кандидатуры в члены директории Алексеева и Милюкова были отклонены».
Между тем многие историки и исследователи рассматриваемого вопроса отрицают какое-либо личное политическое значение Михаила Александровича из-за того, что предвзято подходят к нему, трактуя его поведение с точки зрения «слабости» и версии «добровольного отказа от власти». Подобные оценки командира Дикой дивизии носят односторонний характер и построены «постфактум» на его «подконтрольной» жизни в Гатчине в 1917-м году.
Нам же известен несколько другой Михаил Александрович: закрытый, тактичный, скрывающий свои мысли, но действовавший решительно и самостоятельно. Приведем несколько малоизвестных примеров его практических действий и эмоциональных высказываний.
Обратимся к статье Владимира Федоровича Гладышева «Джигит Миша»[6], в которой приведены примеры реального поведения Великого Князя в период боевых действий: «В мирное время военную подготовку великий князь получил превосходную, был отличным наездником и стрелком; от отца он унаследовал недюжинную физическую силу. По военным дневникам можно понять, как следил великий князь за «контролем мускулов». Его особенно привлекала, помимо автодела, авиация, в журналах начала ХХ века появлялись фотографии младшего брата императора в общении с летчиками; был у него и личный аэроплан. За плечами у Михаила - 16 лет службы в армии, командование двумя кавалерийскими полками: известными «Черниговскими гусарами» и «Шевалье Гард». Он заслужил репутацию отличного командира.
В августе 1914-го, когда началась Великая война, Михаил не смог усидеть за границей (где он на тот момент находился, попав в немилость у царя из-за своей женитьбы). Движимый естественным чувством любви к своему Отечеству, без всяких громких фраз, он просил разрешения у Николая II отправиться на фронт.
И Николай простил его, назначив… командующим Кавказской дивизией. Дивизию комплектовали из представителей горцев на добровольной основе…(…)
Приведем описание современником только одного боя с участием великого князя: «Австрийцы отчаянно защищали угнездившийся на крутом холме город. Главные силы неприятеля отступили, наконец, под стихийным натиском спешенных сотен, взбиравшихся на отвесные кручи и вырезывавших кинжалами австрийские команды. Но чтобы задержать русских, отступление прикрывалось двумя ротами тирольских стрелков. Эти здоровенные горцы забаррикадировались в домах. Перекрестным огнем они обстреливали улицы. С крыш такали пулеметы. Великий Князь первым въехал в этот город, встретивший Его свинцовым ливнем. Тогда старый, с изрубленным лицом всадник, герой нескольких войн – количество боевых шрамов соперничало с числом крестов и медалей на груди, – отвесил низкий «селям» изумившему его молодому храбрецу генералу: «Слава и благословение Аллаха великому джигиту». *
*Michael and Natasha.... стр 159-170. – Нью-Йорк, 1997.
Одним из его адъютантов был назначен князь Вяземский. Молодой князь не пожалел, что получил назначение в Дикую дивизию. Он восхищался как Михаилом, так и его Дикой дивизией. В письме своему племяннику он написал:
«Ты не можешь представить, насколько колоритны и своеобразны эти люди, их внешний вид, обычаи. Они смелы и рискованны, абсолютно бесстрашны... У некоторых из них — окутанное тайной прошлое. Для многих из них война — веселый праздник; фатализм же, свойственный всем мусульманам, лишает их страха перед смертью... Если бы ты знал, как они обожают Великого Князя».
**Там же. …(…)
Однажды Михаил чуть не попал в плен к австрийцам, заехав на автомобиле в расположение врага. Удирали на автомобиле под свист пуль, причем Михаилу пришлось вести машину самому, поменявшись местами со своим шофером, «так как навыка у меня больше»… (…)
А вот что думал в те годы сам Брусилов (из книги «Мои воспоминания», М., 2004): «В начале января 1917 года великий князь Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности командира Гвардейского кавалерийского корпуса, получил назначение генерал-инспектором кавалерии и по сему случаю приехал ко мне проститься. Я очень его уважал и любил, как человека безусловно честного и чистого сердцем, непричастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить честным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии. Он отстранялся, поскольку только это было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг, как в семействе, так и в служебной жизни; как воин, он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг»…
Брусилов пишет, что он решил «очень резко и твердо» доложить брату государя положение России и необходимость тех реформ, немедленных и быстрых, которых современная ситуация требовала неумолимо. Для выполнения их остались не дни, а только часы. Полководец умолял, во имя блага России, прояснить все это для царя и поддержать содержание столь тревожного доклада.
Михаил Александрович ответил Брусилову, что он совершенно согласен с ним, и, как только увидит царя, постарается выполнить это поручение.
– Но, — добавил он, — я влиянием никаким не пользуюсь... Брату же неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и давлением, которого никто не в состоянии преодолеть… (…)
Начальник охраны царской семьи генерал А.И. Спиридович в своих мемуарах вспоминает, как показали себя туземцы генерала Романова в декабре 1914 года. Дикая дивизия находилась тогда на Карпатах в составе армии генерала Щербачева. В ночь на 17 декабря состоялось ее боевое крещение. Полки Кабардинский и Дагестанский в пешем строю по глубокому снегу взяли штурмом деревню Береги-Горны, отбросив отряды австрийских альпийских стрелков. Они заняли перевал Оссады и деревню Вишлины и заночевали в следующей деревне в узком ущелье.
18-го днем к продвинувшимся вперед сотням приехал великий князь Михаил Александрович. В курной избе, прокопченной дымом, где размещались командир первой бригады князь Багратион и командир Кабардинского полка граф Воронцов-Дашков, устроился и великий князь со своим начальником штаба генералом Юзефовичем. Там великий князь провел ночь на 19 декабря.
«Было страшно, — рассказывал после один из ночевавших с великим князем начальников. — Мы уже вырвались вперед, спускались с перевала. Наши главные силы были далеко позади. Против нас стояли альпийские стрелки. Что там происходит у них, мы не знали, а ведь с нами брат государя. Жутко было!»*
Бои шли с переменным успехом. Горцы отступили, потом вновь получили приказ взять тот злосчастный перевал Оссады. 26-го штурмовали перевал, но взять его уже не удалось. Противник успел сильно укрепить его. Пулеметы косили атакующих. Там на Карпатах, в глубоком снегу и встретил великий князь со своей дивизией Рождество Христово… Перевал все же был взят.
В другой раз Дивизия проявила себя на Днестре, 29 мая 1915 года. Великий князь находился со штабом около железнодорожной станции Звеничи. Михаил спокойно смотрел на разрывавшиеся кругом снаряды. Генерал Спиридович пишет:«Он, как всегда, был весел и рвался туда, где была опасность. Дивизия очень полюбила его. Офицеры любили его за душевные качества. Дикие горцы-всадники - за храбрость и еще больше за то, что «наш Михаил - брат государя». Тут любовь переходила в обожание. Горцы его боготворили. «Через глаза нашего Михаила сам Бог смотрит», — говорил один умиравший в госпитале горец, когда великий князь отошел от его кровати».*
Начальник штаба генерал Юзефович не останавливал Романова, если тот устремлялся вперед, со своими горцами. Некоторые офицеры даже критиковали Юзефовича: «Нельзя так, это же брат государя». Однажды, едучи на автомобиле с начштаба и доктором, великий князь попал в район расположения неприятеля. Тогда только ловкость и смелость великого князя выручила их, и они не попали в руки противника.
После беспрерывной годовой боевой службы, великий князь получил за боевые заслуги Георгиевское оружие и Георгия 4-й степени. Командиры Кабардинского полка князь Амилахвари и Дагестанского полка князь Бекович-Черкасский, начальники пехотных частей и артиллерии, многие солдаты и всадники получили Георгиевские кресты.
*«Цит. по: сб. Уральская Голгофа, №3. – Пермь, 2008».
Продолжим отрывком из воспоминаний графа В.П. Зубова[7] об аресте в начале марта 1918-го и нахождении Михаила Александровича в Смольном: «Поведение вел. князя было с начала до конца замечательно своим благородством, скромностью и спокойствием. Во время переезда он бросил из окна взгляд в сторону немецких позиций и сказал мне: «Как легко было бы стать подлецом и перейти туда!» (Эти слова могут свидетельствовать о поступлении к нему соответствующих предложений – авт.)…(…)
Нас увели; несколько минут мы ждали одни в маленькой комнате нижнего этажа недалеко от выходных дверей. Для простого смертного это могло быть прекрасным случаем уйти; было бы легко выйти в коридор и смешаться с толпой, но для Великого Князя дело другое. Куда бы он пошел? Схваченный вторично, он должен был ожидать худшей судьбы.
Что до меня, то я ведь разыгрывал лояльного советского служащего, кроме того, мне ничто не угрожало, разве что я не вернусь в Гатчину. Эти несколько минут ожидания были единственным случаем, когда я услышал со стороны вел. князя выражение гнева, но гнев был неубедителен, точно гнев милого ребенка: «Во мне все кипит. Как мы будем их вешать, если одержим верх!» — сказал он по-французски».
Подобное высказывание свидетельствует о существовании связи в.кн.Михаила Александровича с некими оппозиционными Советской власти кругами, участвовавшими в антиправительственных действий, о чем В.П. Зубов, естественно, знать не мог.
Наконец, имеется личная оценка М.А. Романовым событий 3-го марта, прозвучавшая им в разговоре с Н.А. Тупициной в 16/29 мая 1918-го в Перми[8]: «Надежда Александровна рассказывала, что тогда (…), она и спрашивала его за чаем об отречении… «Как-то мы сидели и пили чай, и я спросила его (Михаила Александровича), почему он отрекся от престола. Он махнул ладонью (она невольно повторила этот жест) и сказал: «Это не я, это Керенский» (100% дословно). Потом, когда ее уже не было, про это чаепитие я прочел в дневнике М.А. (опубликован в Перми, в книге «Скорбный путь…»)».
Учитывая все выше изложенное, можно предположить, что бывший комиссар над «Всероссийской комиссией по делам о выборах в Учредительное собрание», председатель Комитета революционной обороны Петрограда и Петроградской ЧК, дипломированный юрист М.С. Урицкий, т.е. человек совокупно владевший информацией о юридических правах на управление государством, оперативной информацией о планах «контрреволюционеров» и отвечавший за оборону столицы, адекватно относился как к личности Михаила Александровича, так и к потенциальной угрозе, от него исходящей.
7 марта 1918 года Гатчинский Совет рабочих и солдатских депутатов арестовал и сдал в Комитет революционной обороны Петрограда группу лиц: М.А. Романова, его секретаря Н.Н. Джонсона, бывшего начальника Гатчинского жандармского железнодорожного управления П.Л. Знамеровского, директора Гатчинского дворца-музея графа В.П. Зубова и его делопроизводителя, бывшего правителя канцелярии Петербургского губернатора А.М. Власова. Они были препровождены в Смольный, где немедленно предстали перед высокопоставленной комиссией в составе: председатель Петроградского ревкома М.С. Урицкий, нарком юстиции И.З. Штейнберг, управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич, чрезвычайный комиссар охраны Петрограда Г.И. Благонравов и другие.
Находясь в Смольном, в. князь Михаил Александрович просил графа В.П. Зубова передать Урицкому свое согласие на подписание любого документа об отсутствии своих притязаний на власть в обмен на свободу своего проживания, как простого гражданина республики. На что М.С. Урицкий в беседе с Зубовым четко выразил свое личное отношение и, вероятно, официальное мнение большевистского руководства[9]: «Он посмотрел на меня своими умными глазами и ответил: «Можно подписать все что угодно и вполне добросовестно, после чего обстоятельства могут заставить действовать иначе. Вот почему все его заявления не имеют для меня никакой цены».
В результате Петроградский предревкома направил В.И. Ленину записку следующего содержания[10]: «Многоуважаемый Владимир Ильич! Предлагаю Романова и др. арестованных Гатчинским Советом рабочих и солдатских депутатов — выслать в Пермскую губернию. Проект постановления при сем прилагаю. Если нужны какие-либо объяснения, готов явиться на заседания для дачи их. М. Урицкий».
О серьезном отношении большевистского руководства к потенциальной угрозе своей власти со стороны легитимного императора свидетельствует хотя бы то, что в условиях срочной эвакуации правительства Советской республики, обращению М.С. Урицкого был посвящен отдельный вопрос на последнем заседании СНК в Петрограде 9 марта 1918 года: «о высылке бывш. Великого Князя М.А. Романова и других лиц в Пермскую губернию»[11]. Вениамин Васильевич Серафимов предоставил автору, найденные им в архиве Октябрьской революции документы, связанные с отправкой литерного вагона, в которых написано [12]: «Комитет революционной обороны г. Петрограда предлагает Вам сегодня (!) изготовить спальный вагон (в крайнем случае – вагон второго класса для препровождения пяти арестованных и 7 челов. Конвоя с ними до Перми. Распорядитесь о прицепке этого вагона ко всем поездам, известить комитет о часе, когда должны быть доставлены арестованные, поставьте у вагона наружный караул…»
10 марта с Николаевского вокзала Романов М.А., Джонсон Н.Н., Знамеровский П.Л. и Власов А.М. были отправлены в Пермь. Вместе с Михаилом Александровичем в Пермь добровольно выехали его камердинер Челышев В.Ф. и шофер Борунов П.Я.[13]. В качестве охраны: «Комиссар конвоя – тов. Квятковский и лытышские стрелки: Гринберг, Элик, Менгль, Шварц, Эглит и Ленгардт»[14].
В тот же вечер с платформы «Цветочная площадка» отошел специальный поезд № 4001, на котором Ленин вместе с Н.К. Крупской, М.И. Ульяновой и членами ЦК РКП(б) и СНК выехали в Москву.
Можно полагать, что с этого момента судьба членов Императорской фамилии была предрешена. Михаил II и иные лица, потенциально претендующие на занятие высшей государственной власти, были признаны опасными для Советской республики.
Тогда же, в марте, из Петрограда были высланы в Вологду и Вятку под надзор местных властей Великие князья и Князья Императорской крови, находившиеся в Петрограде. В Гатчине остался только больной Великий князь Павел Александрович, арестованный позже. Его сын от морганатического брака князь Владимир Палей, явившийся в недавно созданную Петроградскую ЧК для сообщения о болезни отца, также попал под санкции. В Царском Селе под домашним арестом оставался Великий князь Борис Владимирович.
В Крымских имениях под домашним арестом находились: вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее дочь Великая княгиня Ксения Александровна с мужем Великим князем Александром Михайловичем и детьми (Андреем, Никитой, Ростиславом, Федором, Дмитрием и Василием), а также Великая княгиня Ольга Александровна со своим вторым мужем Н.А. Куликовским; Великий князь Николай Николаевич и его жена Великая княгиня Анастасия Николаевна, а также князь Сергей Георгиевич Романовский; Великий князь Петр Николаевич и его жена Великая княгиня Милица Николаевна, их дети (Роман и Мария), а также их окружение. Ялтинский Совет рабочих и солдатских депутатов намеревался их всех казнить, чтобы они не оказались у немцев. Однако благодаря быстрому апрельскому наступлению Кайзеровской армии этого не произошло.
Остальные члены Императорской фамилии находились вне юрисдикции центральных органов Советской власти.
Примечательно и то, что именно в начале марта 1918 года Президиум Уралсовета постановил обратиться во ВЦИК с предложением о переводе царской семьи в Екатеринбург. «В Москву, куда в это время переехало центральное Советское правительство был командирован Член президиума Совета — Областной Военный Комиссар Ф.И. Голощекин. На заседании ВЦИКа им был сделан доклад о положении дел в Тобольске и о необходимости принятия срочных мер по отношению к царской семье. Президиум ВЦИКа согласился на перевод Николая Романова в Екатеринбург, при условии личной ответственности за него Голощекина, старого партийного работника, хорошо известного ЦК партии. Для организации перевоза бывшего царя ВЦИК решил послать особого комиссара, о чем было сообщено через Голощекина Уралсовету»[15].
Анализ решений Советской власти в отношении членов Дома Романовых
Чтобы понять уровень осознания руководством Советской власти степени угрозы со стороны легитимных претендентов на управление государством, рассмотрим известные решения высших органов этого периода.
В отношении семьи бывшего императора Николая II на заседании Совнаркома РСФСР от 20 февраля 1918 г. решили: «поручить Комиссариату юстиции и двум представителям Крестьянского съезда подготовить следственный материал по делу Николая Романова. Вопрос о переводе Николая Романова отложить до пересмотра этого вопроса в Совете Народных Комиссаров. Место суда не предуказывать пока»[16].
В отношении Михаила Александровича – это Постановление Совнаркома РСФСР от 9 марта 1918 г. с санкцией: «выслать в Пермскую губернию впредь до особого распоряжения. Местожительство в пределах Пермской губернии определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»[17].
А в отношении Великих князей, высланных в Вологду и Вятку, действует постановление более низкого уровня власти – Совета Комиссаров Петроградской трудовой коммуны от 26 марта 1918 г. и с несколько большей свободой выбора: «впредь до особого распоряжения с правом свободного выбора места жительства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской губ.»[18].
Из представленного можно сделать вывод о том, что:
– во-первых, личность Михаила Александровича Романова для Совнаркома имела особое значение, отличное от важности иных лиц Императорской фамилии;
– во-вторых, Пермскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были делегированы специальные полномочия по организации ссылки и возложена соответствующая ответственность;
– в-третьих, слова «впредь до особо распоряжения» имеют синонимический смысл: «без установления определения срока длительности», а также экстрасемантический смысл: ограничение свободы и установление полной зависимости от чужого решения.
Анализ известных документов центральных органов власти (ВЦИК– 01.04.1918, 06.04.1918, 04.05.1918, 09.05.1918, 25.05.1918, 18.07.1918; СНК – 20.02.1918, 09.03.1918, 02.05.1918; ЦК – 16.05.1918, 19.05.1918), связанных с упоминанием имен Михаила и Николая Романовых, показывает[19] интересную закономерность: из 11 известных совещаний в пяти и более приняли участие: Председатель ВЦИК и Председатель Секретариата ЦК РКП(б), т.е. формальным глава Советского государства и партии Я.М. Свердлов – в 10 из 11; его заместитель по ВЦИК – М.Ф. Владимирский, Секретари ВЦИК В.А. Аванесов и Г.И. Теодорович – в 7 из 11; Председатель СНК В.И. Ленин и Зам. Наркома просвещения М.Н. Покровский – в 5 из 11.
Таким образом, следует вывод о том, что вопрос о судьбе Романовых от СНК перешел в компетенцию Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), которому подчинялись все местные Советы и Исполнительные комитеты, а также местные «чрезвычайные комитеты по борьбе с контрреволюцией и саботажем» (в единую структуру Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР они вошли после 1-й конференции, состоявшейся 10-15.06.1918 г.).
Поэтому не удивительно то, что полномочия по организации ссылки, т.е. контроля за проживанием и деятельностью Михаила II делегировали именно Пермскому Совдепу, ведь Пермская партийная организация большевиков была создана в 1906 году непосредственно «уральским лидером» Яковом Михайловичем Свердловым, выдвинутым Уральской парторганизацией в ЦК в апреле 1917-го.
Отсюда, сделаем вывод о том, что руководство Советской республики осознавало, что личность Михаила Александровича Романова, «де-юре» Императора Михаила II, с момента разгона Учредительного собрания и ничтожности Акта от 3 марта 1917 года стала серьезной потенциальной политической угрозой, независимо от желаний этого субъекта государственных отношений и существования возможности реализации его права.
Цель действий советской власти – устранение политической угрозы
Об этом же пишет и «технический» организатор будущих «похищения» и убийства Михаила Александровича Романова в Перми – Г.И. Мясников в своей «Философии убийства …»[20]: «Для меня же было ясно, что начатая гражданская война Колчаками, Алексеевыми, Красновыми, Дутовыми, Каледиными – ищет знамени. Ни один из генералов знаменем быть не может, каждый из них считает себя равновеликим и между ними неизбежны грызня и взаимные интриги. Ни одно из генеральских имен не может стать программой всей контрреволюции, начиная от меньшевиков-активистов и правых с.-р.-ов и кончая монархистами. Не может быть этим знаменем и Николай II со своей распутинской семейкой. Он как глупый, тупой тиран не пользуется нигде никаким уважением. Выдвинуть Николая II – это значит внести даже в среду генералов и офицеров раскол, не говоря уже о крестьянских массах и кадетско-меньшевистско-с.-р.-кой интеллигенции. Его имя не мобилизует силы контрреволюции, а дезорганизует их. Он политически мертв.
Другое дело Михаил II. Он, изволите ли видеть, отказался от власти до Учредительного Собрания. Керенский от имени партии с.-р.-ов пожимал ему руку, называя его первым гражданином Российского государства, т. е. прочил в несменяемые президенты… (…) Поддерживая Михаила II, буржуазия всех стран могла бы делать вид, что она поддерживает нечто от революции, а не от контрреволюции, а это значит, что она могла спокойнее, без опасности со стороны пролетариата мобилизовать большие материальные и человеческие ресурсы, чтобы бросить их на помощь русской контрреволюции. А Каутские всех стран обосновали бы это теоретически. Михаил II может стать знаменем, программой для всех контрреволюционных сил. Его имя сплотит все силы, мобилизует эти силы, подчиняя своему авторитету всех генералов, соперничающих между собой. Фирма Михаила II с его отказом от власти до Учредительного Собрания очень удобна как для внутренней, так и для внешней контрреволюции. Она может мобилизовать такие силы, которых никакая генеральская фирма и фирма Николая II мобилизовать не сможет. Она удесятерит силы контрреволюции. …(…)
А вот поди же ты! Получилась такая расстановка борющихся сил, что этого недалекого человека выдвигают на роль вершителя судеб величайшей страны, и из него может получиться впоследствии некое божеское воплощение на земле. Значит, дело не в Михаиле, а в расстановке борющихся сил, сил борющихся классов. В Михаиле старый мир имеет знамя, программу, имеет орудие для более успешного отстаивания позиций разрушенных Октябрем классов. Он как будто бы остался в стороне и не несет ответственности за все преступления романовской шайки и получил некоторое миропомазание от революции в лице партии Керенского, которая когда-то считала цареубийство, истребление всего рода Романовых сильнейшим из средств в борьбе за идеалы партии. При этом Учредительное Собрание, которое в течение десятков лет служило знаменем мобилизации революционных сил в борьбе с самодержавием, как бы волею самой революции признанное стать вершителем судеб всей страны, признано и Михаилом, который своим отречением до Учредительного Собрания признал глас народа за глас божий, надеясь, что этот глас божий будет и его гласом, сделает его помазанником божиим. Стало быть, дело не в физической личности Михаила, а в фокусе социальных классовых сил, которым является Михаил».
Итак, у руководства молодой Советской республики возник объективный политический мотив на устранение любого легитимного руководителя Российской Империи. Через четыре месяца после рассматриваемых нами событий Председатель СНК РСФСР и лидер Большевистской партии В.И. Ленин сказал[21]: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, но не сразу революция научается защищаться».
В соответствии с этой фразой, впоследствии ставшей «крылатым выражением», происходило постепенное формирование умысла в центре и замысла на местах. При этом наивно полагать, что руководители Советской республики специальным образом кого-то подговаривали и лично отдавали команды об убийстве. Им было достаточно объяснить местным «ответственным товарищам», что последние «головой отвечают перед революцией и партией за то, чтобы Романовы не бежали и не попали в ряды контрреволюции», а также оговорить принципиальную возможность их ликвидации в случае угрозы. Именно в эту схему и укладывались решения о высылке «впредь до особого распоряжения».
Следующим логическим шагом должен был стать сбор членов Дома Романовых в «надежном месте» под «надежной охраной». «Надежная охрана» предполагала два момента: готовность пойти на крайние меры (убийство) и высокий уровень дисциплины (чтобы этого не произошло без разрешения сверху). Повторение эксцесса с убийством руководителей кадетской партии А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина 7 января 1918 года в Мариинской тюремной больнице Петрограда должно было быть исключено.
Таким местом и такой охраной являлась Пермская губерния с пермской и екатеринбургской партийными организациями, созданными непосредственно Я.М. Свердловым и имеющими в своей основе специально подготовленных в 1906-м году боевиков, лично известных «Михалычу» (Я.М. Свердлову). Именно ими и были будущие организаторы и исполнители преступлений против Романовых:
– «пермского»: А.Л. Борчанинов, Г.И. Мясников, В.А. Иванченко, А.В. Марков, Н.В. Жужгов, А.В. Трофимов и др.;
– «екатеринбургского»: Ф.И. Голощекин, Г.А. Белобородов, П.З. Ермаков, Я.М. Юровский и др.
Таким образом, умысел на устранение легитимных руководителей страны был перенесен на следующий уровень Советской иерархии и дополнился личными мотивами местных партийных и советских деятелей.
Причины активизации действий пермских властей в отношении В. князя Михаила Александровича
Возникновение умысла на убийство в головах местных руководителей можно проиллюстрировать на примере откровений начальника Пермской милиции В.А. Иванченко[22], непосредственно несшего ответственность за Михаила II: «При занятии этого поста, мне с первой же недели передали под надзор Михаила Романова с его личным секретарем и свитой телохранителей – двух жандармов; я и по настоящее время не знаю – чье было постановление передать его под надзор милиции, но мне был строжайший наказ пор. от исполкома, а так же Чрезкомиссии «хранить Романова как зеницу ока». Чтобы он не смог удрать, я в свою очередь со своей стороны принял меры: вместо одного раза назначил являться ко мне 3 раза в неделю, и я отмечал в журнале, где расписывались (Романов и его секретарь Джонсон). И мало этого, сам часто приходил к ним в Королевские номера, справлялся, у себя ли надзорные, но очень часто не заставал, и на вопрос его свиты: где же Романов? Завсегда отвечали: ушел гулять. Я начал задумываться над этим вопросом. Как же мне избавиться от этого кошмара, который мне не стал давать спокою, что он у меня все-таки может убежать, тогда как в Сибири белогвардейщина уже свирепствовала во всю и грозила нашему Уралу? … (…) является жена (Михаила Романова) и просит разрешения, что они могли с ним погуляться, и конкретно не указывает куда же их намечена прогулка. Я официально отказал в просьбе, а сказал, что Романов у нас ходит совершенно свободно. Этот вечер меня окончательно заставил задуматься серьезно. Я заявлял об этом в исполком и даже наталкивал на мысль от избавления от Романова. Но исполком, окромя тов. Сорокина, категорически отказывался от всякого предложения. Я все же с этим вопросом стал надоедать тов., пользующимся авторитетом, сказал Мясникову, который дал обещание во что бы то ни стало решить вопрос о Романове, так как Уралу в недалеком будущем грозила опасность. И вот уже в последних числах сентября мес. находят меня в Мотовилихе Мясников, Колпащиков, Марков и Жужгов и говорят, что из-за меня дело стоит, все готово, план приблизительно наброшен о краже Мих. Романова, только нужно практически обсудить. И пошли в кино «Фонарь», где и стали совещаться, как приступить к делу. Я сначала слушал предложение их всех по очереди и наконец согласились все».
Однако В.А. Иванченко в этой записи для Истпарта не только искажает месяц событий, но и умалчивает о предистории преступления. Об этом авторы подробно рассказывают в статье ««Похищение» и убийство императора Михаила II. Пермь. Март – июнь, 1918 год»[23].
К концу мая военно-политическая ситуация в стране и оперативная обстановка в губернии резко обострилась. Помимо чехословацкого мятежа, создания КОМУЧа, непосредственно в ранее спокойном «глубоком тылу» обострились меньшевистские и эсеровские выступления, недовольная лишением церковной собственности епархия готовила съезд и массовое неповиновение верующих, поступала информация о подготовке побега Михаилом Романовым, о чем имелись сведения наружного наблюдения, сегодня подтвержденные более поздними документами.
Действительно, находясь в Перми, Михаил Александрович вместе с бывшим жандармским полковником Петром Людвиговичем Знамеровским готовил побег на моторной лодке вверх по Каме[24]. Достаточно сказать, что за 12 дней (с 9 по 20 мая) он семь раз переправлялся на правую сторону Камы, где совершал походы вверх и вниз по течению на расстояние до 10 км, что может трактоваться как «разведка местности». Четыре раза (12, 13, 15 и 16 мая) общался с «фотографом» В.Н. Второвым, который на самом деле являлся членом самого богатого купеческого семейства в России. Три раза встречался с датскими дипломатами: вице-консулом Рее (10 мая и 2 июня) и его секретарем – австрийцем Шейфлером (10 мая, 2 и 6 июня). В это же время произошли встречи Михаила II с архиепископом Андроником и ректором семинарии архимандритом Матфеем, обозначившими свою позицию на Поместном соборе как активные противники Советской власти и монархисты.
В следственном деле Н.А. Соколова имеется допрос Р.В. Нахтмана от 11 декабря 1919 года[25], который сообщил: «В это время я впервые и был представлен Великому Князю. Михаил Александрович с супругой были у Знамеровского часа два. Великий Князь интересовался общим положением в России. О своем личном положении Он ничего не говорил.
После ухода Великого Князя Знамеровский стал говорить мне: «Знаете, Роман Михайлович, положение ужасное. Это невозможно. Князь волнуется; в Мотовилихе — сборища, разные угрозы. Это Его нервирует. Доктора Катона нет. И я боюсь опять открытия у Него язвы в желудке. Не можете ли Вы вывезти Наталию Сергеевну куда-нибудь на Украину через Курск? Мы же сами собираемся уехать на север по Каме. Если вы скоро отсюда не уедете, может быть, Вы будете нужны. Княгине и Джонсону ничего не говорите». Знамеровский достал карту. Мы рассматривали с ним ее. На карте были нанесены по Каме к северу отдаленные монастыри. Знамеровский, указывая их, высказывал надежды получить помощь при бегстве в этих монастырях.
После этого нашего разговора Знамеровский ходил к Князю и, видимо, говорил там с Ним и с Наталией Сергеевной, подготовляя почву. Через день после посещения квартиры Знамеровского Великий Князь с Наталией Сергеевной снова пришли к Знамеровскому. Наталия Сергеевна сказала мне: «Роман Михайлович, я вижу Вы честный человек. Вы нам можете помочь».
Между тем высланный находился под постоянным негласным надзором. Уникальную информацию «раскопали» пермские журналисты в 1974 году[26]: «Но глаз с него не спускали. С ним всегда был Иван Беляев, мотовилихинский рабочий по прозвищу Ванька-Замазай. Жил он в Пихтовке. Замазай часто переодевался, то купцом, то моряком – его специально гримировали. Постоянно наблюдал за Михаилом Василий Иванченко. Он персонально отвечал за брата царя».
Пермскому Окружному чрезвычайному комитету (далее – ПОЧК) стало известно о встрече Михаила Александровича с князем П.П. Путятиным, о чем написано в воспоминаниях его дочери Н.П. Путятиной[27]: «Весной 1918 года князю Павлу Павловичу Путятину удалось навестить великого князя Михаила Александровича в ссылке в Перми. В результате Павел Павлович оказался в списке лиц, подлежащих немедленному аресту. После возвращения в Петроград он был вынужден скрываться и постоянно менять место ночлега. И вскоре супруги Путятины решились бежать в «белую зону» — в ту часть страны, которая контролировалась верными императору войсками. Павел Павлович один бежал инкогнито, а его семья осталась на лето 1918 года в Петрограде».
Привлекали внимание ПОЧК и некоторые другие встречи, например, с бывшим военнослужащим Собственного Его Императорского Величества железнодорожного полка В.С. Обыденовым, приехавшим из г. Екатеринбурга, по факту которой в ПОЧК было заведено отдельное оперативно-розыскное дело[28].
Эти материалы рисуют нам образ Михаила Романова, как человека волевого, умного, самостоятельного, решительного, готового лично организовать дело. Однако, увы, преданного и брошенного «элитой», и вынужденного опираться только на личные связи.
Первые посланцы от «Алексеевской организации» прибыли в Пермь только в июле 1918 года. Позднее один из них – Н.А. Протопопов написал: «Сегодня 19 августа, день, который в простонародьи называют «Спасов». (…) Спасов день памятен мне не только как полковой праздник, но и как день, когда мне пришлось перейти на нелегальное положение. Это было в Перми в 1918 году. Мы целая группа офицеров гренадер, входящих в монархическую Алексеевскую офицерскую организацию г. Москвы, были командированы в город Пермь в 1918 г., в начале июля, для усиления пермской офицерской организации и возможности спасения Е. И. В. Великого Князя Михаила Александровича из большевистского плена. Ехали мы все добровольно и, конечно, с большой радостью. Нас было 17 душ»[29]…
Между тем решающую роль в развитии событий сыграл «мистический» эпизод «розыгрыша» вряд ли психически здоровой 16-летней В.П. Кулеш, решившей «разыграть весь город» демонстрацией «похищения Михаила Романова. Об этом авторы писали в статье «Похищение» и убийство императора Михаила II»[30].
«Невинная девушка» Вера Кулеш за 12 дней (с 9 по 20 мая) вовлекла в свои фантазии[31] – ни много ни мало, лично: председателя Пермского горисполкома А.Л. Борчанинова, его заместителя И.В. Башкирова, начальника Бюро контрразведки Ануфриева, председателя ПОЧК Ф.Н. Лукоянова, заместителя председателя ПОЧК П.П. Ивонина, председателя Пермского окружного Революционного трибунала М.М. Палкина, заведующего отделом ПОЧК по борьбе со спекуляцией П.И. Малкова, заведующего отделом ПОЧК по борьбе с контрреволюцией Г.Ф. Воробцова, комиссара городской Советской милиции М.Ф. Барандохина и других лиц, ответственных за надзор за Михаилом Александровичем.
Их первая реакция стала закономерна – ужесточить надзор. И 20 мая принимается решение, которое исключало наличие двухсуточного неконтролируемого времени, теоретически достаточного для осуществления побега: Михаил II был переведен под надзор ЧК «с ежедневной отметкой», одновременно в губернии было введено военное положение, а членов партии перевели на «казарменное положение».
Вторая реакция оказалось еще более серьезной – возникло решение использовать «шутку» Кулеш, как сценарий спецоперации по ликвидации Михаила II. Эта идея оказалась настолько «удачной», что прибывший в Пермь в январе 1918 года вновь назначенный колчаковский прокурор Пермского окружного суда П.Я. Шамарин в протоколе допроса 3–5 октября 1919 года[32] сообщил следователю Н.А. Соколову: «Относительно похищения Михаила Александровича, или убийства его, я могу показать следующее. В Перми было распространено мнение, что Великий Князь Михаил Александрович был увезен с целью его спасения. Помощник управляющего Пермской губернией Михаил Васильевич Кукаретин говорил мне, что в Перми существовала организация, имевшая специальную цель спасти Михаила Александровича, и высказывал убеждение, что он действительно спасен, причем он был увезен на моторной лодке по направлению к Чердыни»…
Убийство Михаила II в ходе спецоперации местной власти в Перми
Между тем в связи с «чехословацким мятежом» оперативная обстановка и политическая ситуация в Поволжье и на Урале стремительно ухудшались.
2 июня 1918 года в Москве было подписано Наставление всем местным Совдепам и всему населению «Как поступать в случае нашествия неприятеля на доказавшую свою твердую волю к миру Советскую Социалистическую Российскую Федеративную Республику»[33], которым объявлялось: «Всем Губернским, уездным Совдепам… (…) Обеспечивать себе тыл. А для этого поголовно истреблять шпионов, провокаторов, белогвардейцев, контрреволюционных предателей, которые оказывают прямое или косвенное содействие врагу.
Председатель Всеросс. Ц.И.К. Я. Свердлов
Совет Народных Комиссаров. Предс. С.Н.К. В. Ульянов (Ленин)».
Одновременно на места, имеющие важное стратегическое значение, были посланы представители Центра. Одним из первых в Пермь прибыл член ЦК РКП(б) И.Т. Смилга. В воспоминаниях председателя боевого отряда пермских партийных дружин И.И. Сигова четко отмечено[34]: «В мае 1918 на партсобрании дружинников по докладу тов. Смилги было решено перейти на казарменное положение. Это решение было выполнено 2-го июня 1918 года, правда, нас в первый день собралось 32 человека. Мы получили название боевой единицы штаба Пермских парт. Дружин. Расположились лагерем в палатках, в саду быв. Духовной семинарии в гор. Перми».
Вторым представителем Центра, прибывшим уже по линии СНК, стал и.о. главного комиссара Народного банка РСФСР А.П. Спундэ, который одновременно являлся членом Уралсовета и Уралобкома. 4 июня 1918 года он председательствовал[35] на заседании Совета партии в Перми (на следующем заседании 11 июля 1918 года руководил собранием Председатель Пермского общегородского комитета РКП(б) А.А. Ляк). Председательство Спундэ на заседании высшего партийного органа Пермской губернии при наличии действующего руководителя парткома (А.А. Ляка) свидетельствует о его высоком статусе и полномочиях. А.П. Спундэ еще в 1917 году руководил Пермским комитетом партии большевиков, отсюда был избран членом Уральского Совета и Уральского комитета РСДРП(б), а также членом Учредительного собрания. Возможно, в 1918 году в Пермь он прибыл для подготовки запуска печати советских ассигнаций, что также может говорить о высочайшем уровне доверия к нему со стороны советского правительства, а также о таком же доверии к местной власти.
Итак, в конце мая и начале июня 1918-го в губернской столице уже находились представители центральных органов партии и Совнаркома, поэтому говорить о какой-либо «самодеятельности» местной власти в принятии решений не представляется возможным. Тем более в условиях действий принципа партийного «демократического централизма» и вертикали власти в условиях военного положения.
Одновременно стали укреплять проверенными людьми и местные силовые структуры. В числе прочих, 27 мая 1918 года партийный комитет Мотовилихи принимает решение о направлении Г.И. Мясникова на работу в Пермский Окружной чрезвычайный комитет (ПОЧК).
При усложнении оперативной обстановки в Прикамье росла личная тревожность пермских руководителей: в их головах произошла трансформация абстрактного мотива «политической угрозы молодому Советскому государству» в мотив «угрозы личному благополучию за невыполнение приказа партии».
2 июня 1918 года в воскресенье на даче в Верхней Курье проходит совещание, в котором участвуют:
— председатель Губисполкома и окружного комитета РКП(б) В.А. Сорокин;
— председатель Горисполкома, член Пермского комитета А.Л. Борчанинов;
— член ЦК РКП(б), представитель центра И.Т. Смилга;
— член ВЦИК 3-го созыва, председатель Мотовилихинских исполкома и комитета РКП(б), член горкома, ставший зав. отделом ПОЧК Г.И. Мясников;
— заведующий отделом ПОЧК П.И. Малков;
— комиссар Пермского Совета по социальному обеспечению А.А. Постаногов;
— секретарь Мотовилихинских исполкома и РКП(б) М.П. Туркин;
— бывший председатель горисполкома, член горкома партии В.И. Решетников;
— заведующий следственной комиссией Мотовилихинского исполкома, член Мотовилихинского комитета РКП(б) А.А. Миков;
— и еще два неустановленных лица (возможно, речь идет о А.П. Спунде и председателе ПОЧК, бывшем студенте Ф.Н. Лукоянове, с которым мотовилихинцы конфликтовали, но игнорировать не могли).
Об этом событии позднее было сообщено А.А. Миковым[36]: «Под вечер уже около койки т. Решетникова в углу в большой комнате собрались: Мясников, М. Туркин, Смилга, Борчанинов Александр, Постаногов и еще двое из города, но фамилии их уже не припомню. Был, кажется, и жилец из флигеля – Сорокин. Опять, уже который раз, речь была относительно Мишки Романова. Малков выразил опасение, что дальше «держать Мишку» опасно: может сбежать, хотя наблюдение за ним и строгое. Мясников «посоветовал» – настаивал – отправить его обратно в Москву – «эвакуировать». «На какой черт возить его туда и обратно – ликвидировать его и все! Спустить в Каму – и всего делов!» – Эта моя реплика как будто смутила всех, и все же я был уверен, за нее были все и, я уверен, что это подтолкнуло на более решительное разрешение вопроса о «Мишке».
Через некоторое время с Трофимовым Александром я два раза заходил к Романову. То обстоятельство, что Трофимов был мне близкий товарищ и по боевой организации 1905 г., с ним вместе побег из тюрьмы устраивали из одиночек в 1907 г., а затем опять вместе работали после каторги в 1917 году, и что Трофимов работал в Особом Отд., между нами были вполне откровенные разговоры и беседы относительно этого «дела». Романов при нашем «визите» к нему последнем был настроен, видимо, сильно «неврически». Холодный острый взгляд его буравил вопросительно нас обоих, видимо он догадывался, что вскоре будет с ним, а по нашему «визиту», мрачно стоял у стола, хотел определить – что означает сей «визит»? Об обстановке, как и где все «это» произошло вскоре, кем все это было выполнено – все мы об этом хорошо знаем, кому это следует знать».
Наивно полагать, что именно здесь был разработан план убийства Михаила Александровича. Перед пермскими руководителями стояла более масштабная задача: «общее оздоровление» политической обстановки в регионе. Поэтому, ретроспективно (по факту дальнейших исторических событий) можно говорить, что речь шла о подготовке комплексной спецоперации, предполагающей превентивный удар по потенциальным врагам и лидерам антисоветского движения, а именно: бессудную ликвидацию Михаила II; привлечение к судебной ответственности Архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) на основании дела, возбужденного Следственной комиссией Пермского революционного трибунала еще в конце апреля; аресте лиц, активно проявивших себя противодействием. Указанные мероприятия необходимо было осуществить до назначенной Андроником даты неразрешенного епархиального съезда – 16 июня.
В тот момент руководители, принимавшие принципиальное управленческое решение, еще не представляли, как организовать убийство последнего руководителя Империи, чтобы не возмутить общественное мнение. Поэтому вопрос передали для решения в ПОЧК, где уже возникла задумка.
Еще в мае 1918-го пермскими чекистами была задержана некая Вера Кулеш, которая, представившись «графиней Голициной», по своим собственным мотивам решила устроить «розыгрыш властей о подготовке побега Великого Князя Михаила Александровича»[37]. Эта «шутка» позволила Пермскому Окружному чрезвычайному комитету разработать «технический план» ликвидации Михаила II, о чем позднее сообщил заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией А.В. Трофимов[38]: «Когда и почему именно в Пермь был выслан Михаил, сказать затрудняюсь. После строгих телеграфных распоряжений арест с него снят, наблюдение за ним оставлено, но он был обязан еженедельной явкой в милицию для отметки. В мае м-це ЧК ему предложено ежедневно являться в комиссию и расписываться в особом журнале. С большими протестами он согласился. Распоряжений на этот счет из центра мы никаких не получали. Часто перед нами (в)ставал вопрос – почему бы его не истребить. Ведь он при нашем поражении будет царем. Контрреволюция будет собирать свои силы его именем и его использует в своих целях широко. Но наши желания всегда наталкивались на то, как это сделать так, чтобы в этом не фигурировала ЧК, чтобы и тени участия ЧК в этом ни у кого не было.
В конце мая м-ца к нам был командирован Мясников. Разговорились и ему сказали о наших мыслях. Мясников заявил, что он найдет для этого дела людей. В это приблизительно время нами было арестована, … одна дама, именующая себя урожденной Голициной, графиней, которая якобы была у Михаила и передала ему письма. И что, по ее сведениям, тут подготавливается побег. Это нам помогло построить свой план истребления. План сводился к следующему: Михаила крадут, мы, ЧК, усиленно его разыскиваем, арестуем всех, кто посещал Михаила или кто к нему ходил, за пособничество к побегу придаем их суду. В случае какой-нибудь неудачи Мясников берет всю вину на себя. Технически план разработал Мясников».
Так в Перми произошел переход умысла в «технический» замысел.
Г.И. Мясников же и нашел «надежных» исполнителей, личная мотивация которых была различной и комплексной. Из изучения биографий и профиля личностей отдельных участников «похищения» можно предположить их доминирующий мотив: личная тревога за порученное (В.А. Иванченко), ненависть к царской власти и месть за годы каторги (Н.В. Жужгов), партийная дисциплина (А.В. Марков) и т.д.
Однако на ликвидацию Михаила Александровича требовалось получить разрешение Центра, поэтому, как «страховочная мера», было принято решение о подготовке камер в губернской тюрьме для ареста его и «свиты», о чем позднее стало известно из дознания И.М. Сретенского[39].
Получить разрешение Центра «на истребление» можно было «явочным порядком»: 7-11 июня 1918 года в Москве проходил 1-й Всероссийский съезд военных комиссаров, на котором по должности от Пермской губернии должны были присутствовать член Военного отдела ЦК РКП(б) И.Т. Смилга и губвоенком М.Н. Лукоянов; в Москву на 1-ю конференцию ВЧК (5-11 июня) отправлялись председатель ПОЧК Ф.Н. Лукоянов и зам. зав. отделом по борьбе с контрреволюцией Г.Ф. Воробцов.
Если опираться на воспоминания А.А. Микова, то скорее всего проблему согласования вопроса решал именно И.Т. Смилга. Но возможен и вариант связи с председателем ВЦИК через Военного комиссара Уральской области Ф.И. Голощекина, который лично отвечал за членов Императорской фамилии на Урале и в Москву проезжал через Пермь.
Вариант с «побегом», предложенный Пермским ЧК, не требовал принятия формальных решений и не затрагивал ничьих интересов. А раз так, то, возможно, Пермским властям гарантировали защиту от наказания. Примечательна фраза из автобиографии П.И. Малкова от 1954 года[40]: «Работая в должности Председателя Коллегии, я по поручению Пермского городского комитета партии большевиков вместе с товарищами Марковым А.В. и Трофимовым А.В. был организатором похищения из номеров гостиницы Михаила Романова (брата Николая 2-я) и его расстрела».
Так как не нужно было каких-то письменных решений, то и возвращения делегатов из столицы можно было не дожидаться – сигнал о положительном решении мог быть отправлен в Пермь любым условленным способом.
В связи с рядом факторов (неразвитостью системы делопроизводства, склонностью подпольщиков к устной форме передачи приказов, утратой документов при отступлении из Перми, архивными «чистками» и т.п.) сегодня сложно найти отечественные документальные свидетельства, напрямую подтверждающие получение соответствующего «разрешения центра».
Достаточно отметить, что сохранность «Дела ЧК» – «Материалы по делу о побеге бывшего великого князя М.Н. (правильно: М.А.- авт.) Романова из-под ареста»[41]– великая удача источниковедения по Промыслу Божиему. Ведь в конце декабря 1918-го года архив Пермской губернской ЧК был передан «бухгалтером ЧК», а на деле бывшим полковником ОКЖ Н.М. Никифоровым, наступающим отрядам Сибирской армии. В конечном итоге документы были доставлены в кладовку Военного контроля при Штабе 1-го Средне-Сибирского корпуса. Никифоров, ставший начальником контроля, многое знал из своей «бухгалтерской работы» и архивы не разбирал. Интересно свидетельство Судебного следователя по важнейшим делам при Пермском Окружном суде А.И. Короновского[42], расследовавшего в 1919-м году деятельность Пермской и Мотовилихинской ЧК, который, прибыв в Военный контроль для осмотра дел ЧК, результата не достиг, т.к. материалы были разрозненны и не систематизированы – «свалены в кучу».
Между тем недостаточно исследованы материалы дел самого Военного контроля. В 1932 году известный русский журналист А.А. Гутман (А. Ган) в своей статье[43] со ссылкой, на виденные им документы дознания Военного контроля Правительства адмирала Колчака А.В., сообщает о допросе в Омске 17 февраля 1919 г. «телеграфиста Пермской почтово-телеграфной конторы Белкина», показавшего: «Я в этот день (27 мая) (дата указана по старому стилю, т.е. речь идет о дате: 9 июня 1918 г. – авт.) дежурил на прямом проводе. Часов в шесть пришел в контору Мясников и сказал, что он ожидает телеграмму из Москвы. В этот момент началась передача депеши. Подробностей не помню, но речь шла об утверждении плана и полномочий Мясникова. Подписали депешу Свердлов и Горбунов (Горбунов Николай Петрович (1892 -1938), с ноября 1917 по декабрь 1920 — секретарь СНК РСФСР и личный секретарь В.И. Ленина – авт.). Мясников приказал мне отдать ему телеграфную ленту, что я и исполнил»[44].
Достаточно сказать, что для контроля за «оздоровлением «политической обстановки «в тылу» после 10-х чисел июня в Перми появился еще более высокий представитель Центра – член ЦК партии и член ВЦИК М.М. Лашевич. Точная дата его приезда не установлена, но известно, что 15 июня он находился в г. Перми, о чем свидетельствует объявление в газете: «В субботу, 15 июня 1918 года, в 6 часов вечера в помещении Казенной палаты состоится общее собрание членов Пермской организации Российской Коммунистической партии (большевиков), на котором будет сделан доклад членом Цент. Исп. К-та. Вход по членским билетам. Пермский Обще Городской К-т»[45]. А для того, чтобы извещение попало в набор, выступающий должен был приехать не позже вечера 13-го – утра 14-го числа. Примечательно, что извещение на газетной странице непосредственно соседствует (!) с широко известной заметкой «Похищение Михаила Романова»[46], в которой официально объявлено: «Вызванные по телефону члены Чрезвычайного Комитета прибыли в номера через несколько минут после похищения. Немедленно было отдано распоряжение о задержании Романова, по всем трактам были разосланы конные отряды милиции, но никаких следов обнаружить не удалось. Обыск в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не дал никаких результатов. О похищении немедленно было сообщено в Совет Народных Комиссаров, в Петроградскую коммуну и в Уральский областной Совет. Производятся энергичные розыски».
Имеются сведения также об участии Лашевича во второй части спецоперации – аресте и бессудном расстреле Пермского Владыки Андроника.
Поэтому повторять «исторический штамп» о какой-то «самостоятельной инициативе» «мотовилихинских рабочих», которые по факту являлись действующими сотрудниками различных структур местной власти, только впустую тратить время читателя…
Как же на самом деле обстояли дела с «похищением»?
Обратимся к словам зав. отделом ПОЧК А.В. Трофимова, руководившего затем предварительным следствием о «побеге Михаила Романова»: «В ЧК изготовили мандат, подписали Малков и я, что такому-то ЧК разрешает с отрядом перевезти куда-то Михаила. С этим мандатом Мясников, Марков, Жужгов и Колпащиков отправились в Королевские №, приготовив лошадей.
Явившись в гостиницу, они заняли телефоны, спросили, где Михаил. К ним вышел Джонсон. Предъявив мандат ему, они потребовали, чтобы Михаил немедленно собрался. Джонсон хотел позвонить в ЧК, но ему этого не разрешили, тогда он заявил, что едет вместе с Михаилом. Оснований для отказа не было и товарищи согласились взять и его. Когда вышли они, освободив телефон, один из камердинеров сообщает к нам в ЧК, что сейчас Михаила забрали и увезли. Мы бежим в Королевские №№, по дороге остановились у милиции; я узнаю, что ни начальника, ни его помощника нет там. По условию Иванченко должен быть на своем месте. Обсуждаем, как быть. В это время один из камердинеров, бежавший к нам в ЧК, нас заметил и сообщает, что вот только что проехали лошади вот туда, указав рукой по направлению к Мотовилихе. Нужно сказать, что Мотовилиха в то время очень отличалась тем, что у ней чаще всего совершали побеги арестованные охранники, провокаторы и другая нечисть царская.
Мы трое тогда уж смело бежим в Королевские №№, зная, что там не застанем воров. Нам нужно было выиграть время. В №№ расспрашиваем, как это было. Нам надпоминают, что нужно поднять на ноги милицию, что может быть можно догнать. Благодарим за надпоминание и бежим в ЧК, а не из гостиницы начинаем звонить по всем милицейским участкам, что Михаил бежал, что всех необходимо поднять на ноги, все тракты, станции, вокзалы занять. Поездов и пароходов без осмотра нашими сотрудниками не выпускать из Перми. Сотрудников своих направляем на вокзалы и пристани. Телеграфируем в Екатеринбург, что Михаил украден и шифровкой извещаем Белобородова, чтобы он особо не беспокоился…»[47].
Результатом этой цепи событий стало то, что в ночь с 12 на 13 июня легитимный Император Михаил II и его секретарь Николай Николаевич Джонсон были вывезены в район долины реки Большая Язовая[48] и там расстреляны. Намеченный на 13-е число арест архиепископа Андроника (в миру – Владимира Александровича Никольского) не состоялся из-за его болезни. Однако это не помешало 16-го в ходе проведения специальной операции задержать его и расстрелять ночью 20 июня 1918-го. В эти же дни были арестованы бывшие деятели Союза Русского Народа, а также «за агитацию было арестовано 13 священников и диаконов, которые были доставлены в Чрезвычайный Комитет по борьбе с контр-революцией. После допроса они были Комитетом освобождены, причем с них была взята росписка следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, даю эту росписку в том, что никогда не буду вести агитацию против Советской власти, а также по поводу ареста епископа Андроника». (Подпись)»[49].
Отметим, чтоеще 13 июня начались аресты заведомо невиновных лиц из окружения Михаила Александровича, будто бы «способствовавших побегу»…
Очевидная причина ликвидации бывшего императора Николая II и его семьи
В результате «похищения» Михаила Александровича Романова в июне 1918-го в Перми произошло изменение психологического отношения власти и общества к ценности жизни не только членов Дома Романовых, но и любого российского гражданина. Если ко второй половине мая 1918-го Всероссийской чрезвычайной комиссии официально было расстреляно всего 27 человек, в основном уголовных преступников: убийц и грабителей, чему соответствовало репрессивная практика и в Пермской губернии, то, начиная со второй половины июня, расстрелы становятся систематическими.
Это «изменение» характеризуется двумя основными моментами:
– для руководства было «убрано психологическое препятствие» (о чем, как о своей основной заслуге, позднее Мясников гордо написал: «Да потому что я развязал этот психологический узелок. Говорил же я тебе. Я убрал психологическое препятствие»[50]);
– для рядовых – возник значимый пример референтных лиц для подражания.
А так, как в Перми задачи по укреплению «тыла республики» были успешно выполнены, то Центр решил перенести наработанный опыт на весь Урал: в Екатеринбург для создания Уральской областной чрезвычайной комиссии (УралЧК) был направлен председатель ПОЧК Ф.Н. Лукоянов, с которым 16 июня 1918-го из Перми выехали 60 надежных мотовилихинских большевиков, для значительной части из которых харизматичная фигура Г.И. Мясникова являлась мерилом большевистской жизни и безусловным примером для подражания. В их числе были «однокашники» Лукоянова по Пермскому университету И.И. Родзинский и В.М. Горин, ставшие членами Коллегии УралЧК; В.А. Сахаров, назначенный Комендантом УралЧК; И.Я. Кайгородов и др.
Между тем с ликвидацией Михаила II на государственном уровне угроза Советской республике от «легитимного руководителя Российской Империи» вовсе не исчезла. В соответствии со ст. 53 Главы 4 «О вступлении на Престол и о присяге подданства» Основных Государственных Законов Российской Империи[51] «наследник Его вступает на Престол силою самого закона о наследии, присвояющего Ему сие право». И такой «наследник» был – им оставался Цесаревич Алексей Николаевич Романов. И тому, кто знал о действительной гибели Михаила II было совершенно ясно, что с 13 июня 1918 года Алексей Николаевич Романов «автоматически» стал Императором Алексеем II.
Это обстоятельство и определило мотив и умысел на необходимость убийства всей семьи бывшего императора Николая II.
Об этом стало известно Товарищу прокурора Екатеринбургского суда М.В. Томашевскому еще в июне со слов шурина члена Уральского областного и Екатеринбургского городского Советов, председателя комитета профсоюза фабрики Злоказова, члена военной секции городского комитета РСДРП(б) и одновременно начальника охраны Дома особого назначения с 30 апреля по 4 июля 1918 г. А.Д. Авдеева. О чем записано в соответствующем протоколе допроса 5 декабря 1918 года, когда Член Екатеринбургского Окружного суда И.А. Сергеев допросил в качестве свидетеля Коллежского асессора М.В. Томашевского, показавшешего[52]: «С 22 мая (старого ст. – авт.) с.г., находясь в городе Екатеринбурге и интересуясь судьбой Царственной Семьи, заключенной в доме Ипатьева, я получал сведения об образе ее жизни и тех условиях существования, в которых она находилась. В начале июня с.г. — после событий в Челябинске — я получил сведение, что большевиками решено, в случае необходимости эвакуации Екатеринбурга, убить или всех, заключенных в доме Ипатьева, или лишь троих из них, а именно Отрекшегося Императора, Супругу его и Сына. Это сведение впервые сообщил мне Член Исполнительного Комитета Уездного Совдепа, Уездный Комиссар Финансов Николай Кузьмин Чуфаров, выразившийся, дословно, так: «Если чехословаки идут освобождать Николая, то они ошибутся в расчетах: нами решено расстрелять Николая, но в руки контрреволюционеров не отдавать». Следует заметить, что Чуфаров, как представитель партии, нес дежурства при окарауливании заключенных в Ипатьевском доме, кроме того играл видную роль в большевистских кругах и компетентность его в намерениях большевиков была для меня очевидна. Поспешив тем не менее проверить слова Чуфарова, я получил подтверждение таких намерений большевиков от некоего Григория Тихонова Агафонова, служившего секретарем в Уездном Комиссариате Юстиции …»
Примечательно и то, что после получения информации из Перми о «бегстве Михаила Романова» режим содержания в Екатеринбурге почему-то не усилили, а, наоборот – ослабили (?!). Так, 17 июня арестованным было сообщено, что монахиням Ново-Тихвинского монастыря разрешено доставлять к их столу яйца, молоко и сливки. Это привело к тому, что в продуктовых посылках членами Царской семьи были обнаружены несколько писем. В них было написано[53] (пер с фр.): «Не беспокойтесь о 50 человек, которые находятся в маленьком доме напротив ваших окон — они не будут опасны, когда нужно будет действовать. Скажите что-нибудь определенное (более верное, точное) относительно вашего командира чтобы нам облегчить начало… Надеемся гораздо раньше воскресенья Вам указать детальный план операции. До сих пор он установлен таким образом:
Сигнал услышанный, вы закрываете и баррикадируете мебелью дверь, которая вас отделяет от отряда, которые будут блокированы и терроризированы* ** *** внутри дома. С (помощью веревки) веревкой специально сделанной для этого вы спускаетесь через окошко, где вас будут ждать внизу, остальное не трудно, средства передвижения не в недостатке и прикрытие хорошо, как никогда. Важность вопроса – это спустить маленького, возможно ли отвечайте обдумывая (обдумавши) хорошо. Во всяком случае это отец, мать и сын кот. первые спускаются, дочери потом, доктор им следует (за ними следует). Отвечайте, если это возможно, по вашему мнению и, если вы можете сделать веревку употребляя уже данную, чем вам препроводить веревку очень трудно в данный момент».
На что был подготовлен ответ[54]: «Мы не хотим и не можем бежать. Мы можем только быть похищенными (изъятыми) силой, т.к. сила нас привела в Тобольск. Так не рассчитывайте ни на какую помощь активную с нашей стороны» – который, вероятно, и спас Августейшую Семью от убийства по подготовленной провокации. Между тем, как уже было отмечено выше, в ночь с 26 на 27 июня Царская семья так и не легла спать, «бодрствовали одетые» в ожидании обещанного «побега». Однако, что-то пошло не так. Вероятно, «похитители» не смогли решить вопрос с нейтрализацией охраны под командованием А.Д. Авдеева, в связи с чем и произвели ее замену 4 июля.
Позднее стало известно, что автором «писем Русского офицера» являлся Комиссар снабжения Уральского совета П.Л. Войков, бывший участник боевой дружины РСДРП(б), организатор подготовки покушения в феврале 1907 года на Ялтинского градоначальника генерала свиты И.А. Думбадзе, учившийся в Парижском университете и некоторое время проживавший в Женеве (Швейцария). Перед отправкой письма переписывал начисто сотрудник УралЧК, бывший председатель Мотовилихинского Народного Суда И.И. Родзинский (выехавший из Перми вместе с Ф.Н. Лукояновым), так как у него «был лучше почерк»[55].
Итак, уже в это время у представителей Уральской власти имелся «технический» замысел, в котором просматривается использование «пермского опыта», но тогда реализовать его не смогли. Требовалось какое-то другое решение.
Достоверно известно, что Ф.И. Голощекин 4-10 июля находился в Москве, где проходил V Всероссийский Съезд Советов. На этом съезде предполагалось провести вопрос о принятии постановления о назначении суда над Николаем Романовым. Но положение на Уральском фронте не было прочным, можно было ожидать падения Екатеринбурга. И «вопрос о суде» решен был ВЦИКом (т.е. Я.М. Свердловым) без съезда. Официально Уральскому Совету предложено было готовить к концу июля особую сессию суда над Романовыми, что было вряд ли осуществимо в существующих условиях совместного наступления Сибирских и чехословацких войск.
В выверенной Истпартом книге П.М Быкова написано[56]: «По приезде из Москвы Голощекина, числа 12 июля было созвано собрание Областного Совета, на котором был заслушан доклад об отношении центральной власти к расстрелу Романовых. Областной совет признал, что суда, как это было намечено Москвой, организовать уже не удастся – фронт был слишком близок, а задержка с судом над Романовыми могла вызвать осложнения. Решено было запросить командующего фронтом о том сколько дней продержится Екатеринбург и каково положение фронта. Военное командование сделало в Областном Совете доклад, из которого видно было, что положение чрезвычайно плохое. Чехи уже обошли Екатеринбург с юга и ведут на него наступление с двух сторон. Силы Красной армии недостаточны, и падение города можно ждать через три дня. В связи с этим Областной Совет решил Романовых расстрелять, не ожидая суда над ними. Расстрел и уничтожение трупов предложено было произвести комендатуре охраны с помощью нескольких надежных рабочих-коммунистов. На предварительном совещании в Областном Совете был намечен порядок расстрела и способ уничтожения трупов».
Известно также, что «на 11 часов 30 минут петроградского времени» 13 июля был организован «прямой провод для правительственных экстренных переговоров председателя Всероссийского ЦИК т. Свердлова с т. Белобородовым»[57].
Содержание этих переговоров неизвестно.
Между тем в тот же день после 20-30 мск. В.И. Ленин подписывает декрет «О национализации имущества низложенного Российского Императора и членов бывшего Императорского Дома»[58]. То есть тема Романовых в этот день так или иначе обсуждалась на высшем уровне.
Таким образом, между Центром и Екатеринбургом шли постоянные консультации и обе стороны прекрасно владели ситуацией, однако Центр «вел игру», в которой «официальное» решение о расстреле должен был взять на себя Уралсовет.
1 февраля 1934 года на совещании старых большевиков Я.М. Юровский вспоминал[59]: «Политическая необходимость уничтожения всей семьи. (а не «зверская кровожадность», как это рисуют враги), была не всем понятна и не всеми понятна еще и теперь. Не только за границей, но и у нас. «Для чего дескать убивать семью, разве они виноваты, разве они опасны». Обыватель и обывательски настроенные люди именно так склонны рассуждать. Вот почему я считаю совершенно необходимым предупредить всех участников данного нарочито узко созванного собрания запомнить, что все это только для истории. И без ведома ЦК этот материал использован быть не может. И никому не по секрету, ни архисекрету, не рассказывать, а выйдя отсюда сейчас же забыть о нем. … (…) Так как этот акт был актом сугубой политической важности, то все дело было поручено пользовавшемуся особым доверием ЦК тов. Филиппу Голощекину, на которого была возложена ответственность за согласованное решение этого вопроса … (…) Ведь не случайно же с ликвидацией семьи, когда, где и как она ликвидирована нами нигде не сказано. Не говорим мы об этом еще и теперь… (…) Постольку, поскольку это являлось тогда вопросом большой политической важности и без разрешения центра не мог быть разрешен … (…) Связь и разговоры по этому вопросу с центром не прекращались.
Примерно, числа 10-го июля уже было решение на тот случай, что, если б оставление Екатеринбурга стало неизбежным. Ведь только этим и можно объяснить, что казнь без суда была дотянута до 16-го июля, а Екатеринбург был окончательно оставлен 25-26 июля …
Примерно того же 10-го, 11-го июля мне Филипп сказал, что Николая нужно будет ликвидировать, что к этому надо готовиться. …(…) Он мне сказал, – отдельные товарищи думают, чтоб провести это более надежно и бесшумно, надо проделать это ночью, прямо в постелях, когда они спят. Мне показалось это неудобным, и сказал, что мы подумаем, как это сделать и приготовимся.
15-го июля утром приехал Филипп, и сказал, что завтра надо дело ликвидировать. Поваренка Седнева (мальчик лет 13-ти) убрать и отправить его на бывшую родину или вообще в центр РСФСР. Также было сказано, что Николая мы казним и официально объявим, а что касается семьи, тут может быть будет объявлено, но как, когда и каким порядком, об этом пока никто не знает. Значит все требовало сугубой осторожности, возможно меньше людей, при чем абсолютно надежных. 15-го же я приступил к подготовке, т.к. надо было это сделать быстро».
В известной «Записке Юровского», о подлинности которой авторами подробно написано в статье «К полемике по «Записке Юровского»[60], комендант Дома особого назначения пишет: «16/VII была получена телефонограмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Романовых…»[61].
Можно утверждать, что эта телефонограмма была связана с военным прогнозом срока сдачи Екатеринбурга, ведь именно в Перми в это время находился командующий Северо-Урало-Сибирским фронтом.
В конце июня 1918 г. отряды и полки Северо-Урало-Сибирского фронта, действовавшие в Зауралье и на Среднем Урале, были сведены в три дивизии: Восточную, Среднюю и Западную. Войска, ранее действовавшие на Шадринском и Камышловском направлении, а затем ведшие бои под Ирбитом, на Егоршинском и Алапаевском направлениях образовали «Восточную» дивизию под командованием Г.И. Овчинникова. Части, прикрывавшие Екатеринбург с востока, и подразделения Тагильского направления вошли в состав «Средней» дивизии, которой командовал Р.П. Эйдеман. «Западная» дивизия, под командованием Н.А. Филимонова, затем Л.Я. Угрюмова, прикрывала Екатеринбургское направление с юго-запада и запада. 14 июля чехо-словаки под командованием полковника С.Н. Войцеховского перешли в наступление и нанесли поражение частям Западно-Уральского направления в районе Нязепетровского завода. На заседании Уральского областного Совета и руководства фронтом вечером 15 июля был принят ряд решений по эвакуации Екатеринбурга и выдвижении на фронт резервов. Чтобы ускорить поступление подкреплений, было решено послать в Петроград и Москву главкома Р.И. Берзина. 16 июля наркомвоен Л.Д. Троцкий сместил Р.И. Берзина с поста главкома за то, что тот без его разрешения «покинул фронт в критический момент». Главнокомандующим Северо-Урало-Сибирским фронтом был назначен Д.Н. Надежный. Но штаб фронта оказался разделен: Д.Н. Надежный находился в Перми. Там же находились и представители Центра, прибывшие с V-го Всероссийского Съезда Советов…
Между тем обнаружена телеграмма о том, что 16 июля в 11-40 мск. (в Екатеринбурге – 13-40) из Кремля запрашивают прямые переговоры по телеграфу с Екатеринбургом через Казань: «Срочно По все адресам Москва Казань Екатеринбург Стамех и Комтел Для срочных правительственных переговоров прошу предоставить Кремлю Екатеринбург Септемберг»[62].
Ф.И. Голощекин отдает приказ Юровскому готовиться, а сам, «страхуясь», в 14-10 (петроградского времени) отправляет телеграмму в Москву через Петроград[63], которую в тот же день в 17-50 Г.П. Зиновьев переправляет в Москву[64]: «Из Петрограда. Смольного. В Москву, Кремль, Свердлову, копия Ленину. Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: сообщите Москву, что условленного с Филипповым суда по военным обстоятельствам не терпит отлагательства. Ждать не можем. Если ваши мнения противоположны, сейчас же, вне всякой очереди сообщить. Голощекин, Сафаров.
Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом. Зиновьев».
Однако почему-то Московский телеграф в документе приема ставит время «21-22». Ответ на нее неизвестен…
Зато «Биохроника В.И. Ленина»[65] фиксирует прием В.И. Лениным в 12 часов следующего дня («Июль, 17. … (…) Ленин получает (в 12 час.) письмо из Екатеринбурга и пишет на конверте[66]: «Получил. Ленин») другой телеграммы[67]:
«Председателю Совнаркома тов. Ленину, Председателю ВЦИК тов. Свердлову. У аппарата Президиум Областного Совета рабоче-крестьянского правительства. Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия Чрезвычайной Комиссией большого белогвардейского заговора, имевшего целью похищение бывшего царя и его семьи. Документы в наших руках. По постановлению Президиума Областного Совета в ночь на шестнадцатое июля расстрелян Николай Романов. Семья его эвакуирована в надежное место. По этому поводу нами выпускается следующее извещение. Ввиду приближения контрреволюционных банд к красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда (раскрыт заговор белогвардейцев, пытавшихся похитить его, и найдены компрометирующие документы будут опубликованы) Президиум Областного Совета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русского народа. В ночь на 16 июля 1918 года приговор этот приведен в исполнение. Семья Романовых, содержится вместе с ним под стражей в интересах охраны общественной безопасности эвакуированы из города Екатеринбурга. Президиум областного Совета.
Просим ваших санкций редакции данного. Документы заговора высылаются срочно курьером Совнаркому и ЦК. Извещения ожидаем у аппарата. Просим дать ответ экстренно. Ждем у аппарата».
Однако в ходе следствия следователя по особо важным делам Омского Окружного суда Соколова Н.А. была обнаружена шифротелеграмма[68] от 17.02.1918 г., в которой в 21-00 А.Г. Белобородов докладывает секретарю СНК Н.П. Горбунову о ликвидации всей семьи: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу, официально семья погибнет при эвакуации»[69].
А центральная власть «делает вид», что ничего не знает. И только 18 июля публично рассматривает вопрос о расстреле лишь одного бывшего императора Николая II.
Отметим, что имеет место «двойная телеграфная бухгалтерия», из чего можно сделать вывод о наличии заинтересованности главы государства (Я.М. Свердлова) и главы правительства (В.И. Ленина) в результате вынужденных целенаправленных действий Уралсовета по ликвидации всей «Царской семьи». А именно:
– бывшего императора Николая II и его жены Александры Федоровны, как «символов контрреволюции»;
– Цесаревича Алексея, как легитимного Императора Алексея II (о чем было известно лишь малому кругу лиц, достоверно знавших о гибели Михаила II);
– его сестер, как потенциальных наследниц Престола, ибо согласно ст. 30 Главы 2 «О порядке наследия Престола»[70]: «Когда пресечется последнее мужеское поколение сыновей Императора, наследство остается в сем же роде, но в женском поколении последне-царствовавшего, как в ближайшем к Престолу…»
Гибель «алапаевских узников»
Среди «алапаевских узников» не было ближайших претендентов на Престол, они интересовали Центр лишь, поскольку входили в «Дом Романовых», но судьба их была предрешена уже состоявшимся фактом убийства Императора Михаила II – уральская власть стала готовой выполнить волю центра, а алапаевские революционеры хотели проявить и показать себя в «деле защиты революции».
Развитие событий показывает, что в Алапаевске представители местной власти адекватно реагировали на указания вышестоящих органов, не искали в них скрытой подоплеки, просто выполняли порученное дело по охране и надзору за Романовыми. По прибытии, ссыльных разместили в «Напольной школе» на окраине города. Надзор за ними был возложен на Алапаевские Совет рабочих и крестьянских депутатов и Чрезвычайную следственную комиссию. Первое время пребывания режим был относительно свободным. Всем высланным выдали удостоверения личности с правом передвижения «только по Алапаевску», для выхода из здания было достаточно уведомить разводящего караула. Было разрешено: вести переписку, посещать церковь, гулять по городу и в поле возле школы. Елизавета Федоровна много молилась, рисовала и вышивала. Рядом со зданием узниками был разбит небольшой огород, где они иногда пили чай на свежем воздухе.
До 18 июня вместе с Князем Иоанном Константиновичем в Алапаевске проживала и его жена Княгиня Елена Петровна (Принцесса Сербская), затем выехавшая в Петроград к детям.
Для получения документов на проезд она задержалась в Екатеринбурге, где была арестована 7 июля 1918 года под предлогом незаконных попыток установить связь с «Царской семьей». После чего ее вместе с секретарем С.Н. Смирновым и членами Сербской военной миссии препроводили в Пермскую Губернскую тюрьму.
Между тем в Алапаевске высланные продолжали оставаться под контролем Уралсовета. А.Г. Белобородов, прекрасно зная об истинных обстоятельствах «бегства Михаила Романова» в Перми, с 21 июня дает команду об ужесточении режима содержания «алапаевских узников». Вопрос этот, вероятно, бы согласован с «центром», т.к. 22-го в Москву уходит телеграмма следующего содержания[71]: «3 адреса: Москва, Чрезвычайная Комиссия, Дзержинскому. Совнарком, Бонч-Бруевичу. Председателю ЦИК Свердлову.
Екатеринбурга Елизавета Федоровна переведена Алапаевск. После побега Михаила Романова Алапаевске нашим распоряжением отношению всех содержащихся лиц Романовского дома введен тюремный режим.
Предоблсовета Белобородов».
В ответ на ужесточение режима Великий князь Сергей Михайлович посылает телеграмму на имя председателя Областного Совета с ходатайством о снятии ареста. Ответ гласил[72]: «Алапаевск. Совдеп.
Прислугу ваше усмотрение. Выезд никому без разрешения. Москву Дзержинского Петроград Урицкого Екатеринбург Облсовета. Объявите Сергею Романову что заключение является предупредительной мерой против побега виду исчезновения Михаила Перми. Белобородов».
Учитывая то, что в эти же дни в Екатеринбурге в Доме особого назначения ввели послабления, и к «Царской семье» стали поступать провокационные «письма офицера», с высокой долей достоверности можно утверждать, что решение об уничтожении Романовых на высшем уровне уже состоялось, но до Алапаевска еще «не дошли руки» …
После приезда Ф.И. Голощекина из Москвы, если опираться на слова П.М. Быкова о том, что «12 июля было созвано собрание Областного Совета, на котором был заслушан доклад об отношении центральной власти к расстрелу Романовых. Областной совет признал, что суда, как это было намечено Москвой, организовать уже не удастся»[73], то можно утверждать, что тогда же должно было быть принято решение и о судьбе Великих князей и Князей Императорской крови, находившихся в Алапаевске.
Отметим, что дорога между Екатеринбургом и Алапаевском (150 км) «на перекладных» занимала 1-1,5 дня, то представители Алапаевского Совдепа могли вернуться домой не ранее 15-го числа.
Задание о подготовке места сокрытия трупов председатель Верхне-Синячихинского Совдепа Е.Л. Середкин получил 16 июля[74]: «В июле месяце, когда чехо-славаки стали давить, с ними покончили, чтобы не поднимать шума, а в Алапаевске публика набожная, многие старушки подарки приносили, решили мы делать втихомолку.
Вызвали меня вечерком и говорят:
– Тебе задание, приготовь шахту, раскрой, а завтра приезжай с кем-нибудь, двух лошадей надо от тебя, повезем князей.
Ребята собрались: Черепанов, Гришкин, Элькин, пошли раскрывать эту шахту. Получилось так, что гам бугорок небольшой, но копали, копали, а там настолько отступлено, и там сделаны палаты на полтора аршина наверх земли.
Я звоню в Алапаевск.
– Я не выполнил боевое задание.
– Давай, ничего не знаем, сегодня приезжают, чтобы шахта была приготовлена привести князей.
Мы раскрыли известную часть, я сказал, где поставить охрану. Приехали туда в 11 часов, там все в сборе, мне посадили князя Сергея Михайловича…».
Утром 17 июля красноармейский караул в «Напольной школе» заменяют «партийным». По распоряжению председателя Совдепа Г.П. Абрамова у князей отбирают оставшиеся личные вещи и деньги. Ближе к вечеру по телефону звонит председатель Делового совета А.А. Смольников и объявляет арестованным, что их переводят из Алапаевска в Верхне-Синячихинский завод и они должны немедленно собираться в дорогу. К зданию прибывают конные повозки и сопровождение …
После казни, вернувшись в город, убийцы в 3 часа ночи 18 июля устраивают инсценировку «побега князей»: возле «Напольной школы» началась стрельба, раздались взрывы гранат, был поднят по тревоге красноармейский отряд.
Его выдвинули к месту происшествия, где бойцы рассыпались в цепь и залегли. В цепи красноармейцы пролежали полчаса, стрельбы не производили, никакого врага не видели. Вместо белогвардейцев их встретили на крыльце школы комиссар А.А. Смольников и судья В.П. Постников, который с большой книгой в руках «наводил следствие» о побеге.
Председатель Совдепа Г.П. Абрамов в это время уже отправлял телеграмму в Екатеринбург[75]: «Военная Екатеринбург. Уралуправление 18 июля утром 2 часа банда неизвестных вооруженных людей напала напольную школу где помещались Великие князья. Во время перестрелки один бандит убит и видимо есть раненые Князьям с прислугой удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев бандиты бежали по направлению к лесу. Задержать не удалось Розыски продолжаются.
Алапаевский Исполком. Абрамов Перминов Останин».
Днем объявления о «похищении князей» были расклеены по всему городу.
В 2019 году переводчиком С.Ю. Нечаевым на русском языке были напечатаны избранные главы из прижизненного французского издания книги Н.А. Соколова «Расследование убийства Российской Императорской семьи», вышедшей в 1924 г. в Париже. Среди прочего про «алапаевский эпизод» там было написано[76]: «Из всех людей, подозреваемых в участии в убийстве, удалось поймать Петра Константиновича Старцева, Ефима Андреевича Соловьева и Ивана Павловича Абрамова. Первых двух допрашивал Сергеев 28 декабря 1918 года в Алапаевске, а последнего — я, 18 апреля 1919 года в Екатеринбурге. Они показали, что в ночь с 17 на 18 июля жертв отвезли в телегах в направлении на Синячиху и столкнули живыми в шахту рудника, за исключением Сергея Михайловича, которого предварительно застрелили из револьвера. По словам Старцева, преступление было совершено по приказу Уральского облсовета. Для его организации из Екатеринбурга прибыл Сафаров.
Алексею Смольникову прислуживала крестьянка Александра Алексеевна Коптелева. Она показала Мальшикову, что 17 июля Ефим Андреевич Соловьев находился у Смольникова. 18-го состоялся ужин, на котором вместе с Постниковым, Говыриным и другими алапаевскими большевиками присутствовали два неизвестных, прибывших из Екатеринбурга. По описанию, один из них похож на Сафарова. Из вышеизложенного неопровержимо следует, что алапаевцы совершили убийство по приказу из Екатеринбурга, который, в свою очередь, лишь исполнял план Москвы».
Действительно, в материалах дела, находящегося в Государственном архиве Российской Федерации, написано[77]: «1918 года, Декабря 11 дня, старший милиционер Алапаевской милиции Мальшиков, совместно с таковым же Суетиным и вследствии личного поручения, Члена Екатеринбургского Окружного Суда, Сергеева производил дознание, по делу Великих Князей, казненных в ночь с 17 на 18 июля с/г., советскими властями и будучи извлеченными из каменноугольной шахты 8, 9, 10 и 11 октября сего же года спрашивали следующих лиц, которые показали:
… (…) Гр-ка Коптеловской[78] волости и села Александра Алексеевна Коптелова 17 л.-, проживающая в месте приписки, что она когда были увезены В. Князья, находилась в услужении у Алексея Александрова Смольникова и 17 июля около обеда к Смольникову приезжал Ефим Соловьев, который был в простой деревенской сермяге и говорил Смольникову, что я сегодня от дежурил, а Вам заступать на дежурство, но куда и где дежурить ей не было известно. Смольников действительно после обеда со своей племянницей Раисией Постниковой без кучера ездили на запреженной в коробок лошади и вернулись уже начало темнеть, Смольников не зашел в квартиру, куда-то уехал, а Раисия Постникова придя в квартиру и говорила, что ездили к Красному мосту. Смольников же вернулся домой на второй день 18 июля часов в 8 утра, выпил один стакан молока, сильно волновался и вышел из дому и до обеда домой не приходил, а к обеду кроме Смольникова пришли: брат его Сергей Смольников, Николай Семенов Ермаков, Василий Петров Постников, Николай Павлов Говырин и еще двое незнакомые ей личности, про которых говорили, что они из Екатеринбурга высокого роста черноватые, с одними усами без бород, она, Коптелова, никакого разговора по делу Князей ни от кого не слыхала, кроме того что будто бы в ту ночь Великих Князей украли и вскоре после этого Смольников перевез ночью свое имущество к Сергею Николаеву Четвергову, а она после этого получила расчет и ушла от Смольникова и более по делу ничего показать не может».
Председатель Алапаевского Делового Совета А.А. Смольников и комиссар юстиции Алапаевского Совета Рабочих и Солдатских депутатов Е.А. Соловьев являлись известными в губернии большевиками и в 1917 году проходили по единому списку 27-ми большевиков от Пермской губернии как кандидаты в Учредительное собрание вместе с А.Г. Белобородовым, Ф.И. Голощекиным, Н.Г. Толмачевым, Г.И. Сафаровым, А.Л. Борчаниновым, В.И. Решетниковым, П.В. Войковым и др. Председатель Алапаевской Чрезвычайной Следственной комиссии Г.П. Говырин в 1917-м работал в Лысьве и по партийной линии являлся прямой связью А.Г. Белобородова, В.А. Иванченко и др.
Примечательно, что политкомиссар Северо-Урало-Сибирского фронта Н.Г. Толмачев – участник февральского переворота, член Петербургского комитета большевиков, один из руководителей захвата Петропавловской крепости, в мае 1917 года – товарищ председателя Пермского Окружного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, работает вместе с Ф.И. Голощекиным, В.И. Решетниковым, А.Л. Борчаниновым и А.П. Спундэ, организует газету «Пролетарское знамя», в 1917-м в Алапаевске формировал красногвардейский отряд, с которым выехал на Дутовский фронт, а 9 мая 1918 года (до назначения политкомиссаром фронта) был назначен комендантом Дома особого назначения, в котором содержалась семья Романовых.
Кроме того, в своих воспоминаниях в 1933 году алапаевские ветераны партии вспомнили, что в июле 1918-го для организации «партизанской» деятельности в тылу Сибирской армии и формирования пополнения фронта действительно приезжали Н.Г. Толмачев и Г.И. Сафаров. Об этом сообщали:
– председатель Верхне-Синячихинского Совдепа Е.Л. Середкин: «В июле м-це приехал к нам Толмачев и С… Тут провели революционную мобилизацию, после того было много скандалов, товарищи приехали, поговорили на митинге и уехали»[79];
– зам. председателя Алапаевского Исполкома, член Учредительного собрания от Пермской губернии Ф.Г. Кабаков: «И вот к такому моменту, когда Свердловск уже пал, когда в Алапаевск приехал товарищ Толмачев и Сафаров, было такое положение, что с заводом нужно было кончать, потому что фронт приближался»[80].
Следовательно, весьма вероятно прибытие в Алапаевск 17-18-го июля и.о. председателя Уральской парторганизации Г.И. Сафарова и политкомиссара Северо-Урало-Сибирского фронта с несколькими задачами, одной из которых мог быть контроль за исполнением решения партии в отношении членов Дома Романовых. Учитывая функциональную должностную принадлежность руководителей, постановка задачи должна была пройти по «партийной линии».
В автобиографии председателя Верхне-Синячихинского Совдепа Е.Л. Середкина написано[81]: «В первых числах июля (по старому ст.– авт.) Алапаевским Президиумом К. Партии и ответственными работниками было постановлено ликвидировать находившихся там князей. Тем же вечером вызвали меня и поручили раскрыть каменноугольную шахту, находящуюся в трех верстах от нашего завода, поручив взять только вполне надежных ребят».
Однако историки решение «списали» на другой орган власти – Алапаевский Совет рабочих и крестьянских депутатов, который будто бы «принимал его самостоятельно» …
Расстрел Великих князей в Петрограде в январе 1919-го
Расстрел Великих князей Павла Александровича, Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича и Георгия Михайловича в январе 1919-го года в г. Петрограда в отличие от описанных выше событий ликвидации членов Дома Романовых на Урале носил официальный характер.
Великие князья были расстреляны «как заложники», в категорию которых официально попали в сентябре 1918 года после начала «красного террора», введенного как ответ на убийство М.С. Урицкого и покушения на В.И. Ленина[82], по официальному Постановлению Президиума ПетроЧК, утвержденному Протоколом заседания Президиума ВЧК от 9 января 1919 года[83]: «8).Об утверждении высшей меры наказания чл. быв. императорск.- Романовск. своры. 8). Приговор ВЧК к лицам быв. имп. своры – утвердить, сообщив об этом в ЦИК».
Известно, что ВЦИК не стал рассматривать, а значит отменять приговор ВЧК, который был исполнен 24-25 января на территории Петропавловской крепости.
В связи с этим «петроградский эпизод» выходит за рамки нашего рассмотрения.
Заключение
Обобщая вышесказанное, сделаем вывод о наличии причин убийства членов Дома Романовых на Урале в 1918 году, основанных на существовании непротиворечивого объективного мотива руководителей молодого Советского государства, заключающегося в организации защиты политической власти в государстве, а также своей личной власти, с умыслом на устранение легитимных претендентов на государственную власть, юридическое право которых возникло в связи с неисполнением Акта от 3 марта 1917-го года и распространялось на управление «в пределах всего Государства Российского» в силу продолжения действия Основных Государственных Законов Российской Империи и международного права.
При этом действительными практическими целями умысла на преступление являлось тайное физическое уничтожение лиц, реально обладающих этим правом: законного Императора Михаила II (Михаила Александровича Романова) и его правопреемника – Цесаревича Алексея, с 13 июня 1918 года «Императора Алексея II» (Алексея Николаевича Романова).
Именно поэтому первым был убит Михаил Александрович Романов, а затем вся семья бывшего императора Николая II.
Вторичными, маскирующими истинные цели преступления, был умысел на физическое устранение «непопулярных в народе» бывшего императора Николая II (Николая Александровича Романова) и его жены Александры Федоровны, а также иных представителей Дома Романовых и лиц из их окружения, основанный на политических, идеологических мотивах и мотивах социальной ненависти и вражды к бывшему правящему классу, сформировавшихся в российском обществе в ходе «февральской» революции 1917-го и последующих событий.
Выдвижение на первый план вторичных мотивов, маскирующих истинные цели указанных преступлений, является закономерным, так как: во-первых, именно ими в основном руководствовались «технические» исполнители преступлений; во-вторых, руководящая роль центра была скрыта за счет вынужденных действий, связанных с официальным объявлением заведомо ложных сведений о решении и действиях местного уровня власти.
Не представляется возможным найти объективное криминологическое и историко-архивное подтверждение наличия умысла руководителей Советской республики в убийстве членов Дома Романовых по «ритуальным», «религиозным», «немецким», «сионистским» и иным прочим причинам, описываемым разными исследователями, пытающимися переложить ответственность за последствия, наступившие из-за арестов семьи бывшего императора Николая II и членов Дома Романовых в 1917-м году, а также бездействия политических лиц и сообществ, позднее декларировавших монархические взгляды и преданность самодержавию, но своевременно не предпринявших ничего для организации освобождения сосланных и арестованных, за исключением отдельных личных друзей, приближенных Романовых и местных обывателей.
Авторы не претендуют на абсолютную правоту своих выводов, но полагают, что подобный подход должен быть исследован в рамках действующего предварительного следствия по убийству членов Дома Романовых в 1918-м году, тянущегося уже более трех десятков лет.
«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк. 8:17)…
Людмила Анатольевна Лыкова, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории. г. Москва
Александр Борисович Мощанский, полковник полиции в отставке, член Межведомственной рабочей группы по поискам при Агентстве по делам архивов Пермского края (2016-2019), член Пермского филиала СКК и Пермского отделения РСПЛ
[1] Хрусталев В.М. Предисловие к Разделу III. Дорога на Голгофу / Пермская Голгофа Михаила II. Сборник документов о последнем периоде жизни и убийстве в г. Перми Великого Князя Михаила Александровича в 2-х томах. Т. 1. – Пермь: Пушка. 2018.С. 227-228.
[2] Вильтон Р. Последние дни Романовых / Сост., предисл., коммент. доктора ист. наук В.П. Семьянинова. – М.: Книга. 1991. С. с.376-377
[3] Лыкова Л.А., Мощанский А.Б. Михаил Романов – заложник императорского статуса. / Русская народная линия. 04.12.2023.
[4] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Том 3. – Берлин: Слово. 1924.С.77, 86, 88.
[5] Серафимов В.В. Великий князь Михаил Александрович, последний император. Тайна участи. Опыт исторической реконструкции / В. В. Серафимов. – СПб.: Алетейя. 2023. С.291-293.
[7] Зубов В.П. Страдные годы России: Воспоминания о революции (1917–1925). — М.: Индрик, 2004, гл. 1.
[8] Из писем В.Р. Генинга автору от 20 и 27.03.2017. Информация о беседе про отречение имеется также в кн. Пирожков С.Ю. Краснокамск. Старина молодого города. – Пермь: Пушка.2016. С. 121-122.
[9] Зубов В.П. Страдные годы России: Воспоминания о революции (1917–1925). — М.: Индрик, 2004, гл. 1.
[10] Хрусталев В.М. Романовы. Последние дни Великой династии. — М.: АСТ. 2013. С.33.
[11] ГАРФ. Ф.P-130. Оп.23. Д.10. Л.1–2.
[12] ЦГАОР и СС. Ф.2421. Оп.1. Д.3. Л.28, 30об.
[13] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.4. Л.1–1об.
[14] ЦГАОР и СС. Ф.2421. Оп.1. Д.3. Л.30об.
[15] Быков П.М. Последние дни Романовых. — Свердловск: Уралкнига. 1926. С.89-90.
[16] ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.2. Д.1. Л.135
[17] РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.5458. Л.1.
[18] Красная газета (Петроград). 26 марта 1918 года.
[19] Мощанский А.Б. По следам пермского злодеяния. Анализ документов Истпарта по вопросу похищения М.А. Романова. – Пермь: Тираж. 2022. С.35-36.
[20] Мясников Г.И. «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова» / публ. Б.И. Беленкина и В.К. Виноградова // «Минувшее: Исторический альманах». — [Вып.] 18. — М.: Atheneum; СПб.: Феникс.1995.С. 47-49.
[21] Ленин В.И. Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов. 22 октября 1918 г. / ПСС. Т. 37. – М.: Политическая литература. 1979. С.122-123.
[22] Архивная коллекция В.С. Колбаса (г. Пермь). Д.39. Л.30.
[23] Лыкова Л.А., Мощанский А.Б. «Похищение» и убийство императора Михаила II. Пермь. Март – июнь, 1918 год / Русская народная линия. 19.12.2023.
[24] Там же.
[25] ГАРФ. Ф. 1837. Оп.4. Д.4. Л.19–23 об.
[26] Аборкин В. и др. Слово о Мотовилихе. Годы. События. Люди. – Пермь: ПКИ. 1974. С.337.
[27] Путятина Н.П. Отречение Великого князя Михаила Александровича /пер. с англ. и прим. И.Е. Путятина/ Что произошло на самом деле в квартире князей Путятиных? Ассоциация Дворянских Родов. 17.11.2022/.
[28] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.17. Л.120.
[29] Протопопов Н.А. По Закамским лесам. / Белые подпольщики партизаны Прикамья. (Книга полковника Н.А. Протопопова «По Закамским лесам» / Иднакар: методы историко-культурной реконструкции [Текст]: научно-практический журнал. №4 (21) – 2014. С.7-8.
[30] Лыкова Л.А., Мощанский А.Б. «Похищение» и убийство императора Михаила II/ РНЛ. 19.12.2023.
[31] Только по документам, имеющимся в РГАСПИ в Ф.588.
[32] ГАРФ. Ф.1837. Оп.4. Д.4. Л.8–9.
[33] Ленин В.И. Военная переписка 1917–1920. — М.: Огиз-Госполитиздат, 1943, с. 23-24
[34] ГАПК. Ф.р-714. Оп.1. Д.844. Л.9.
[35] ПГАСПИ. Ф.90. Оп.4. Д.842. Л.1, 5.
[36] ПГАСПИ. Ф.90. Оп.2М. Д.22. Л.57–59.
[37] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.17, Л.125-195.
[38] ПГАСПИ. Ф.90. Оп.2Т. Д.16. Л.19.
[39] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.8. Л.181-182.
[40] ПГАСПИ. Ф.90. Оп.2М. Д.1. Л.11-18.
[41] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.17.
[42] ГА РФ Ф.р-9440. Оп.1. Д.2. Л.70-70об.
[43] Ган А. Пермское злодеяние. Неопубликованные материалы об убийстве в. кн. Михаила Александровича / Газ. «Возрождение». Париж, 1932. №2427, 24 января, с. 2.
[44] Возможно, в закрытых архивах и за рубежом имеются и другие свидетельства.
[45] Известия Пермского Окружного Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов. №112, 15 июня 1918 г., с.4.
[46] Там же.
[47] ПГАСПИ. Ф.90. Оп.2Т. Д.16. Л.19.
[48] Мощанский А.Б. Похищение Михаила Романова. – Пермь: Кунгурская типография, 2022, с.21-24.
[49] Известия Пермского Окружного Исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов. № 117. 21 июня 1918 г. С.4
[50] Мясников Г.И. «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова» / публ. Б.И. Беленкина и В.К. Виноградова // «Минувшее: Исторический альманах». — [Вып.] 18. — М.: Atheneum; СПб.: Феникс. 1995. С.119.
[51] Свод Законов Российской Империи. Книга 1. Томы 1-3. – СПб.: Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. С.4.
[52] ГА РФ. Ф.1837. Оп.2. Д.3. Л.215-216.
[53] ГА РФ. Ф.601. Оп.2. Д.27. Л.24.
[54] ГА РФ. Ф.601. Оп.2. Д.27. Л.23.
[55] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д. 14. Л.1–48.
[56] Быков П.М. Последние дни Романовых. — Свердловск: Уралкнига, 1926, с.114.
[57] ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.2. Д.787. Л.13.
[58] Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР / [отв. ред. И.А. Басавин; сост. А.В. Белоруссов и др.]. - М.: Л. : Юрид. изд-во. 1949. В 6 т. Т. 1 : 1917-1927 гг. – 1949. С.45-46.
[59] ЦДООСО. Ф.41. Оп.1. Д.150. Л.2-3, 10-10об.
[60] Лыкова Л.А., Мощанский А.Б. К полемике по «Записке Юровского» / Русская народная линия. 20.10. 2022.
[61] РГАСПИ. Ф.588. Оп.3. Д.9. Л.1.
[62] ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.1. Д.787. Л.14.
[63] ЦГА СПб. Ф.143. Оп.1. Д.84. Л.89.
[64] ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.2. Д.653. Л.12.
[65] Ленин: революционер, мыслитель, человек. Биохроника Ленина. Том V (октябрь 1917г. - июль 1918г.).
[66] РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.6623. Л.1.
[67] ГА РФ. Ф.601. Оп.2. Д.27. Л.8-9, 10-13.
[68] ГА РФ. Ф.1837. Оп.1. Д.51. Л.1.
[69] Соколов Н.А. Убийство царской семьи. – М.: Сирин. 1990. С. 310.
[70] Свод Законов Российской Империи. Книга 1. Томы 1-3. – С.-П.: Русское книжное товарищество «Деятель». 1912. С.2.
[71] ГА РФ. Ф.Р-130. Оп.2. Д.1109. Л.35.
[72] ГА РФ. Ф.1837. Оп.2. Д.7. Л.49.
[73] Быков П.М. Последние дни Романовых. — Свердловск: Уралкнига. 1926. С.114.
[74] ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.26. Л.14-15.
[75] ГА РФ. Ф.1837. Оп.4. Д.3. Л.68.
[76] Соколов Н.А. Расследование убийства Российской Императорской семьи. Избранные главы. / Пер. с фр. С.Ю. Нечаев. Под ред. М.И. Вебер. – Екатеринбург: Державное наследие, 2019. Глава XXV. § 1.Чтобы полностью понять смысл убийства в Екатеринбурге, нужно знать и об убийствах, совершенных в Алапаевске и Перми. / Биб-ка электронной лит-ры.
[77] ГА РФ. Ф.1837. Оп.4. Д.3. Л.140-147.
[78] Правильно – Коптяковской.
[79] ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.26. Л.16.
[80] ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.26. Л.70-71.
[81] ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.178. Л.89.
[82] Список заложников в газ. «Северная Коммуна». 6 сентября 1918 г. и др.
[83] Протокол заседания Президиума от 9 января / Архив ВЧК: Сборник документов / Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров; сост.: В. Виноградов, Н. Перемышленникова. — М.: Кучково поле, 2007, с.319 со ссылкой на ЦА ФСБ РФ. Ф.1 осн. Оп.3. Д.7. Л.6-7.










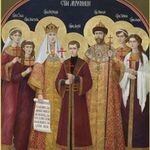








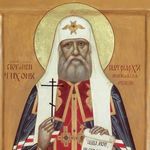




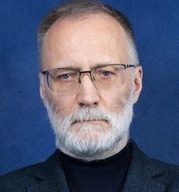




3. kuzanez
2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
1. Этим потоком слов правды не затуманить!
Нет никакого законного преемства между монархией Русской Империи и Временным правительством, между временным правительством и Советами.
И поросенковские останки - не мощи святых Царственных Мученников.
Авторы статьи своими многообразными текстами продолжают отрабатывать "повестку", но правда давно уже выяснена, и мутными псевдо-историческими текстами ее не скрыть.