
Три десятилетия отдал Андрей Вадимович Грунтовский созданию «Театра народной драмы» (Санкт-Петербург). Это не просто театр с оригинальным лицом и национальным репертуаром (половина, примерно - это классика, а другая половина - пьесы самого Андрея Вадимовича о русских людях: Пушкине, Достоевском, Шукшине, Рубцове, Высоцком, Маяковском...) Нет, тут нечто большее - сознание национальной театральной системы, основанной на традициях аутентичного фольклорного театра и, вместе с тем, театра церковного, сложившегося еще в средневековье...Традиционная система оказалась системой синтетической - она гораздо шире деления на условный и психологический театр... Тут, на этом пути было много открытий... О чем Андрей Грунтовский писал в своей книге-исследовании «Русский театр» выходившей уже трижды (2002, 2012, 2013 гг.) Здесь мы приводим несколько статей о театре, помещенных недавно в печати...
Рождение спектакля
«Идете в театр... и умрите в нём, если можете....» Эта фраза классика сопровождает меня сквозь десятилетия. Я услышал ее на репетиции «Старшей сестры» Александра Володина, когда, - страшно подумать! - сколько лет назад переступил порог театра «Четыре окошка». Репетировали сцену экзамена, где толпа абитуриентов (таков был режиссерский прием моего в ту пору ещё будущего учителя Льва Яковлевича Шварца) хором произносила этот текст из статьи Белинского... Вскоре я переместился из студии в театр и уже играл роль Кирилла в этой пьесе... Очень хорошо помню и живого классика - автора пьесы в нашем зрительном зале и на обсуждениях после...
И вот прошло столько лет... Спектакль рождается не просто - у него много родителей - драматург, режиссер, команда актеров... и если захворал хоть кто-то - то может и не родиться.
А умирают спектакли быстро. Как говаривал булгаковский персонаж: «Человек смертен и смертен внезапно...». Так и спектакли. Конечно, будем оптимистами, и на реплику пессимиста: «Ну-у, хуже уже не будет!» - ответим: «Будет, будет!» Но всё же, еще одну из ступеней «умирания» в театре мы пережили - прожили и этот сезон. Сезон без помещения, без площадки.
Репетиции наши разворачивались в пожарной части - место идеальное для «погорелого театра» - поклон отцу Георгию, бывшему пожарному - уступившему нам учебный класс пожарки на Лесном проспекте. Знаете, это вдохновляет, - репетируешь и вдруг в динамики над головой: «Цистерна на выезд...» и дальше адрес и люди пробегают по коридору, ревёт мотор и наши добрые хозяева едут кого-то спасать. Ведь в такой обстановке как-то репетировать вполсилы совестно. Здесь и рождался наш «Достоевский». Сперва, конечно, где-то в моей голове... вернее, - в сердце. Потом на письменном столе, а потом уж и в пожарке.
Премьера была еще в лавре, в Святодуховском зале... В зале, где его отпевали в 1881 году и где буквально в ста шагах он и похоронен... Осенью мы доработали спектакль и началась наша странная жизнь... Попробовали на известных сценах... Малая сцена ТЮЗа, потом сцена Комиссаржевки... ТЮЗ - опять-таки связан с Фёдором Михайловичем кровным образом. Здание советского нашего ТЮЗа, театра нашего детства, стоит на Семеновском плацу, примерно на том месте, где казнили Достоевского и петрашевцев (эта сцена есть в нашем спектакле). Но сотрудничество с профессиональными театрами оказалось убыточным... - они настроены не приютить, а выжать из арендатора всё, что можно... И нас приютили друзья и фестивали. В эту зиму спектакль был показан на трех фестивалях: в Старой Руссе на фестивале Ф. М. Достоевского (и этот удивительный город, как-то воздухом своим, своей, как будто, остановившейся историей, тоже вошел в ткань нашего спектакля. Чего стоила одна ночная поездка в Руссу...) Затем мы показали постановку на фестивале современной драматургии в театре «Под самой крышей» по дружественному приглашению Владимира Павловича Фунтусова и, наконец, на Пасхальном фестивале на сцене «Странника» у гостеприимного Владимира Николаевича Уварова. В ту зиму Союз писателей отметил мою пьесу премией в номинации драматургия за 2017 год.

Играли мы в этот сезон и прежние наши спектакли: «Пугачев», «Ах, ты воля, моя воля...», «Три рассказа про любовь», «Душа есть», «Король Лир», «Чудный сон» и другие... Все их пришлось собирать заново, со многими вводами - по сути они были почти все «пожарными» премьерами и даже более, чем премьерами и потому 2018-й впервые за многие годы не стал для нас годом новой премьеры. Это ничего. Главное, что устояли... Правда, не во всем, - «Бориса Годунова», Абрамова, Лялина... мы так и не смогли осилить - это труд на будущий сезон. Ну, что ж, наше дело пожарников-оптимистов верное: «Делай, что можешь, а там будь, что будет». Удивительное это дело - рождение спектакля. Может быть, я когда-нибудь напишу и такую пьесу и назову её - «Цистерна, на выезд!»
Андрей Грунтовский
***
Валентин Семёнов
«Всех вас заключу в моё сердце»
Премьера пьесы Андрея Грунтовского «Всех вас заключу в моё сердце» (ближайший спектакль состоится 17 ноября в 19:00 на сцене театра «Странник»: СПб, Цветочная, 16. - Ред. РНЛ), где автор выступил и в качестве режиссера, и в главной роли, состоялась 8 февраля 2017 года в концертном зале Александро-Невской Лавры. Эта постановка имела какой-то особый смысл в контексте нашего времени, когда сбываются многие прозрения Федора Михайловича, а нравственная атмосфера современной жизни напоминает состояние России в период после отмены крепостного права и реформ в 60-70-х годах девятнадцатого века. Та же погоня за деньгами, потеря исконных русских идеалов, развращение нравов, вопиющее неравенство, пьянство и самоубийства. Всё это Достоевский показал в своих романах. Правда, великий писатель, наверное, не мог представить, что дело дойдет до кошмарных постмодернистских постановок и экранизаций его собственных произведений и даже до использования его имени в рекламе.
Постановка режиссера соответствовала идейно-ценностным устремлениям петербургского гения. Сложная структура и переплетение биографических реалий жизни Достоевского и судеб созданных им персонажей, их динамика, подача актерами увлекли зрителей. Воистину, всех своих героев писатель творил и заключал в своё сердце, что и играли Андрей Грунтовский и актеры (его ученики). Эпизоды жизни Федора Михайловича и Анны Григорьевны, сцены, диалоги и монологи из «Бедных людей», «Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Идиота», «Кроткой», «Братьев Карамазовых», «Пушкинской речи», суждения и комментарии писателей и критиков-современников Достоевского, стихотворные строки Тютчева и Некрасова...

Всё это превращалось в настоящее драматическое действо, творимое всего лишь пятью актерами в одном пространстве, как бы на трех площадках, то высвечиваемых, то уходящих на второй план, в тень. По замыслу Андрея Вадимовича, Достоевский входит в жизнь своих героев, даже проигрывает, проверяет в их образах возможные греховные варианты своей собственной жизни (например, героя «Кроткой» или Свидригайлова), а герои входят в его судьбу. И в целом, воистину, получается, как это назвал автор, «поэтическое жизнеописание Ф.М. Достоевского».
И вот жизнь Достоевского заканчивается. Звучат прощальные слова Алеши Карамазова - этого, пожалуй, самого положительного, идеального героя, созданного писателем... В общем, спектакль удался. Раздались дружные, искренние аплодисменты и восклицания «Браво!». Следует сказать, что все артисты очень органично подходили для своих ролей, а их у каждого было по нескольку, и они умело перевоплощались. Вот они: Андрей Грунтовский (Достоевский, Свидригайлов и ростовщик), Владимир Матросов (Мармеладов, Белинский. Герцен и др.) и совсем молодые: Катерина Семёнова (Анна Григорьевна), Мария Гуреева (Сонечка Мармеладова, Дунечка и др.), Алексей Бухалов (Раскольников, князь Мышкин, Подросток и др.). Замечательно сработали молодые актрисы, - Мария (которая ещё и прекрасно пела) и Катерина (которая просто воплотилась в настоящую супругу Достоевского). Хочется от души поздравить всех исполнителей, а также сценографа и всех причастных к постановке. И, прежде всего Андрея Грунтовского - сценариста, режиссера, актера, который сделал нам, зрителям удивительный подарок.
Валентин Евгеньевич Семенов, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России
Татьяна Кожурина
Заметки о театре
«Король Лир» в стенах лавры
Десятого февраля 2016 года - на сцене Свято-Духовского центра был показан спектакль «Король Лир». Спектакль полон движения, ярких эмоций - это целый калейдоскоп персонажей! Театром Народной Драмы поставлено, как минимум, три таких «многолюдных» спектакля: «Пугачев», «Борис Годунов» и «Король Лир», где задействовано более пятнадцати человек. В целом, для театра более свойственны спектакли, скорее, камерного типа - более статичные, с небольшим количеством актеров (есть и моноспектакли). В гастрольных поездках по городам и весям актёров встречают переполненные залы, ждущие встречи с высоким столичным искусством, - здесь же, в Петербурге, за высокими крепостными стенами мужского монастыря, собрать полный зал несравненно труднее, но тот зритель, что пришел, - это особый, благодатный зритель.
Особой зловещей тенью постоянно нависает в спектакле тема войны - возвращающая и в наше тревожное время... Тема ужаса разъединения сил - перед лицом врага... Между прочим, именно в связи с нахождением сейчас одного из ведущих актёров театра - Романа Тихомирова в гуще военных донецких событий на передовой отменен спектакль «Борис Годунов» - который традиционно ставился 10 февраля - в день гибели А.С. Пушкина...
Режиссура интересная, оригинальная, в спектакле много ярких сценических находок. Костюмы актёров решены лаконично: строгие чёрные одежды (в старой доброй традиции «Таганки»), - дополняемые по надобности яркими плащами, мечами... Колпак шута - маячит всюду как яркий возглас! На заднем плане - изысканно-прихотливая старинная карта Великобритании... Известно давнее пристрастие Андрея Вадимовича Грунтовского к старинным картам: огромная карта России - в полсцены! - уже фигурировала в «Борисе Годунове», карта как центральный персонаж происходящего - Русская Земля - тот образ, который является основным стержнем самого театра, его концепцией... В «Короле Лире» это - карта Британского острова, карта живая, движущаяся, расходящаяся и соединяющаяся по необходимости на две части.

Центральная фигура спектакля - конечно же, сам король. Король - он и режиссёр, он и актёр - об этом не забываешь в течение всей драмы.... Грунтовский-Лир великолепен: весь переполнен чувствами, весь буря и порыв, весь - оскорбленный поведением несносных властных дочерей король... Король - который сам сглупил, передав бразды правления в женские руки... Сжав плеть в руке, он бросает обвинения к дочерям в зал, словно удары этой плетью!.. То обличает, то юродствует, опустившись на колени и вскидывая к небу руки... Лицо его изменчиво как море: то это ураган, в сверканиях молний, то оно полно нежности и слёз, то - горести и отчаяния - когда выносит на руках - струящиеся складки просторной синей ткани плаща - символ умирающей на руках дочери Корделии... И никто из зрителей не сомневается - в трагической истинности происходящего...
Рядом - преданный шут в колпаке, кувыркающийся по сцене, и рассыпающий жемчуг мудрости перед свиньями.. Шут - и Король... Король - и Шут... Конечно, король - это и свита короля... Но Король и Шут - это почти единый образ, такой двуликий Янус: шут-мудрец и король-глупец... Шута чудесно исполняет Володя Матросов, - глубокий знаток русского фольклора, - которому в этот вечер пришлось неожиданно сыграть сразу две роли - еще и Глостера... Но на то он и бродячий театр, привыкший к дорожным испытаниям, и люди тут же чувствуют плечо друга... Всё - сами: сами шьют в дороге костюмы из подходящих лоскутов, сами изготавливают неприхотливый реквизит, используя и брёвнышки, и лавки... Порой возникает такое чувство, что это странствующий театр, который высыпал на подмостки из дорожного своего фургончика, набранный из разночинцев, подвернувшихся по суровой дороге... Этому ощущению способствуют и фольклорные сцены в спектакле, где актёры изображают знаменитую площадную «Лодку» - только здесь уже на английском языке...
Особо нужно
отменить великолепное владение актерами оружием в сценах сражений - это
неповторимый Илья Копылов, в руках которого оружие мелькает столь быстро, что
его почти и не видно, это Фёдор Незамутдинов, вошедший смело и решительно в мир
театра... И вообще, практически все исполнители ролей в Народном театре драмы
замечательно фехтуют, изучают русский кулачный бой - что придает спектаклям
особую живость и правдивость происходящего... Яркая находка - общий
монолог Реганы и Гонерильи, в одинаковых алых накидках, как сестры-близнецы, в
единый голос пылко ведущих свою речь, играющую экспрессией! Злобные «валькирии»
- попирающие власть отца... Обе актрисы достойно справились с поставленной
задачей.
Надо заметить, в английском «Короле Лире» роль женщин шире и свободнее, нежели
в других спектаклях Театра Народной Драмы, где русские женщины ведут себя
достаточно пассивно, тихо сидят рядком на скамеечках с вязанием, и трепетные
ведут монологи... Здесь - ураган страстей, но это - Шекспир! в блестящем
переводе Пастернака (с доработкой текстов - Грунтовским)...
Под занавес в темноте - меж двумя частями карты Великобритании - тихие мерцают свечи в руках всех участников спектакля, под трогательное звучание нежного голоса Корделии, исполняющего старинную шотландскую песню, издалека уже, из самой глуби времен, - с того света... Потом карта Великобритании смыкается воедино вновь, словно затворяются створы спектакля и земля погребает погибших... и одинокий шут заканчивает фразой: «Какой тоской душа ни сражена, быть стойким заставляют времена...»
Заметки о спектакле «Чистая книга Фёдора Абрамова»
Вернулась домой из лавры со спектакля «Чистая книга»... Начало спектакля - интригующее. Луч прожектора высвечивает автора спектакля или самого автора - Фёдора Абрамова. Здесь это одно и то же лицо... Фёдор Александрович перелистывает свою записную книжку, и звучат его щемящие размышления о Родине:
«Родина - это то, без чего невозможно представить жизнь человека. Я вкладываю в это понятие прежде всего нравственный смысл. Для всякого честного человека любовь к Родине - это святой долг по её возвышению и, когда надо, защите. Только люди с пустой душой теряют сыновнее чувство к Родине...»
И дальше, дальше, дальше... И вот итоговая запись:
«...Новый человек вырастет - не сомневаюсь. Но пройдёт ли по Русской земле ещё раз такое бескорыстное святое племя?»
Свет гаснет - автор исчезает и сквозь густую-густую тьму, уводящую еще к самому ветхому периоду до сотворения мира, - сначала еле слышно - начинает пробиваться неспешное сказительское пение - пение древнерусской «Голубиной книги» (постепенно нарастающее, звучащее все глубже (исполняет Павел Соколов), возвращающей к древним истокам зарождения мира, к зарождению земли нашей русской...
Медленно зажигается свет... На сцене впереди - рядком на завалинке - сидят в алых клетчатых сарафанах и платках четыре женщины, ткут-прядут, поют песни, переговариваются - живая узнаваемая сцена русской деревни - так тонко описанной Федором Абрамовым! В живую народную речь вплетаются органично легенды и рассказы, бывальщины...
Но вот вихрем врывается в тихую неторопливую жизнь русской деревни - революция и Гражданская война, а затем стремительно вновь - уже Вторая мировая...
... История России за две сотни лет проходит сквозь весь спектакль - красной нитью.
В спектакле звучит много старинных русских песен, песен военных лет разных периодов - и Первой Мировой, и Второй.

Два актера - Андрей Ролецкий и Владимир Матросов - весь спектакль ведут непримиримый полемический диалог - будь то ссыльные народовольцы, затем - красногвардеец с белогвардейцем, интеллигент и военный, или председатель колхоза... Когда же на сцене оба солдата - «красный» и «белый» - вдвоем синхронно исполняют военные песни, то оказывается, что песни-то поют похожие - только слова немного разные! Песни Белой армии, подправленные Красной армией или наоборот...
...После спектакля, по традиции, - полчаса живого общения зала с Андреем Грунтовским - режиссером и актёром. Вопросы - ответы: живые, полные эмоций, любви к России, к поэзии и литературе, к театру. Сколько это дарит зрителю новых творческих сил!
Андрей Вадимович рассказывает и о других своих спектаклях, и о своей поездке на Донбасс...
Ответ на вопрос: «А почему бы вам со спектаклем не выступить на Донбассе?» - «Да ведь это непросто, поехать всем составом - отрывать женщин от их многодетных семей - в такой опасный край...» Да и сами спектакли не всегда могут быть востребованы - иногда сразу просят обучать бойцов боевым приёмам, которые пригодятся здесь и сейчас. Все же - для поднятия боевого духа - несколько концертов авторских песен под гитару имели место...
- К сожалению, - сокрушается Грунтовский, - на Донбассе молодые бойцы не все уже помнят русские казачьи песни...
Много интересных, живых вопросов из зала: «А как отнеслась к спектаклю вдова Фёдора Абрамова?» - приезжавшая в Невскую лавру на юбилей писателя, - к которому и был поставлен этот спектакль, созданный по его записным книжкам... И Андрей Вадимович удивительно рассказывает об удивительном человеке - Людмиле Владимировне Абрамовой-Крутиковой. Грунтовскому захотелось сделать что-то свое, еще не ставившееся в других театрах, - но именно в духе Театра Народной Драмы... И это получилось!
Сама тоже участвую в живой этой беседе, - я больше, чем просто «голос из зала» - ведь так много лет люблю и знаю этот удивительный театр - Народной Драмы! Весь сплетенный с душой русского народа, весь - сам народ!
Вот идет спектакль - а рядом у стены - актер Евгений Гуреев - в русской косоворотке... Рядом с ним - двое его младших детей, а старшие дочери - обе играют на сцене. И вот уже весьма размыты границы зала и спектакля: все вместе, - и зрители, и актёры, и выросшие уже дети других актеров, и самого режиссера, которые тоже выступают на сцене во многих спектаклях...
Евгений Гуреев - один из самых ярких актёров театра: он блестяще исполняет роль Григория Отрепьева в «Борисе Годунове», чудесно, живо читает монолог Хлопуши в «Пугачеве», играет Пушкина и Рубцова - неподдельно, с таким рвением и любовью - к стихам! Евгений проживает стихи - на сцене, он бросает их зрителю, как фейерверк, - полный ярких образов и смыслов!
В зале много
знакомых лиц, - те, кто читает свои
стихи на поэтических вторниках, слушает
замечательные лекции Андрея Вадимовича - всегда - так или иначе - возвращающие
нас к России, к ее истокам, к ее народу...
Это так важно - сохранять единство духа, единство осознания себя - единым
народом с единой историей - пусть даже у каждого в своей судьбе вплетаются
неповторимые яркие личные нити... И радостно видеть в зале поэтов из Союза
Писателей, осознавать единство наше с ними, нашу тонкую дружбу - здесь, в
стенах лавры - и там, в миру, в столичном городе...
24 февраля 2016 г.
Спектакль Театра Народной Драмы «Чудный сон мне Бог послал»
Вечером 13 апреля 2016 г. в Свято-Духовском центре прошел замечательный спектакль нашего Театра под управлением Андрея Грунтовского «Чудный сон мне Бог послал».
Главную роль исполнял Евгений Гуреев, один из ведущих актёров театра, умеющий эмоционально и ярко подать личность, натуру героя, произнести пламенный поэтический монолог - покорив зрительские сердца!
Спектакль построен неожиданно. В центре сцены, за круглым столом, при свете свечи, задумчиво сидит Александр Сергеевич - очевидно, где-то вечерком в своем имении, - с гусиным пером в руке... Перед ним на столе - пачка рукописей... По левую и правую руку от поэта сидят простые русские люди - его друзья, современники, дворяне и крестьяне... в течение всего спектакля вслух по очереди делящиеся своими воспоминаниями - друг другу - и зрителю... Крестьяне, поющие душевные русские песни - которые Пушкин очень любил... Известно, что Пушкин имел привычку переодеться попроще, и, затерявшись в пёстрой толпе ярмарки, вслушиваться в живую русскую речь, записывая с ходу особо понравившиеся народные слова и выражения...
Спектакль изнутри возвращает зрителя к жизни русского
народа - глазами Пушкина, и наоборот: как тепло воспринимают Пушкина простые
русские люди, сопровождавшие его по жизни, в родительском доме или родовом
Михайловском...
В спектакле неожиданно звучат уникальные письма няни поэта, Арины Родионовны,
так душевно раскрытые Валентиной Гуреевой, неспешно читающей эти строки...
Звучат и народные сказы земли архангельской - уже, с далёкого русского севера,
записанные Борисом Шергиным - судьбою которого так много занимается режиссер
театра Андрей Грунтовский, издавший уникальные диски с записями сказителя и книгу
его дневников «Праведное солнце»... На сцене за круглым столом, словно бы
возникает перекресток нашей общей памяти о Пушкине - народных сказаний,
воспоминаний, дневников...
Здесь на сцене так и не появляется ослепительная Наталья Гончарова, жена поэта, - здесь главную женскую роль исполняет сама народная Россия, которую в первую очередь и любил наш русский Поэт.
Как всегда, по традиции, после спектакля - душевный диалог с режиссёром, отвечающим со сцены на вопросы зрителей, о создании спектакля, о самом уникальном театре... Главное - не спешить уходить после окончания спектакля! Незаметно начинаешь ощущать, что это общение с режиссером и драматургом - тоже часть спектакля, его продолжение... И еще что очень важно - непременно прихватить с собою небольшие афиши театра с дальнейшими спектаклями - чтобы раздать своим друзьям и близким, пополнив круг зрителей. Большое спасибо режиссёру и актёрам за воплощение идеи спектакля и блестящее исполнение.
«Всех вас заключу в моё се6рдце...»
Спектакль о Ф. М. Достоевском
«Всех вас заключу в моё сердце... И вы меня заключите - в своё...» - такими словами из «Карамазовых» заканчивается спектакль-жизнеописание Достоевского.
Промыслительно, что спектакль о Достоевском поставлен в Петербурге, в стенах Александро-Невской лавры, - где похоронен писатель, в зале, где его отпевали... Это единственный случай в истории лавры - когда неимущего, в долгах, писателя было позволено безвозмездно похоронить на известнейшем кладбище города! - так была сильна любовь и уважение монахов к автору «Братьев Карамазовых»...
Спектакль создан в традициях театра Народной Драмы. Режиссер обходится минимумом актеров: играют весь спектакль пять человек, трое мужчин и две девушки. Спектакль весь пронизан символизмом. Как и всегда, минимум предметов - для обозначения эпохи и места действия. Круглый стол со скатертью, старинный подсвечник, чернильница, пачка бумаги... На противоположном краю сцены - ломберный резной столик, на столике - женское вязание, изысканная шкатулка... По центру сцены - два фрагмента стены в светлых обоях - задающие пространство петербургской квартиры. При этом левая стена, с Казанской иконой Божией Матери на деревянной полочке, по ходу действия решительно меняет свой адрес и хозяев - в зависимости от замысла режиссера... Правая стена - имеет единое назначение, она принадлежит именно самому дому Достоевского - и здесь тоже не важно, какая это именно из его многочисленных квартир, которые приходилось так часто менять! - лишь в конце жизненного пути остановившись в известном уже всему миру Кузнечном переулке... Правая стена - весь спектакль! - «Дом Писателя». Здесь - большие настенные часы в прямоугольном вертикальном футляре, за стеклянной дверкой, - своего рода смысловой центр всей сцены. Временная вертикаль спектакля. Хронология спектакля выстаивается последовательно по важным датам жизни писателя, - и вот интересный, яркий ход: напоминая зрителям о Ходе Времени, сам Достоевский время от времени раскрывает дверцу часов - и переводит вперед стрелки на большом циферблате. Это весьма интересное решение - «часовой годовой календарь»!..
Достоевский - словно сам шагнул к нам из Петербурга девятнадцатого века: с серебристою бородой и волосами до плеч, в белой рубашке благородного покроя, с широкими рукавами, серебристый жилет... на шее - бантом черный галстук... Едва появившись на сцене, тотчас припадает к писательскому столу, раскладывая вороха рукописных страниц своих романов...

Здесь начинается самое интересное... Гаснет свет, оставляя лишь небольшое световое пятно на дальней от писателя стене - и из темноты начинают появляться фигуры персонажей его книг... Это и Родион Раскольников в черном длинном одеянии, - встревоженный, возбужденный, со сверкающими блестящими глазами (Родиона так живо и эмоционально сыграл Алексей Бухалов), и хрупкая светловолосая Сонечка, - так глубоко любящая уже Родиона, простившая ему все грехи его, и готовая идти за ним до конца... Здесь опять ярко видна режиссерская школа Грунтовского: вот Родион припадает к ногам Сони, - на самом краю сцены, перед залом, - и хотя сама Соня стоит сзади него, у стены, возле иконы Богородицы, - полное ощущение, что зритель словно бы глазами Сони видит, как Раскольников склоняется перед нею... Сонечка - удивительная во всей своей невесомой чистоте, в темно-синем платье, стянутым туго широким поясом на тоненькой талии... Играет Сонечку великолепно - Мария Гуреева. Ее невозможно сразу же не полюбить! Она многолика... Вот она поет русские песни, сидя за вязаньем... Вот она же - играет Дуню, направляющую бесстрашно черное дуло пистолета прямо в упор на Свидригайлова - точнее, прямо в зал, когда Свидригайлов-Достоевский стоит сзади от нее... И в то же время эта сцена возвращает и к образу Кроткой, - которая тоже не побоялась направить пистолет на своего мужа-мучителя; но... Вот тут удивительное достоевское «Но»...
«Достоевский на сцене «Странника»
19 февраля 2017 года в воскресенье на
сцене театра «Странник» состоялась премьера спектакля Театра Народной Драмы о
Достоевском
В театр «Странник» пришлось пробираться под ужасным зимним петербургским дождем, сквозь слякоть и темноту, - но ни минуты не пожалела о том, что выбралась, - спектакль был великолепен! В спектакле участвовало всего пять актеров. Вначале выступил с приветственным словом директор театра «Странник» Владимир Уваров. Благодаря небольшой сцене всё здесь собрано особенно компактно, в строгих черно-белых тонах. Сияла издали свеча перед иконой Богородицы - словно путеводная звезда среди черного пространства...
Грунтовский точно и глубоко ухватил образ Достоевского. Хочется сразу отметить, что в судьбе писателя девятнадцатого века и актера века двадцатого есть немало сходных черт. Глубокое знание жизни, работа на суровом Севере - пусть не в Сибири, пусть не каторжная, - но не менее плотно сталкивающая с людьми, отбывающими срок, на суровом строительстве, умение погрузиться в сложный психологический мир другого человека.
Здесь тонко схвачен и образ русского писателя, знакомого с лишениями и ударами судьбы, и одновременно выходят на первый план дворянские корни режиссера - тонкая ниточка которых ускользает в средневековую Польшу. Есть даже в нем что-то от странствующего рыцаря Дон-Кихота - персонаж, который был так интересен самому Достоевскому!.. Но главное - удивительная цельность характера, слитность с русским народом, с его судьбой, - через постоянные сложные искания - и политические, и духовные...
Владимир Матросов в последних спектаклях, помимо высокого исполнения русского фольклора, приходит ко всё более глубоким разносторонним ролям. В этом спектакле кем ему только не пришлось побывать: это и Мармеладов, беседующий в трактире с Раскольниковым, и издатель, требующий выплаты несуществующих долгов, Белинский, Герцен и несколько других ролей...
Молодой актер Алексей Бухалов - самородок! В Алексее с первых шагов можно признать Родиона Раскольникова: и одет вполне в духе студента девятнадцатого века, и держится с достоинством... Но при этом его Родион удивительным образом несет в себе и черты Разумихина, друга Раскольникова, - настолько открытый, сочувствующий, готовый помочь взгляд!.. А не только та, изможденная, тревожная недоверчивость бывшего студента, перешедшего границы закона - и нравственности...
Обе девушки, задействованные в спектакле, играли замечательно, - но какой поразительный контраст между ними!.. Словно бы поочередно перед зрителями появлялись на сцене образы двух сказочных птиц: Сирина и Алконоста, птицы Радости - и птицы Печали... И игрой каждой из них можно было бы восхищаться подолгу!..
Неповторима игра Марии Гуреевой - настолько вся она стремительна, глубока, вся порыв, такая разная - через минуту уже!.. Несмотря на то, что приходится играть сразу несколько ролей, с костюмом у Марии всё предельно строго - темно-синее платье, строгая прическа, высокие ботиночки со шнуровкой... Лишь иногда образ дополнен яркой шалью и призывной алой розой в волосах... Сначала Мария играет - Настасью Филипповну, - точнее, звучит короткий диалог с князем Мышкиным (А. Бухалов) - но ставший известным всему миру - из романа «Идиот»:
- А как вы узнали, что это я?..
Где вы меня видели прежде?
Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела?
- Я вас тоже будто видел где-то?
- Где? Где?
- Я ваши глаза точно где-то
видел... да этого быть не может! Это я так...
Я здесь никогда не был. Может быть, во сне...
Потом Мария играет уже Вареньку, пишущую ответ Макару Девушкину (из романа в письмах «Бедные люди»). Вареньку, сидящую за резным столиком, - вся сама грусть! - от мысли о расставании... Какие печальные, надрывающие душу романсы приходится ей исполнять!..
Вот «Кроткая» - тоже она! Стоящая трагично на краю подоконника, прижимающая к к груди икону, готовая выпасть из окна - и одновременно словно бы уже лежащая в гробу с закрытыми глазами... Здесь - особая символика театра Грунтовского, - которую, посмотрев раз, хоть один спектакль, уже не спутать... С Кроткой - во гробу лежащей - ведет беседу ее жестокий муж... Точнее, сам с собою... И, под переборы гитары звучат стихи Федора Тютчева - как нельзя более подходящие к трагичному финалу.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Чтобы играть такую роль - надо быть готовой к такой роли! Здесь важно понимать, что персонажи романов Достоевского - прописаны гораздо ярче и образнее, чем их оригинальные прототипы... Чтобы зрителю во всей глубине понять такую роль - надо быть подготовленным зрителем...
А вот на сцене появляется удивительно нежная, пластичная, с мягкими движениями Анечка Сниткина (ее замечательно играет молодая актриса Екатерина Семенова)... С самого появления Анечки звучат в основном радостные, самые светлые нотки - охватившей обоих взаимной любви, несмотря на значительную разницу в возрасте... «Зовите меня Неточкой!... - Нет! Моя Неточка много горя пережила, а я хочу, чтобы вы были счастливы... Я буду вас звать Анечкой...»
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
- Звучат под гитару стихи Тютчева... И вот она уже - жена писателя.
Жена писателя - умеющая вести и разностороннюю беседу с мужем, и его
издательские дела... и воспитывать детей... и вести хозяйство... словом, всё! Но как
часто приходится ей доставать траурный черный платок - и покрывать им голову!..
Пережить - смерть двух детей, Сонечки, а затем и Алеши...
За скобками спектакля остаются все те страшные периоды болезни эпилепсии, порочное увлечение игрой в рулетку... Может, это и к лучшему, что - за скобками... Не всё стоит показывать и проговаривать вслух... Но с каким мужеством проходит Анна все эти испытания! Всю свою жизнь безоговорочно посвятив - своему гениальному мужу - писателю - и его творчеству... Здесь, на сцене, мы видим это перевоплощение юной актрисы - в умудренную жизненным опытом соратницу гениального писателя, умеющую и поддержать мужа, и смело поставить на место наглецов-издателей!..
Актеры блестяще справились со сложной задачей - ввести зрителя в многогранный мир Достоевского и его произведений, в мир его идей и поисков истины, в мир литературных отношений - и сердечных переживаний... Как раскрывает и нам свое сердце - писатель, и вмещает в свое сердце - всех нас, пришедших на спектакль в этот зимний дождливый петербургский вечер...
Письмо из будущего
Спектакль о Достоевском «Всех вас заключу в моё сердце...»
«Всех вас заключу в мое сердце... И вы меня заключите - в своё...» - такими словами Андрей Грунтовский, режиссер театра, закончил свою речь после премьеры спектакля в Александро-Невской лавре.
Конечно, промыслительно, что спектакль поставлен в стенах Александро-Невской лавры... Хотя сам Достоевский говорил своей жене о том, что неплохо бы ему упокоиться на Новодевичьем, рядом с Николаем Некрасовым... Судьба же распорядилась по-иному - по промыслу Божию - на Тихвинском кладбище лавры, рядом с Карамзиным и Жуковским... В траурной процессии - от дома на Кузнечном до лавры - участвовали десятки тысяч петербуржцев! Более семидесяти венков несли представители от самых разных организаций, прибывших не только из Петербурга, но со всей России, - так велика была любовь к Федору Михайловичу!.. Но вернемся к спектаклю.
Один из приемов, на которых строится спектакль, - это письма. Фрагменты писем словно составляют невидимую ось спектакля, они словно раскрывающиеся свежие весенние цветы - из старинных пожелтевших конвертов... Письма - это особенный, душевный мир, погружающий мгновенно в ушедшую эпоху, соединяющий людей девятнадцатого века - и двадцать первого... И вот они звучат в спектакле, эти ожившие голоса, - писателей, мыслителей, критиков, прекрасных русских женщин, персонажей произведений, самого Достоевского - и мы слышим живую речь ушедшей эпохи, ощущаем эту особую красоту и колорит русского слова!.. Звучат живые диалоги, полные искренних чувств, - в поиске истины, блага для своего народа, в искренней попытке преодолеть страшную нищету и отсталость народа путем кардинальных преобразований общества... И путем следования за Христом... А образ Иисуса Христа и Богородицы всегда рядом, на сцене, - всегда обращен в зал!
Когда любящий уединение Достоевский поселился на последней своей петербургской квартире в Кузнечном переулке, где он писал свой последний роман, потрясший весь мир, «Братья Карамазовы», - к нему всей душой открыто потянулись люди!.. Со всей России посыпались письма - с самыми разными просьбами: то дать глубокий ответ на мучающий вопрос, то поделиться радостью от прочитанного... Приходили к Федору Михайловичу даже исповедальные письма - и он терпеливо отвечал на всю эту корреспонденцию...
Вот и у одной моей знакомой девушке, очень любящей театр, Натальи Сомовой (назовём ее так), под впечатлением спектакля, словно бы само собой, написалось такое письмо - Фёдору Михайловичу - с желанием поделиться нахлынувшими впечатлениями... Письмо это Наталья передала мне... Позволю и вам прочесть это письмо.
Письмо из будущего
«Здравствуйте, уважаемый, дорогой Фёдор Михайлович!
Вернувшись нынче вечером домой после спектакля, - посвященного Вашей персоне, - села я в раздумьях за письменный стол, - и словно само собой написалось это письмо. Была я вся буквально переполнена этим спектаклем - о Вашей жизни! - настолько глубоко режиссер сумел прочувствовать Ваш сложный, чрезвычайно многогранный мир... Возможно, именно этот спектакль из всего репертуара театра (а в нем уже поставлено семнадцать спектаклей!) - именно этот самый лучший и есть! Наиболее психологически тонкий, погружающий в самую глубину человеческих чувств и переживаний - в ту бездну чувств, в которую Вы погружаете героев своих романов.
Уже с самых первых минут спектакля звучит эта особая, тонкая душевность - в переписке Макара Девушкина с Варенькой, - словно переворачивая всю душу! А я ведь, Федор Михайлович, только накануне перечитывала Ваш роман в письмах «Бедные люди» - задавший основную линию Вашего будущего литературного пути! «Новый Гоголь явился!» - воскликнул Некрасов, придя к Белинскому... И вот - Белинский над рукописью... но кабинет Белинского меркнет и оживают персонажи «Бедных людей» Особенно пронзительно это последнее письмо Макара Девушкина - наполненное одновременно такой щемящей тоской - и такой нежной любовью к Вареньке, уехавшей в безызвестность... Когда наконец он - буквально во время написания письма! - вдруг ясно осознает, что теряет ее навсегда: «Ах, маточка, маточка, да на что же вы это такое решились?..» Это уже не и письмо вовсе - но крик одинокой души...
Федор Михайлович, возможно, Вы спросите, что же такого было сделано, чтобы передать всё это многообразие Вашего творчества - за пару часов?.. Как создавался этот внешний вид Вашего мира?.. Поначалу, конечно, режиссеру пришлось изрядно потрудиться, подбирая для спектакля некоторые старинные предметы интерьера, даже объявление пришлось сделать - о дополнительной помощи в этом нелёгком деле... И вышло замечательно! Вот на фрагменте стены со светлыми обоями - портреты в рамках - Ваш и Вашей милой Анны!.. Массивные настенные часы, круглый стол, покрытый красной скатертью, с ворохом писчей бумаги и бронзовым подсвечником, - тот круглый стол, за которым впервые увидела Вас юная Анечка Сниткина, - и уже не смогла расстаться никогда...
Сам спектакль создан в традициях этого особенного театра, актеры которого с таким увлечением изучают русский фольклор, - по сути, являясь живым продолжением русской народной традиции: и в вере, и в поведении, в исполнении песен и обрядов на праздниках, в особой традиционной русской одежде... Народная душа, выраженная через песню, - это ведь и Вам так близко... - городские романсы, тюремные песни каторжан, полные тоски и раскаяния...
В этом
спектакле режиссер обходится совсем небольшим количеством актеров: всего
играют пять человек - трое мужчин и две девушки. Весь спектакль пронизан особой символикой. Как и всегда, на сцене предельно мало
предметов - лишь для обозначения эпохи и места действия, - и каждый предмет притом многофункционален! Вся сцена условно
разделена на две части: правую и левую.
В самом центре сцены, впереди - деревянное возвышение - служащее то эшафотом
для смертников, - и когда все трое шагнут и встанут высоко - тогда покажется на миг, словно нос огромного
корабля, движется прямо на зрителя!
прямо на Вас!.. То тюремным заграждением
каторжников, гремящих кандалами, то - трагическим
краем окна, из которого бросилась Кроткая... Или же это вдруг просто грубо
сколоченная скамья в кабачке - где
беседуют Раскольников с Мармеладовым в трущобах
петербургской Коломны...
По центру - два вертикальных фрагмента стены в светлых обоях - задающие пространство петербургской квартиры. Левая стена - уголок комнатки Сони Мармеладовой, с иконой Божией Матери на деревянной полочке, - по ходу действия решительно меняет свой адрес и хозяев - в зависимости от замысла режиссера. Здесь же, на дальнем плане, - высокий стол-аналой, за которым так удобно стоя записывать набежавшие внезапно мысли!.. Ломберный резной столик (подаренный одной женщиной специально для спектакля - режиссеру оставалось лишь самому его починить, что он сумел легко, поскольку владеет и искусством столяра и плотника)... На столике - шкатулка, женское вязание...
Правая стена... Она имеет единое назначение: она принадлежит Вашему дому - «Дому Достоевского», - и здесь неважно, какая это именно из многочисленных квартир, - которые Вам приходилось так часто менять! - лишь в конце жизненного пути остановившись в известном уже всему миру Кузнечном переулке. Здесь же - большие настенные часы в прямоугольном футляре, за стеклянной дверкой. О часах хочется упомянуть подробнее. Часы в спектакле - своего рода смысловой центр всей сцены. ВременнАя вертикаль спектакля! В самом начале - часы заводит Сонечка и действо спектакля начинается. В финале, в момент кончины Фёдора Михайловича, стрелки останавливает Анна Григорьевна...
И вот такой необычный режиссерский ход: напоминая зрителям о Ходе Времени, Достоевский (режиссер Грунтовский, он же и исполнитель главной роли) время от времени подходит к часам, раскрывает стеклянную дверцу - и переводит вперед стрелки на большом циферблате, называя год и дату следующих происходящих событий... Это весьма оригинальное решение - «часовой годовой календарь» - одновременно и ведущий зрителя вперед, и возвращающий назад, в кабинет писателя!..
Вот - сквозь пространство меж двумя стенами - Достоевский словно сам шагнул к нам из Петербурга девятнадцатого века: Едва появившись на сцене, он сразу же приковывает к себе внимание, - припав к писательскому столу, раскладывая вороха рукописных страниц своих романов... Впрочем, писательские оковы скоро сменятся каторжными... и совсем даже не бутафорскими... Пробыть закованным в кандалы - пусть даже недолго! понарошку! - весьма непросто, - а уж провести много лет на каторге вместе с другими ужасными преступниками - такая печать остается на всю жизнь... И не мне Вам говорить об этом... Конечно же, звучит известный монолог из романа «Идиот» о страшном инсценированном спектакле со смертным приговором - замененным в самый последний миг! - на помилование... Преступника ведут на казнь в спектакле - пять раз - используя фрагменты самых разных романов...
Но вот гаснет свет, оставляя лишь небольшое световое пятно - таинственно оживают герои Ваших романов...
Это и Родион Раскольников, в черном длинном одеянии, - встревоженный, возбужденный, со сверкающими блестящими глазами. Родиона так живо и эмоционально сыграл молодой актер Алексей Бухалов. Но хотя в Алексее с первых шагов можно признать бывшего студента Родиона Раскольникова, при этом он удивительным образом несет в себе и черты друга Раскольникова, Разумихина, - такая вдруг неожиданно высветится на лице его неподдельная открытость, душевность, готовность помочь!.. Такой вот Родион Раскольников, несущий в себе одновременно качества обоих друзей...
Это и хрупкая светловолосая Сонечка, - так глубоко любящая Родиона, простившая ему все грехи его... И сестра Раскольникова, рассудительная Дуня, готовая пожертвовать собою ради любви к брату...
Здесь опять ярко видна особая режиссерская школа, полная символизма, ускользающая от привычной театральной традиции... - Вот Раскольников припадает к полу... словно это мы видим его глазами Сони - и словно это всё во сне... в полусне...
Сонечка (Мария Гуреева) - удивительная во всей своей этой невесомой чистоте, - словно воздушная, в темно-синем платье, стянутым туго черным поясом на тоненькой талии... Вот она поет русские песни, - глубоко, с душевным надрывом, - а вот уже печально сидит за вязаньем, возле ломберного столика... Вот она уже и не Сонечка вовсе, - но сестра Раскольникова, Дуня, - бесстрашно направляющая черное дуло пистолета в упор на Свидригайлова! Точнее, - прямо в зал... И снова зал видит это дуло пистолета - словно бы глазами Свидригайлова, глядящего с некоторым изумлением и не на дуло вовсе - не на Дуню, а на нас... Одновременно эта сцена возвращает и к образу Кроткой, и в самое начало спектакля - к Вареньке из «Бедных людей» и вот - она снова Соня...
А связывает все эти образы между собой и с самим Фёдором Михайловичем удивительно нежная, пластичная, с мягкими движениями Анечка Сниткина - ее играет молодая актриса Екатерина Семенова.
Обе девушки играют замечательно, - но какой поразительный контраст меж ними - птица Сирин и Алконост, - птица Радости и птица Печали...
Здесь, в спектакле, больше звучат нотки Ваших самых первых, самых солнечных отношений с Анечкой - словно куда-то в сторону отходят эти страшные предстоящие испытания: нужда, болезни, трагическая смерть маленькой Сонечки в Швейцарии, позднее - сына Алеши... Ведь эти имена воплотились, пришли со страниц ваших произведений...
В спектакле прекрасно показано, как Анна - сразу и до последних дней! - стала не только Вашей любимой женой, но и - верным другом и соратником, единомышленником!.. И когда надвигалась очередная беда, - стиснув зубы, справлялась с самыми разными трудностями, находила нужных людей, договаривалась, занималась распространением тиражей книг, - словом, всем! Екатерина Семенова, молодая совсем актриса, играющая роль Анны, сумела уловить эту особую её целеустремленность и собранность, - и перед зрителями возникает образ именно такой личности с характером, способной бесстрашно пройти сложный путь до конца... До жеста, останавливающего стрелки часов...
О чем еще хочется непременно сказать... Ваш образ - образ русского писателя - получился в спектакле удивительно слитным с образом режиссёра спектакля, - поэта и писателя Андрея Грунтовского.
Грунтовский, конечно, неотразим в роли Достоевского! Надо заметить, что и в Вашей, и в его судьбе есть немало сходных черт! Вот, что он рассказывал про работу на «зонах» на крайнем севере: «Хорошо бы перед тем, как отправлять новоиспеченного режиссера после института в театр на сцену, сначала отправить на стажировку прорабом на стройку! - вот где опыт жизни, настоящая режиссерская школа!» - но это шутя и любя...
Здесь, в спектакле, вспоминаются и его дворянские
корни - уходящие невидимой нитью
в средневековую Польшу... Есть даже в нем что-то
и от странствующего рыцаря Дон-Кихота -
образ которого и Вам был всегда
так близок и притягателен!.. Но главное - удивительная слитность с русским
народом, с его судьбой, - через постоянные сложные искания - и политические, и
духовные... Удивительная цельность характера.
Очень трудно порой провести ту четкую
грань, где заканчиваетесь Вы - и
начинается Грунтовский... Как бурно
подчас переполняют его эмоции!
Как сильно меняется выражение его лица - словно море!.. То
задумчивое и грустное, когда весь он в думах о судьбе своего народа, униженного
и оскорбленного; то полное светлой
радости - когда вспоминает - в письмах же!
- дочку Сонечку, - и тут же - боль и
горечь от этой страшной ничем не заменимой
потери...
Всего в этом спектакле Грунтовский играет четыре роли - это Достоевский, затем - Макар Девушкин; Свидригайлов и жестокий муж Кроткой.
А гитара - что же, в этом спектакле уместна и гитара! Она то в руках Раскольникова, то Достоевского, то Свидригайлова... Во всяком случае, здесь она на своем месте. Может быть, Вас, Фёдор Михайлович, с гитарой в руках никто особенно и не видел, но то, что Вы любите петь и дома исполняете песни, словом, жить не можете без песен! - это ведь всем известно... И вот звучат народные романсы и стихи Тютчева, исполненные под гитару, - о любви вечерней - как нельзя более точно отражают то состояние, в котором может пребывать человек, потеряв первую жену, потеряв близких друзей - Аполлона Григорьева и любимого брата-сподвижника Михаила Михайловича... Потеряв всё! - по сути, оставшись одиноким, заброшенным, в сложной жизненной ситуации, - и тут, с появлением Анны, - словно солнышко осветило своими первыми теплыми лучами всю его, казалось бы, закатную жизнь!..
С самого появления Анечки звучат в основном радостные, самые светлые нотки - под гитарную импровизацию Федор Михайлович признаётся в любви...
- ...Представьте, что этот художник - я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
- Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и речь не об Анне Васильевне, а обо мне... Я взглянула на столь дорогое, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:
- Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!
Но здесь же рядом с переборами гитары звучат и - словно где-нибудь за окном в Старой Коломне - русские задушевные песни и романсы, - которые блестяще исполняют Владимир Матросов, Мария Гуреева и Екатерина Семенова...
Как трогательно - и в то же время твердо - читает Сонечка отрывок из Евангелия о воскресшем Лазаре, с какой духовной силой! Сонечка, способная последовать за Родионом в Сибирь, поддерживающая его силой своего духа... Сонечка, открывшая в нем ту, светлую сторону души, ведущую к полному раскаянию...
Все актеры блестяще справились со сложной задачей - ввести зрителя в многогранный мир Ваших романов, в мир Ваших идей и поисков истины, в мир литературных откровений - и сердечных переживаний... Как раскрывают зрителям свое сердце участники спектакля, и вмещают в него всех, пришедших на спектакль в этот зимний вечер... Играли ли они? - пожалуй, нет, - они прожили вместе с нами в Ваших произведениях... Быть может в этом и разгадка Театра народной драмы.
Буду прощаться, любезный Фёдор Михайлович! Радостно, что Ваше творчество всё так же интересно людям, что они - вот уже столько лет! - не расстаются с Вами. Хочется, прощаясь, процитировать одно из писем от неизвестного, что прозвучали в спектакле:
«Батюшка, любимый мой, голубчик! Так нельзя читать! Ведь если б вас слушать можно было стоя на коленках... да за каждое ваше слово душу отдавать... А то подумайте, какое мучение - чувствовать боль какую-то от восторга, и знать, что нет никаких сил, никакой возможности выразить все то, что чувствуешь - это ужас, как больно. Вам самому ведь читать нельзя - вам ужасно вредно волноваться. А вы ведь всегда волнуетесь... Если можно, примите мой совет от восторга и любви - не читайте больше - лучше живите Христа ради».
Сколько прошло с той поры, когда были написаны эти, наполненные любовью строки! И другие люди с прежним трепетом читают Вас... Спасибо Вам.
С премногим уважением, ваша читательница Наталья Сомова»








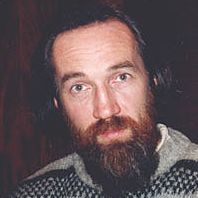



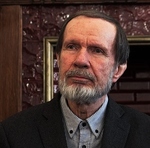









.jpg)



