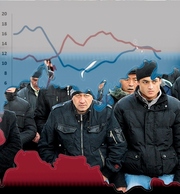Поводом к написанию этой статьи стало ознакомление с блестящей работой протопресвитера Александра Шмемана «Свобода в Церкви». Часто болезненно рефлексирующий богослов, Шмеман является неплохим философом. Он хорошо разобрался в диалектике свободы и необходимости (или авторитета), вооружив свой интеллектуальный арсенал достижениями русской религиозной философии.
«Неумолимая логика всей дихотомии «свободы-авторитета» такова, что свобода, в интересах самореализации уничтожающая авторитет, уничтожает и самое себя. И происходит это не потому, что свобода вне своей противоположности и борьбы с ней остается пустой и бессмысленной формой, но и потому еще, что она не может по-настоящему осуществиться, покуда жив последний авторитет, имя которому - смерть. Вечной заслугой Достоевского остаётся образ Кириллова в «Бесах», являющий нам неизбежную связь крайней, безпредельной свободы и самоубийства: «Кто смеет убить себя, тот Бог». <1.>
Такова логика падшей свободы, понимаемой исключительно в соотнесении с авторитетом, свободы по горизонтали. В силу онтологической зависимости от авторитета она по его низвержении уничтожает и себя.
В экклезиологическом аспекте извечную проблему соотношения свободы и авторитета в Церкви Шмеман предлагает рассматривать целостно, а не дуалистично. Именно раздвоенность западного рационального сознания в отношении Церкви привела к протестантскому расколу и формированию двух конфессий: католической (с упором на авторитет Церкви) и протестантской (с упором на свободу от авторитета). Обе конфессии, несмотря на внешнее разобщение, едины в своем несовершенстве: в выброшенном вовне и раздвоенном видении Церкви. Дихотомия свободы и необходимости в Церкви для западного сознания оказалась непреодолимой. ( Добавим, что непреодолимой эта дихотомия для запада осталась не только в отношении Церкви, но и в отношении самой жизни, порождая феномены несвободной свободы, авторитарной демократии, насильственного мира, принудительного порядка и т.п.)
Шмеман твердо отстаивает восточный православный взгляд на Церковь, приводя высказывание Хомякова: «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог..., ибо авторитет есть нечто для нас внешнее».<2.>
«Церковь не есть механическое соединение ограниченного авторитета и ограниченной свободы,.. но сама Церковь есть свобода». «Вне Церкви нет истинной свободы, но лишь безсмысленная борьба друг друга уничтожающих авторитетов».
«Будучи присутствием, Храмом Духа Святого, Церковь есть та реальность, где дихотомия авторитета и свободы упраздняется, а точнее, постоянно преодолевается и побеждается.... Но Церковь - это крайне важно - есть свобода именно потому, что она есть и всецелое послушание Богу».<1.>
Обратим пристальное внимание на эти слова о. Александра Шмемана, которые можно расценивать как лучшее его завещание, и посмотрим, как выполняет заветы своего учителя по преодолению вышеуказанной дихотомии о. Петр Мещеринов.
Увы, напротив, в идеях Мещеринова мы видим реанимацию западного, дуалистичного видения Церкви. Он последовательно разделяет: «красоту и свободу Христовой Церкви» и «внешнерелигиозные схемы, идеологию и субкультуру».<3.>
И здесь дело не только в расчленении единой Святой Соборной и Апостольской Церкви на внешнюю, поврежденную, и внутреннюю, истинную, но и в непреодолимой сложности вопроса: что входит и что нет в рамки понятий церковной субкультуры и церковной идеологии?
В стихотворении «Это было давно» Николай Заболоцкий описывает следующее переживание. Однажды на кладбище верующая старушка, крестясь, угостила его хлебом и яйцом, возможно пасхальным:
И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.
И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.
На первый взгляд внешние («субкультурные» по Мещеринову) вещи: крестящаяся бабушка, поминальный хлеб, пасхальное яичко - становятся ключом к внутреннему озарению.
В целостном взгляде на Церковь нет внешнеобрядового и внутреннесокровенного. Внешнее может привести к внутреннему, и напротив, внутренние понятия могут быть выброшены вовне, застыть, потерять смысл.
Не обряд застывает, превращаясь в «субкультуру», но застывает взор, лишенный проникновенной любви.
Мы считаем неудачным применение термина «субкультура» к Церкви из-за сомнительного его происхождения от неформальных движений, маргинальных сообществ. Но Святейший Патриарх Кирилл все же употребляет его. И что же? - Совершенно в позитивном смысле! В беседе с украинскими журналистами Патриарх говорит: «Церковь ведь сама имеет свою субкультуру... Я сижу перед вами в таком облачении - это субкультура церковная». (Знает ли Святейший, что уже приблизилась рука, готовая «взорвать субкультуру», раз-облачить Патриарха).
Значит, сам по себе термин «субкультура» не является отрицательным, так же как и термин «идеология», употребляемый многими православными авторами в позитивном аспекте, когда речь идет о реагировании Церкви на современные запросы времени и новые актуальные проблемы.
Что же включает Мещеринов в понятие «субкультуры» Церкви? Фактически - все видимое и переживаемое в практической церковной жизни: «богослужение, посты, святые отцы, духовничество, внутри - и внешнецерковные идеологемы», а так же: «правила, батюшки и лексика». (О.Петр и не заметил, как создал собственную «лексику»). И все это в отрицательном аспекте, и все это надо «взломать», преодолеть, сделать «второстепенным для личностной христианской жизни».<3.>
В примере с замечательным стихотворением Заболоцкого это бы звучало так: довольно нам крестящихся бабуль, поминального хлеба и крашеных яиц; подавай сотни кричащих труб, гром и звезды с неба!
Появление специфической отрицательной терминологии с сильным мифологическим элементом (ибо идея преподносить расцерковление как «выздоровление» и «внутреннюю эмиграцию» - это мифотворчество) является, как известно из исторического опыта, предвестником бунта. Так создавались и разогревались, например, в своё время мифы о порочности самодержавия и т.п.
«Главное призвание и дело дьявола в мире - критиковать Божие творение и отрицать его, - пишет преп. Иустин (Попович), - в сущности, дьявол первый критик и основатель критицизма». <4.>
У Мещеринова длительный период пристрастной и раздвоенной критики Церкви вступил в диалектически закономерный этап революционного отрицания. Обвиняя Церковь в идеологичности, он сам создает новую нигилистическую идеологию в слишком нам знакомом анархическом тоне с агитационными призывами «взламывания субкультуры», «внутренней эмиграции» и т.п.
Нас нисколько не удивила эта диалектика падшей свободы у Мещеринова, им самим не понятая, но давно уже открытая Достоевским и развитая русской философией. Но наиболее интересно об этом почитать у духовного наставника Мещеринова - о. Александра Шмемана.
«Сам принцип авторитета как чего-то внешнего для человека есть, таким образом, результат падения, плод его отчуждения от истинной жизни. Но тогда и свобода, которую этот авторитет утверждает как область своей компетенции и как своего непременного двойника, есть тоже «падшая», негативная свобода, свобода противостояния и бунтарства, а не та онтологическая свобода, в которой человек был создан и от которой он отлучил себя в своем грехопадении. На самом деле это псевдосвобода, ибо в своей борьбе против одного внешнего авторитета она обусловлена и подчинена другому авторитету, который рано или поздно поработит ее. Иначе и быть не может, ибо негативная свобода, рожденная бунтом и протестом, не имеет собственного позитивного содержания и независимо от нового содержания, приобретенного в этом бунте, неизбежно становится новым «авторитетом» и очередной причиной все того же безконечного процесса».<1.>
Мы с горечью вынуждены «поздравить» игумена Петра с включением в этот древний и безконечный процесс восстаний и падений, революций и контрреволюций, реформаций и реакций.
И подобно тому, как Кириллов у Достоевского борется с последним авторитетом, смертью, и доходит до крайней степени самоотрицающей свободы - самоубийства, заявляя: «Кто смеет убить себя, тот Бог», так и Мещеринов, трагически ведомый диалектической необходимостью на пути отрицания, но не в области этической, а экклезиологической, предполагает стать самому себе церковью, фактически отрицая Церковь под видом «взламывания» церковной субкультуры. Он хочет убить обряд, правила, устав и обрести свободу. А это по сути кирилловская мысль. Кириллов убил себя, но вместо божественного безсмертия обрел безчестие. Протестантизм, отвергнув обряд, - утратил благодать.
Мы предвидим возражение, что Мещеринов все же не предлагает совершенно по протестантски уничтожить обряд. Да, но он предлагает анархическое отношение к обряду и уставу: «устанавливать под себя(!) свою меру постов, служб, подготовки к причастию,...критически оценивать те или иные высказывания Отцов,... и даже в известной степени отстраняться от груза церковной истории, воспринимая Церковь скорее личностно, чем исторически».<3.>
И вот оно - опять раздвоение, западная убийственная дихотомия, разрыв между личностным пониманием Церкви и историческим. Как это противоречит откровениям русской философии истории: «История дана нам не извне, а изнутри»!<5.> Наивысшим восприятием Церкви является онтологический синтез её исторического и мистического измерений, Предания и Откровения. Исторический опыт Церкви мы должны пережить как глубоко личный опыт, иначе история вообще и история Церкви в частности действительно лишается смысла, начинает мешать, раздражать, тревожить своевольное сознание.
Шмеман и здесь, в отличие от Мещеринова, утверждающе-позитивен, предлагая рассматриваемую дихотомию разрешать с помощью православного Предания: «Вот почему решающее значение здесь приобретает опыт святых, которые названы в одном богослужебном тексте «провидцами» Духа».<1.>
Но вернемся к наблюдению об анархическом разрушении обряда, традиций и церковного устава под видом борьбы с «субкультурой», которое на самом деле мало отличается от протестантского отказа. Нет, оно, пожалуй, отвратительнее. Ибо у Лютера были, по крайней мере, весомые причины и мотивы в критике католичества, пораженного авторитарностью и непомерной жаждой власти.
Мещеринов желает лишить Церковь Воинствующую устава и организации, которыми веками жила и боролась Церковь, бережно охраняя и глубокую внутреннюю личную свободу христианина.
Как бы мы посмотрели на какого-нибудь военного начальника, если бы он предложил солдатам самим определять меру устава, т.е. «взломать» воинский устав, ведь и армия имеет свою «субкультуру»? Впрочем, подобное «взламывание», без объявлений, в армии уже происходит. Как и во многих других сферах, например, в образовании. Но это говорит лишь о том, что и в церковном обществе есть силы, готовые к анархическому реформированию под воздействием западного шизофренического раздвоения. Ибо та дихотомия, о которой говорил Шмеман, из области теорий и воззрений ныне перешла на Западе в плоть и волю. И последствия этому будут катастрофические.
Удивляет, как некоторые оправдывают революционные взгляды Мещеринова (и Шмемана то же, особенно - в его противоречивых до дерзости дневниках) авторской свободой и непредвзятостью суждений.
Свобода, как мы с вами убедились, бывает разная. Бывает падшая убийственная свобода, свобода Кириллова и Ставрогина, Раскольникова и Верховенского. И само зло имеет свою страшную свободу. Но разве свободой оно оправдывается? Все ложные учения уходящей эпохи: дарвинизм, ницшеанство, марксизм, фрейдизм, а так же ереси и сектантские учения - разве не создавались свободно?
В определенном смысле Мещеринов, которому так не хватает свободы в Церкви, этой свободой удачно пользуется, выдвигая дикую теорию «взламывания» церковной субкультуры, частью которой он сам парадоксально является.
Ветхозаветный Хам (не в нарицательном смысле) то же был свободен в своем неблагоговейном отношении к Ною-отцу (читай - к Церкви). Но есть диалектические пределы падшей свободы, которая оборачивается проклятием рода.
Мы же полагаем, что неловкость Ноя не онтологична (в экклезиологическом смысле) и должна быть прикрыта благочестием детей. (Быт.9:18-27)
Николай Бердяев, мыслитель столь свободный и независимый, что невозможно его поставить в ряд апологетов православной традиции, тем не менее, при всей своей горячей любви к свободе, защищает необходимость закона. Поэтому его свидетельство еще более ценно. В редакции Бердяева дихотомия авторитета и свободы звучит как дуализм закона и благодати.
Бердяев считает, что пламенные и возвышенные слова Ап. Павла, направленные на борьбу с властью закона и раскрытие религии благодати («Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати») нельзя использовать для проповеди аномизма, т.е. совершенного отрицания закона. Законническая этика парадоксальна. «Христианство открывает благодатное царство, стоящее выше закона, по ту сторону закона. Но Христос пришел не нарушить закон, а исполнить. Те же, которые претендуют стать выше закона, легко могут стать ниже закона. Закон имеет дурное происхождение от греха, он изобличает грех, различает и судит, но бессилен победить грех и зло, он даже в обличении греха легко становится злым. И вместе с тем закон имеет положительную миссию в мире. Поэтому этика закона не может быть просто отвергнута и отброшена». (Выделено нами).<6.>
Не смотря на то, что «этика закона есть этика дохристианская», она «есть вечное начало, которое признает и христианский мир, ибо в нем (в мире) грех и зло не побеждены».<6.>
Последняя мысль очень важна, ибо именно эта падшесть и греховность мира и человека и является главным обоснованием необходимости закона, порядка, устава, обряда, авторитета Отцов, послушания духовникам и т.д. - всего того, что предлагает «взломать», преодолеть и критически отсеять Мещеринов. Он выстраивает свою экклезиологию для христиан чистых, непорочных и преодолевших свой грех, способных жить по благодати, а куда же деваться нам, грешным?
Какое место в предложенном учении Мещеринова займут те простые, но недалекие бабушки и дедушки, исполненные искренней веры, о которых есть церковная присказка. Идут бабули из храма и, значительно так, говорят: «хорошую проповедь произнес батюшка, все про одеяла, да про одеяла». А священник говорил на самом деле про идеалы христианской жизни.
С другой стороны, не воспользуются ли интеллектуальные, но не добросовестные христиане, - с жадностью последней надежды своей несостоятельности, - этой ложной и соблазнительной идеей «свободного» ухода «в частную жизнь от зазора между теми или иными сторонами современной церковности и подлинностью Христовой Церкви». <3.> И если этот Мещериновский «зазор» и существует, то не виноваты ли в нем и сами «эмигрирующие»?
Так было и в русской революции, которая совершалась по выражению того же Бердяева «во имя Маркса, но не по Марксу».<7.> В революцию влились не только те умы, что создали нигилистическую теорию оправдания бунта и насилия, но и всякое ничтожество, кто был ничем и получил такую «благую» возможность стать всем. И даже сами умы ужаснулись тем, какие мистические силы были вызваны из преисподней их ложной теорией и «свободным» бунтом. Ужаснулись, но было поздно, и сами они были уничтожены воплощенным адом.
Бунтарская идеология Мещеринова призвана породить таких же анархистов духа, насильников церковного устава, самодовольных разрушителей традиций, активных борцов с обрядоверием во имя «здравого и живого процесса возрастания верующего человека в самостоятельную и ответственную христианскую личность, который сам становится Церковью - членом Тела Христова, и для которого все, что содержит Церковь, является подручными инструментами, средствами для жизни во Христе, которыми он полноценно распоряжается сам». (Выделено нами).<3.>
Снова мерещится тень сверхчеловека, воплощенного усилием Мещеринова в области экклезиологической и возомнившего себя самого церковью. Все, что есть в Церкви, отныне для мещериновского сверхчеловека является средством для самовольного распоряжения. Церкви отводится служебная роль. Все, как в известной сказке Пушкина, которая заканчивается полным крахом безумной старухи, повелевшей таинственной рыбке, - той, что была источником всех старухиных сверхъестественных благ, - перейти ей в услужение, быть на посылках.
Чувствуя великую правду Пушкинской сказки, тем не менее, нам не всегда было по-человечески понятно, как могла старуха до такой наглости дойти. Теперь понимаем, что предел диалектики падшей и жадной до ненасытности свободы есть предел саморазрушения.
Диалектика падшей свободы по Шмеману свершилась на Мещеринове, начавшись на самом Шмемане, который не смог избежать влияния западной дихотомии, действующей на сознание скорее как дух, нежели как традиция.
Мы далеки от того, чтобы полагать Русскую Православную Церковь вне всякой критики. Качество и содержание церковной жизни в России неоднородно и неоднозначно. Вопрос не в том: быть или не быть критике, а в том, какова должна быть эта критика.
Господь наш Иисус Христос и здесь дал нам достаточно примеров целостного мировоззрения. Спаситель никогда не требовал восставать против авторитета тех же законников, книжников и фарисеев, тем более что некоторые из них стали его учениками. «Что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте». (Мф.23:3).
Критиковал ли Христос Ветхозаветную Церковь? - Безусловно! Но направляя Свое грозное обличение «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры...» (Мф.23:13-36) на членов Церкви, Господь утверждал и Церковь, и Закон неповрежденными: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». (Мф.23:1-4).
Закон должен быть не «взломан» и преодолен, но исполнен. (Мф.5:17-20). Евангельское учение Спасителя, по сути свободное и благодатное, в истории христианства неизбежно обретает форму Закона. Наша задача: не впасть в противоречивый дуализм Евангельского Закона и Евангельской Благодати, ибо это есть дуализм обреченного западного типа. Он неизбежно диалектически ведет и к разрушению Закона и к потере Благодати.
Закон и Благодать - одно. Утверждая Закон, мы сохраняем и ограждаем Благодать. Утверждая Благодать, мы рождаем Закон. Здесь, на земле, в мире греховном, раздвоенном и падшем иначе быть не может. Только на Небесах будет иначе, там и времени не будет, но будет любовь, благодать и радость, да и те будут как одно.
Мы тоскуем о разрешении в блаженной вечности земной раздвоенности, но и понимаем, что мыслимые нами «законы» небесной благодати невозможно, вот так просто, по одному благому желанию, спроецировать на мир земной и Воинствующую Церковь. Кто пытался в самозабвении это делать, - строить царство Божие на земле или Церковь Воинствующую сделать как Торжествующую, - сам потерпел крах и погубил многих.
Свобода и истина, обличая «праведную» неправедность, косность и лицемерие авторитета, готовы пожертвовать собой, но не другими. Истинная свобода и бунт - вещи несовместимые. Свобода на земле совместима только с жертвой.
Вот почему Христос заставляет Петра вложить меч в ножны и говорит, что «все, взявшие меч, мечом погибнут». (Мф.26:52)
С мечом можно и должно защищать святыни Отечества. Но святыню Божественной свободы можно спасти и утвердить только искупительной жертвой.
В подвиге самопожертвования нет, и не может быть, ничего дуалистичного, ибо это не продукт разума, а поступок любви и веры. В жертве поглощается все существо, а не часть его.
Проблема падшей раздвоенности и разобщенности не решается ни усилием разума, ни философией, ни богословием, но преодолевается только жертвой любви и глубоким смирением сердца.
Священник Александр Зайцев, Приозерское подворье Валаамского монастыря
27 мая 2011 г.
Примечания:
1. Александр Шмеман, протопресвитер: «Свобода в Церкви». Глава из книги «Церковь, мир, миссия». М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт.
2. Хомяков А.С. «Сущность западного христианства. По поводу брошюры г. Лоранси».
3. Петр Мещеринов, игумен: «В защиту расцерковления». Статья.
4. Прп. Иустин (Попович): «Достоевский о Европе и славянстве», перевод с сербского Л.Н.Даниленко. СПб.: Издательский дом «Адмиралтейство».
5. Николай Бердяев: «Смысл истории». М.: «Мысль».
6. Н.А.Бердяев: «О назначении человека», глава «Этика закона». М.: «Республика».
7. Н.А.Бердяев: «Истоки и смысл русского коммунизма». М.: «Наука».




























.jpg)