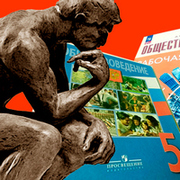«Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нём главную, основную мысль, – говорил Л.Н. Толстой. – Так в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную, в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года...». Но ведь семейная тема пронизывает от начала до конца и «Войну и мир». Вспомним поэзию семейных гнёзд Ростовых и Болконских, торжеством семейных начал завершается эпилог. Лучшие герои «Войны и мира» хранят в семейных отношениях такие нравственные ценности, которые в минуту общенациональной опасности спасают Россию. Разве можно забыть атмосферу родственного, «как бы семейного» единения, в которой оказался Пьер на батарее Раевского. А русская пляска Наташи и общее всем – дворовым и господам – чувство, вызванное ею! «Семейное» тут входит в «народное», сливается с ним, является глубинной основой «мысли народной», за которой скрывается ещё более глубокая мысль – «христианская». «Для нас, – говорит Толстой, – с данной нам Христом мерою хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Говоря о ключевой роли «мысли семейной» в «Анне Карениной», Толстой, очевидно, имел в виду какое-то новое её звучание. Роман открывается фразой о «счастливых семьях», которые «похожи друг на друга». Но «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Всё смешалось в доме Облонских». Не в родственном единении пафос нового романа, а в разобщении и в распаде семьи.
Что же является причиной семейной драмы? Вспомним сон Стивы Облонского ровно на третий день после ссоры с женой: «“Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: Il mio tesoro и не Il mio tesoro (моё сокровище – итал.), а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины”, – вспоминал он. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь».
Женщины в этом сне приравнены к маленьким графинчикам, отношения с ними исчерпываются чувственными наслаждениями. Взгляды Стивы на семью созвучны либерально мыслящим слоям его круга: «Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело».
В отличие от Стивы его сестра Анна не чуждается «высокопарных» слов: «Она постоянно повторяла “Боже мой! Боже мой!” Но ни “Боже”, ни “мой” не имели для неё никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для неё, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперёд, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для неё весь смысл жизни».
Алексей Вронский тоже «никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе». «В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твёрдым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, весёлым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться».
Мир, в котором живёт Анна, сравнивается Толстым с эпохой Рима времён упадка. Заражённый страстью к зрелищам и чувственным удовольствиям, он ненасытно требует для себя новых и новых острых ощущений. Таким жестоким зрелищем являются скачки, на которых присутствуют «государь» и «весь двор» – возбуждённая предстоящим торжеством праздная толпа. Во время скачек из семнадцати человек попадало и разбилось более половины. Одна из светских дам произносит при этом знаменательную фразу: «Волнует, но нельзя оторваться. Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка». Скачки с их соперничеством и катастрофическим движением по замкнутому кругу – символ современной цивилизации, сползающей в своей безумной круговерти на бездуховные, плотские пути.
Левин говорит Стиве Облонскому за обедом в фешенебельном ресторане: «Мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать своё дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы... “Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение”».
Погоня за наслаждениями с жадными, голодными глазами, дурная бесконечность роста этих наслаждений – вот смысл жизни общества, к которому принадлежит Анна. От дома Облонских, в котором «всё смешалось», мысль Толстого обращается к России, в которой «всё переворотилось…». «Развод» и «сиротство», крушение некогда устойчивых духовных связей – ведущая тема «Анны Карениной». На смену эпосу «Войны и мира» в этот роман настойчиво вторгаются трагедийные начала.
Анна сталкивается с тем, что уходя от государственного чиновника Каренина, принимающего за жизнь лишь бледные отражения её, она сталкивается с такой же человеческой нечуткостью аристократа Вронского, остающегося дилетантом и в живописи, и в хозяйственных начинаниях, и в любви.
Однако дело не только в этих внешних обстоятельствах, подавляющих живое чувство Анны. Дело в том, что само это чувство оказывается разрушительным и обречённым. Уже в момент своего пробуждения оно принимает демонический характер. «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своём простом чёрном платье, прелестны были её полные руки с браслетами, прелестна твёрдая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные лёгкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в её прелести. “Да, что-то ужасное, бесовское и прелестное есть в ней”, – сказала себе Кити» (здесь и далее курсив мой – Ю.Л.).
Неслучайно первое объяснение Вронского с Анной сопровождается разрушительной метельной стихией в Бологом. «Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, всё, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось всё больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. <…> Какие-то два господина с огнём папирос во рту прошли мимо её. Она вздохнула ещё раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как ещё человек в военном пальто подле неё самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. “Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?” – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на её лице. – Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе”. И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей ещё более прекрасен теперь».
Любовь Анны уже в самом начале напоминает сжигающую высокое её содержание бесовскую, «метельную» круговерть. «Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо её блестело ярким блеском; но блеск этот был не весёлый – он напоминал страшный блеск пожара среди тёмной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала её». Эта невидимая сила определяется Толстым как дьявольский «дух лжи и обмана», который овладел Анной с первых шагов её неверности мужу.
Купаясь в лихорадочно-жадной, испепеляющей страсти к Вронскому, Анна оставляет с Серёжей свои материнские чувства. В отношения с Вронским не входит добрая половина её души, остающаяся в прошлом, в бывшей семье. «Горе её было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главною причиной её несчастья, вопрос о свидании её с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины её страданья; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него всё, что касалось сына».
Часто высказывалась мысль о жестокости Каренина. При этом ссылались на слова Анны о нём как о «министерской машине». Но ведь во всех упрёках, бросаемых Анной своему мужу, есть субъективное раздражение. Это говорит о каких-то добрых чувствах к брошенному ею мужу. В преувеличенно резких суждениях о нём есть попытка тайного самооправдания. В полубреду, на пороге смерти Анна проговаривается о теплящемся в глубине её души сочувствии к Каренину: «Его глаза, надо знать, – говорит она Вронскому, – у Серёжи точно такие, и я их видеть не могу от этого...». В материнское чувство Анны входит не только любовь к Серёже, но и духовное влечение к Каренину – отцу любимого сына. Ложь её в отношениях с Карениным в том, что, порывая с ним, она не может быть совсем равнодушной к нему, как мать к отцу своего ребёнка.
Душа Анны трагически раздваивается: «Не удивляйся на меня. Я всё та же... – говорит Анна в горячечном бреду, обращаясь к Каренину. – Но во мне есть другая, я её боюсь – она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде».
Всем содержанием романа Толстой доказывает великую правду евангельского завета о таинстве брака, о святости брачных уз. Драматична безлюбовная семья, где приглушены или вообще отсутствуют чувственные связи между супругами. Но не менее драматичен и разрыв семьи. Жизнь с неумолимой логикой приводит героев к уродливой однобокости их чувств.
Эта однобокость особо оттеняется отношениями Левина и Кити: «Когда они пошли пешком вперёд других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зёрнами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала её к себе». И Левин наедине с нею, когда мысль о её беременности ни на минуту не покидала его, испытывал теперь «новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине».
Именно такого, свободного от чувственности, духовного единения нет между Анной и Вронским. Но без него невозможны ни дружная семья, ни супружеская любовь. Желание Вронского иметь детей Анна начинает объяснять тем, что «он не дорожит её красотой». В беседе с Долли Анна цинично заявляет: «...“Чем я поддержу его любовь? Вот этим?” Она вытянула белые руки перед животом».
В конце романа читатель уже не узнаёт прежней Анны. Пытаясь всеми силами удержать угасающую страсть Вронского, она поддразнивает его ревнивые чувства: «Бессознательно в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам Анна делала всё возможное, чтобы возбудить в них чувство любви к себе». Отношения Анны и Вронского неумолимо катятся к трагическому концу. Перед смертью она произносит приговор своему чувству: «Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим».
Нельзя не согласиться с Н.А. Некрасовым, который в известном четверостишии сказал:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.
– А ты помнишь мать? – спросил Серёжу его дядя, Степан Аркадьевич.
– Нет, не помню, – быстро проговорил Серёжа и, багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него.
Славянин-гувернёр через полчаса нашёл своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет…
– Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое! – обратился он уже не к гувернёру, а ко всему свету».
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук


















_иерей.jpg)