
Данная статья предлагается читателям в развитие дискуссии о будущем монархического движения в целях осмысления его легальных возможностей в условиях современного законодательного поля. Тезисы статьи должны были быть озвучены автором в Суздале на научно-практической конференции «Соборность – Державность – Самоуправление», что ему не удалось сделать по ряду объективных причин.
Восстановление традиционной русской державности несомненно является важнейшей задачей развития отечественной государственности. Такое право является не только историческим, но законодательно установленным в действующей Конституции РФ. Это право включает возможность легитимной, ненасильственной смены государственного строя и формы верховной власти.
Конституция РФ признает идеологическое разнообразие, что означает свободу политических убеждений и право на деятельность монархических организаций. Запрет распространяется лишь на смену государственного строя силовым способом, принудительно. Об этом прямо указывается в силу пункта 5 статьи 13 Конституции РФ: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
Таким образом, законным способом восстановления русской державности, одним из обязательных элементов которой является восстановление царского самодержавия в России, является мирный путь достижений коллективной договоренности при всенародной поддержке монархической идеи. В силу пункта 2 статьи 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как установлено пунктом 3 статьи 3 Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Иначе говоря, механизм смены формы правления устанавливается законом двумя путями. Учитывая общегосударственную важность вопроса, наиболее легитимным способом выражения воли народа в этом случае является референдум.
Пример применения такой формы выражения народной воли – недавний референдум 2020 г., которым были внесены изменения в Конституцию 1993 г. Была создана новая система власти, которая получила название публичной власти. Она объединила в руках гаранта Конституции государственную власть и власть местного самоуправления. То есть, перед нами заимствование и модернизация традиции русской державности, сформированной со времен Ивана IV. Конечно, это бледная тень системы царской власти российского монарха, но тенденция к единодержавности, без которой развитие нашего имперского, по сути, Отечества невозможно, явно просматривается.
Каковы условия референдума? Правом участия в референдуме РФ обладает каждый гражданин РФ, достигший на день его проведения 18 лет и обладающий активным избирательным правом. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гарантирует это право и устанавливает общие с выборами принципиальные основы организации и проведения референдума. Закрепляется свобода участия в референдуме, добровольность и тайность голосования, всеобщее, равное и прямое избирательное право, обладание каждым участником референдума одним голосом, гласность и участие общественности при проведении голосования и подсчете голосов. Порядок организации и проведения референдума во многом совпадает с порядком организации и проведения соответствующих выборов.
Механизм назначения и проведения референдума сильно регламентирован, хотя право на постановку вопроса о смене государственного строя не воспрещается, но и прямо не предусматривается. То есть, выбор повестки референдума остается за непосредственным выражением воли народа. Таким образом, законным результатом такого референдума может быть решение о необходимости смены существующей формы верховной власти на самодержавие, а форму правления определить как монархическую. То есть, в силу закона требуется публично подтвержденное всенародное согласие на коренное изменение государственного строя. Вопрос о выборе народом Царя на царствование с этим вопросом связан лишь опосредованно. Выборов монархии в России никогда не было, поскольку это в принципе неприемлемо, когда речь идет о легитимности Богоустановленной формы правления.
Спор о путях восстановления монархии. Сегодня наиболее сформированные политико-правовые позиции по этому вопросу занимают две группы монархистов. Условно их можно разделить на легитимистов и соборников. Друг от друга они отличаются, прежде всего, тем, что по-разному представляют себе реализацию права на смену формы верховной власти и порядок восстановления монархического строя в России. Сущностное содержание традиционной отечественной державности, при этом остается неопределенным у обоих направлений. Либо следует учесть порядок и условия российского престолонаследия, которые были определены в Основных государственных законах Российской Империи, либо пойти по пути избрания царствующей особы на Всероссийский Престол. Первый вариант невозможно осуществить в точности, поскольку условия, установленные Учреждение о Императорской Фамилии (УИФ) соблюсти в полной мере не представляется возможным, в частности, относительно условия о равнородных браках и Императорской Крови. Второй вариант чреват повторением последствий, которые имели место после вступления на Престол Бориса Годунова и Василия Шуйского, то есть, лиц, которые не имели кровного родства с правившей династией.
Тем не менее, легитимисты настаивают на безусловном, а некоторые на частичном учете правил о наследовании Престола в связи с изменившейся династической ситуацией после упразднения Российской Империи. Имеется в виду морганатические браки Романовых, которые в силу ОГЗ РИ были препятствием для восшествия на Престол. Соборники не исключают возможности отказа от поиска наследника Престола в роде Романовых и выбора монарха как из числа ныне здравствующих потомков Императора Николая II как последнецарствовавшего Государя, так и любого другого достойного, по их мнению, кандидата, даже если он не связан наследственными узами с правившей династией. Есть и третья группа. Это так называемые непредрешенцы, которые полагают, что все будет зависеть от будущих условий. При этом они не отрицают, что царская власть имеет в своей основе Божественное установление.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что перечисленные группы монархистов не усваивают различия между легализацией царской власти при восстановлении и ее легитимацией. Если легализация государственной власти подразумевает провозглашение правомерности ее установления, организации и деятельности, то легитимация – это явление иного порядка. Как пишет по этому поводу В.Е. Чиркин: «Легитимация может вовсе не иметь отношения к закону, а иногда и противоречить ему. Это процесс... посредством которого государственная власть приобретает свойство легитимности, т.е. состояние, выражающее правильность, оправданность, целесообразность, законность и другие стороны соответствия конкретной государственной власти установкам, ожиданиям личности, социальных и иных коллективов, общества в целом». Это определение по отношению к тем, кто именует себя легитимистами, дает возможность лучше понять их позицию и дать ей правовую оценку. Далеко не все из легитимистов вольно или невольно придерживаются закона о престолонаследии, излишне свободно трактуя его в силу своих политических интересов.
Если быть более точным в отношении того, кого легитимистами называют в современном российском монархическом движении, то это, прежде всего, сторонники восстановления династии Романовых в лице потомков Великого князя Кирилла Владимировича. Соборники прав Великого князя Кирилла Владимировича и его потомков на наследование российского Престола не признают.
Один из представителей современного легитимизма и одновременно глава канцелярии Российского Императорского Дома в изгнании А.Закатов определяет основные взгляды легитимистов следующим образом. Приведем несколько его цитат по этому вопросу, поскольку его позиция во многом характерна для легитимистов в целом. «Великий Поместный Церковный и Земский Собор 1613 года, – пишет А.Закатов в статье «О «большинстве» соборников в монархическом движении, – принес обет верности Михаилу Феодоровичу Романову и его потомкам «в роды и роды» (не оговаривая ни пола, ни процента русской крови и не вводя каких бы то ни было иных ограничений, кроме исповедания Православия). Поэтому в России не может быть монархии без Династии Романовых. А кому конкретно из членов Династии по мужской или по женской линии принадлежат права на ее возглавление и, соответственно, на престол в случае его восстановления, указывает четкий и стройный закон о престолонаследии, «не допускающий никакого места выбору между несколькими лицами царственного Дома» (не говоря уже о посторонних лицах, сколь бы ни были велики их таланты и заслуги)». Продолжая свою мысль, он добавляет, что «В этом суть легитимизма – подчинение воле Господней, принятие Государей, получающих Верховную власть по Божию произволению, по праву рождения. А не по «многомятежному человеческому хотению» (как выразился Царь Иоанн Грозный) и не по греховному, «лукавому и прелюбодейному», как говорит Спаситель, исканию знамения. Легитимисты четко понимают суть Царской власти – ее Богоустановленную отеческо-материнскую суть. Нельзя выбирать «царей», как нельзя выбирать родителей. И нельзя отвергнуть отца и мать, даже если мы с ними не во всем согласны, даже если они действительно в чем-то виноваты или заблуждаются. Поэтому, – делает он вывод, – если у монархии есть будущее, то оно связано только с легитимизмом, сколь бы малой ни была численность легитимистов на том или ином этапе истории».
С общим тезисом А.Закатова о том, что у монархии в России может быть будущее только с учетом правил о династическом престолонаследии, вполне можно согласиться. Также и в отношении того, что самочинно выбирать царей нельзя. Однако, этим следует ограничиться, поскольку за верным в общем мнением стоит неуместная апологетика исключительности прав династической линии Великого князя Кирилла Владимировича и его нынешних потомков на престолонаследие в роде Романовых. По мнению А.Закатова и его соратников, «Законные Главы Династии… не «претендуют» на престол. Они обладают на него ЗАКОННЫМ ПРАВОМ. Они хранят это ПРАВО и самим фактом своего существования оберегают его от любых претендентов. А если народ захочет возродить монархию, то они вступают на престол, реализуя бесспорное ПРАВО и исполняя свой ДОЛГ». Не повторяя сказанного ранее по этому вопросу, напомним лишь, что после убийства Царской Семьи и расстрела Великих князей российское престолонаследие в силу Основных законов Российской Империи перешло в женские линии Императора-родоначальника и ближайшей к Престолу наследственной линией стала линия великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II, идущая от Их отца Императора Александра III.
Учитывая это обстоятельство, вывод А.Закатова о том, что «если монархический принцип окажется вновь востребованным народом России, то монархия будет только легитимной, и на Престол взойдет, без всяких выборов и прочих политических комбинаций, законный Царь или законная Царица, обладающие правами и наделенные обязанностями в силу Утвержденной Грамоты 1613 года, закона о престолонаследии 1797 года и актов Глав Дома Романовых в изгнании, начиная с Государя Императора Кирилла Владимировича», выглядит необоснованным. То есть, нарушающим тот самый принцип легитимности, применения которого предусматривает соответствие выбранной правовой позиции закону о престолонаследии, на который А.Закатов ссылается.
Позиция тех, кого именуют соборниками, в основном сводится к тому, что выбор государя должен быть осуществлен на Земском соборе как основном условии восстановления монархии в России. Степени следования действовавшему на территории Российской Империи законодательству придается второстепенное значение. Главное, чему придается исключительное значение, заключается в условии о выборе Царя Земским собором. В этом состоит основное политико-правовое отличие соборников от легитимистов.
Далее варианты понимания, как духовной, так и правовой сторон этого вопроса внутри соборников расходятся. Различия зависят от их политических убеждений и связаны со взглядом на порядок «выбора царя» и определения его персоны. Одни полагают, что выбор должен быть осуществлен из числа лиц, принадлежащих к династии (Романовых, Рюриковичей) как носителей царского генофонда. Другая часть соборников отказывается принимать во внимание важнейшее условие, установленное в Учреждении о Императорской Фамилии, а именно условие о Императорской Крови, без соблюдения которого Основные государственные законы Российской Империи не признавали возникновения права на Престол. Вопрос о конкретизации формы верховной власти также остается дискуссионным. Явным и главным недостатком в позиции соборников является сама идея о праве народа на выбор Царя на Земском соборе, которая сводит на нет, понятие о Царской власти российского государя как Божественного установления, о чем достаточно подробно изложено в Святом Писании и разъяснено многими православными иерархами, включаю святителя Филарета Московского с его «Христианским учением о царской власти и об обязанностях верноподданных».
Восстановление самодержавия собором 1613 как возможный путь воссоздания русской державности. Обращение к исследованию событий, которые имели место на Соборе 1613 г., осознание его смысла как инструмента восстановления традиционной русской державности во главе с его важнейшим элементом – самодержавием, представляется не столь простым, как это может показаться. Дело в том, что произошедшее призвание Михаила Федоровича на Русский Престол до сих пор трактуется как его избрание Царем участниками собора – выборными от народа. Такой подход вольно или невольно порождает ложное представление о правомерности народовластия как источника царской власти русского монарха. Как следствие, возникает соблазн полагать, что в отличие от других соборов XVI-XVII вв., которые собирались русскими самодержцами и имели законосовещательный характер, Собор 1613 г. имел значение законодательного института верховной власти.
Исследование этого вопроса не может дать положительного результата, если стоять на почве разнородных светских учений о правопонимании, свойственных западной правовой культуре, когда «светский закон воспринимается или секулярно, то есть с выведением Бога за скобки (так как в секулярной парадигме, говоря словами Ницше, «Бог умер»), либо в своей минимальной корреляции с законом религиозным» (Гааз М. К вопросу о христианском подходе к правопониманию». Zakon.Ru 31.08.2020). И не более того.
Идея созыва Собора 1613 г., органически возникшая в народе как способ обращения к Богу за дарованием ему Царя, а также особенности правоприменения в ходе его работы, была полной противоположностью юридизированному европейскому правосознанию. Идея соборного поиска Царя стала следствием религиозного осознания необходимости восстановить верховную власть юридически неограниченного владыки, присущую русской исторической традиции. Здесь усматривается частичная аналогия с ветхозаветной просьбой евреев, когда они обрались ко Всевышнему с просьбой о даровании им Царя. И Царь был дан им Богом. Именно так произошло в 1613 г., если мы хотим увидеть сущностное содержание результата Собора 1613, отбросив поверхностную шелуху политических баталий и демократическую по своей сути ложь о народном избрании Михаила Федоровича.
С этой точки зрения, Утвержденная грамота 1613 г. не может быть охарактеризована как законодательный акт народа, выразившего таким способом свою волю к выбору верховного владыки. Выражение народной воли имело совершенно иной смысл. Им подтверждалась просьба к Богу как Царю Царствующих о даровании земного Царя Русскому народу и согласие с Его Божественным предназначением. Утвержденная грамота 1613 г. есть исключительный по своему содержанию религиозно-канонический и одновременно историко-юридический документ, который установил условием для восприятия русского Престола не имеющий аналогов способ поиска Царя. В Грамоте 1613 г. этот способ назван «государственным обираньем» Царя на русское Царствие.
Раскрытие существа этого вопроса предлагает нам картину, которая не укладывается в понятие о выборе монарха из предложенного числа кандидатов путем голосования, которое осуществляют выборщики, и подсчета большинства их голосов для определения партийно-политического выдвиженца, выигравшего избирательный тур. Избрание Царя путем простого выбора за счет арифметического суммирования большинства голосов, поданных в его поддержку, в то время было немыслимо. Этот путь, который особенно характерен для сегодняшнего времени демократических перемен, не согласовывался с представлениями русского глубоко религиозного средневекового правосознания, отвергавшего идею народовластия.
Утвержденная грамота 1613 г. вполне конкретно указывает не на выбор Царя, а на обращение к Богу за выражением Его воли: «Московского ж государства бояре, и воеводы и всё христолюбивое воинство, утвердившися на степени и свободившеся ото всех зол, и врагов веры своея победивше, славословие Богу воздавше о неисповедимом даре Его, и молив всемилостиваго Бога, и пречистую Богородицу и всех святых усердно со слезами, да просветит их сердца, еже бы просити, кому прияти скифетр Росийскаго царствия…». В соответствии с просьбой к Богу определяется и ход событий по призванию на Собор его участников, и именуется сам способ поиска Царя, фиксируется его кровнородственная связь с угасшей династией Рюриковичей: « И как изо всех городов всего Росийскаго царствия власти и всякий ерейский чин соборне, и бояре, и околничие, и чашники, и столники, и дворяне, и всякие служилые, и посадцкие и уездные всяких чинов люди, для государского обиранья, … Росийскаго царствия государем царем и великим князем, всеа Русии самодержцем, прежних великих благородных и благоверных Богом венчанных Росийских государей царей, от их царского благороднаго корени, блаженные памяти и хвалам достойнаго великого государя царя и великого князя Федора Ивановича, всеа Русии самодержца, сродичю, благоцветущие отрасли от благочестива корени родившуся, Михайлу Федоровичю Романову-Юрьеву; да приимет скифетр Росийскаго царствия».
Обстоятельство династической основы наследственного правопреемства как традиционной в этой связи отмечает Л.Е. Болотин. Он справедливо пишет, что «Утвержденная Грамота Московского Собора 1598 года не имеет прямых державно-юридических и литературных прототипов в предшествующей Русской истории. В первую очередь это объясняется тем, что, начиная с Великого Князя Игоря Рюриковича, сама ситуация с передачей Великокняжеской и Царской Власти не по родовому наследованию для Руси являлась небывалой» (Болотин Л.Е. «Державный Собор 1598 года»).
Нет сомнений, что политическая борьбы вокруг возможности занять Царский Трон была очень острой. На эту особенность Собора 1613 г. обращали внимание многие ученые. Например, А.С. Сороковиков пишет о том, что Утвержденную грамоту подписали лишь 277 человек из 700 выборных, причем последние из подписантов поставили свои росписи лишь спустя шесть лет. «Таким образом, видим, – добавляет автор монографии «Цивилизационный выбор России» (Владимир, 2022, с. 63) – при внимательном исследовании дела миф о единодушном избрании Михаила Федоровича в Цари, рассыпается как карточный домик».
Верное замечание А.С. Сороковикова относительно отсутствия политического единодушия участников Собора 1613 г. вполне оправдано, но сути проблемы не раскрывает. Не политическое противоборство было условием для вступления на Престол самого незначительного в этом смысле человека. Государственное обирание Царя шло не по пути выбора определенного лица из числа кандидатов, выдвинутых их сторонниками, а через отыскание того, кто отвечал бытовавшим в то время представлениям о человеке, которого поставляет Бог. «Выборное начало, – писал М.К. Дитерихс, поясняя разницу между государственным обиранием и выбором царя, – носит в себе все признаки человеческого, гражданского характера, почему и выявляется, главным образом, в том, что выдвигаются те или иные, по личным человеческим вопросам, кандидаты. Их баллотируют по политическим настроениям, и получивший большинство голосов признается как избранный народом. В нашем "единении мысли и утверждении в сердцах", основой всего является человеческое, не политическое начало, уже потому, что единение должно последовать полное и не в умах людей, не по политическим расчетам, а в сердцах – в источнике духовных, Божеских импульсов человеческого существа. Это явление высшего мистического порядка проявляется при первоначальном избрании, как истинное чудо, в исключительной обстановке и в исключительные времена, а не сухие выборы обыденных условий разума, по законам, установленным самим человеком. Наше "обирание" царя есть следствие религии, а гражданское "избрание", "выборы" – есть следствие политических условий и человеческих законов. Поэтому при "обирании" начинают не с выставления кандидатов, а с определения принципов, морально-религиозных и национальных свойств, которым должен удовлетворять тот, на кого могло бы пасть избранничество и Помазанничество Божье».
Таким образом, обирание царя на Русское царствие, которое нередко сводят к понятию обычных выборов, на самом деле, существенным образом от них отличается не только своей духовной природой, но и правовым смыслом. «Выборщики смотрят на избрание не как на право свое, но как на просьбу к законному наследнику принять престол, до того идея династического наследственного права пустила глубокие корни в сознание народа», – уточнял понимание этого вопроса еще в конце XIX в. известный российский юрист А.В. Романович-Славатинский.
Соборяне уповали на то, что Господь, – цитирую Утвержденную грамоту – «да просветит ихъ сердца, еже бы npocитi, кому прияти скипетръ Росийскаго царствия», быть Государем и Помазанником Божием. При этом, условиями для поиска такой особы можно найти в том же тексте Утвержденной грамоты. Поиск велся среди православных христиан, что очевидно из порядка и смысла обращения к единоверцам: «молив всемилостиваго Бога, и пречистую Богородицу i всъхъ святыхъ усердно со слезами...». Из обращения ко всем сословиям для прибытия на Собор «лутчихъ, крепких и разумных людей», видно, что пред ними стояла задача указать: «по колку человъкъ пригоже, для земского совету i для государского обиранья». Особо подчеркивалось, что царскую власть должен получить русский по происхождению Государь, близкий к угасшему царскому роду и при запрете вступления на Престол иностранцев и лиц инославного вероисповедания.
Вот что пишет о Соборе 1613 г. И.Солоневич: «Когда после Смутного Времени был поставлен вопрос о реставрации монархии, то собственно никакого "избрания на царство" и в помине не было. Был "розыск" о лицах, имеющих наибольшее наследственное право на престол. А не "избрание" более заслуженных. Никаких "заслуг" у юного Михаила Феодоровича не было и быть не могло. Но так как только наследственный принцип дает преимущество абсолютной бесспорности, то именно на нем и было основано "избрание". И для вящей прочности подтверждено происхождение новой династии от "пресветлого корени цезаря Августа". Ничего подобного в Византии не было» («Народная монархия», М., 2010. С.105). Действительно, говорить о принципе династического наследия во Втором Риме не приходится. Достаточно вспомнить, что из 109 императоров 79 заняли трон путем цареубийства.
В результате «государственного обиранья» на царство, российский Престол занял не видный политический деятель, не родовитый дворянин, а малоизвестный тогда 16-ти летний Михаил Романов, но имевший боковую родственную связь по женской линии с последними царствовавшими Рюриковичами. Михаил Фёдорович был старшим царским племянником, сыном старшего двоюродного брата царя Фёдора Иоанновича, что для первых Царей из рода Романовых служило важнейшим фактором легитимации воспринятой ими самодержавной власти. Царская кровь сыграла ключевую роль.
Недаром Павел I в УИФ назвал это условие обязательным для права занятия Всероссийского Престола, который есть выраженная в законе верховная самодержавная власть русского наследственного монарха. Ее отличительная черта, цитирую Солоневича (Там же, с 109), присущая ей с рождения, «заключается в том, что русская монархия выражает волю не сильнейшего, а волю всей нации, религиозно оформленную в православии и политически оформленную в Империи».
Теперь несколько слов о Утвержденной грамоте 1598 г., отразившей ход событий вокруг Собора, подтвердившего право Бориса Годунова на занятие Царского Престола. Как и Собор 1613 г., Собор 1598 г. нельзя признать органом власти, имевшим смысл законодательного учреждения. Более того, Утвержденная грамота 1598 г. по сравнению с Утвержденной грамотой 1598 г. имеет иной смысл. В ней и в сопутствующих ей документах не идет речь о поиске Царя, способного по своим, том числе, наследственным свойствам, воспринять верховную власть, поскольку «царство ваше вдовствует и отечество ваше сиротствует, пресветлый же превысокий царский престол плачет, сидящего на себе Царя царствующего не имый». Перед нами способ легализации и легитимации верховной власти конкретной и безальтернативной политической фигуры.
Утвержденная грамота 1598 г. отражает его в виде обращения к Супруге почившего самодержца Федора Иоанновича Ирине как к Царице, которая предпочла иноческий путь, с просьбой благословить на царство своего брата «Государя нашего Бориса Федоровича». Он именуется «Государев шурин и ближний приятель» по отношению к почившему Федору Иоанновичу. Другим основанием предизбрания Годунова на Царство Грамота называет «глас народа глас Божий», «о нем же Бог во ум положит». Указывается также на поддержку Бориса священноначалием, а также со стороны «Царского синклита всяких чинов и царства Московского служивые и всякие люди».
Нельзя не заметить, что обе Грамоты 1598 г. и 1613 г. не имеют признаков, характерных для современного понятия о законе, который с высоты своего властного значения регулирует поведение субъекта права. Грамоты лишь констатируют Божественный выбор царствующих особ, подтверждая приверженность участников Соборов Господней воле. При этом, Грамоты не устанавливают для царствующих особ никаких прав и обязанностей, что могло бы свидетельствовать о верховенстве воли участников собора. Это не «крестоцеловальная запись» Василия Шуйского, конкретно определявшая пределы прав царствующего государя, что само по себе указывало на ее юридическое верховенство, а также на законодательно оформленные преимущества лиц, о которых в ней шла речь.
В заключение следует сказать следующее. Во-первых, воссоздание самобытной русской державности должно идти исключительно в направлении возврата к самодержавию как единственной традиционной и легитимной форме верховной власти в нашем дорогом Отечестве. Следуя по этому пути, во-первых, – поиск лица, которое может воспринять Царский Венец и занять Российский Престол, несомненно, связан с Божьей волей и готовностью народа ее принять. Одновременно, следует констатировать тот очевидный факт, что сегодняшний уровень монархического правосознания оставляет желать лучшего. Он еще непригоден для практических шагов в направлении активного восстановления традиционной формы верховной самодержавной власти в России, истоком которой было княжеское единодержавие русских государей, прошедшее сложный путь своего развития, и к середине XVI в. ставшее Царским самодержавием. Однако, это лишь временное состояние, которое медленно, но явно меняется.
Во-вторых, следует иметь в виду, что традиция Царского самодержавия как важнейшего элемента русской державности не исчезла. Уже тысячу лет Русский народ причащается Святых Христовых Таин, сберегая в своем сердце неразрывную связь со Спасителем и удивительную чистоту национального генофонда, сохраняет верность православию и его учению о Царской власти как Богоугоустановленного учреждения во главе с Помазанником Божьим. Признать, что Утвержденные грамоты 1598 г. и 1613 г. являются законодательными актами, выражением законодательной воли участников соборов на выбор Царя, означает признать легитимность института народовластия вместо Божественного установления, даровавшего нашему Отечеству самодержавие как традиционную форму верховной власти в России.
В-третьих, требуется осознать, что обладающий исключительным наследственным государственно-каноническим правовым статусом Императора Всероссийского русский монарх располагает юридически неограниченной верховной самодержавной властью, отвечая за свои поступки только перед Создателем и Царем Царствующих. Все это вопреки длившемуся 250 лет азиатскому нашествию, постоянной западноевропейской военной, политической и экономической экспансии, не прекращающейся подрывной деятельности в области религии и активного навязывания чуждого нам формально-секулярного понимания права и государственного бытия, лишенного понятия справедливости. Все это, несмотря на внутренние нестроения, вызванные насильственной сменой формы правления 2(15) марта 1917 г. и последующим злодейским убийством Государя Императора и Его Августейшей Семьи. Все это наперекор большевистским репрессиям, гонениям на Церковь и нынешнему засилью либеральной инородной олигархии, губящую историческую российскую государственность.
Уже по этой причине монархия для России в ее конституционном варианте будет лишь профанацией, входящей в непреодолимое противоречие с русским генетически православным правосознанием, с русской идеей, воплощенной в парадигме Третьего Рима и Удерживающего, с тем, что «русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов», как говорил И.Ильин.
В-четвертых, рассуждая о воссоздании русской державности, следует также понять, что восстановить в России можно лишь самодержавную монархию и никак не конституционную, которой в нашей Отчизне никогда не было. Серьезно относиться к заявлениям о том, что изменения в Основных государственных законах Российской Империи начала ХХ в. привели к установлению конституционной монархии, можно только наслушавшись либерально настроенных ученых и публицистов, принимающих желаемое за действительное. Ни духовная, ни правовая природа царской власти российского монаха в результате смены законодательных формулировок, предоставивших Государственному совету и Государственной думе законосовещательную функцию, не изменились. Недаром Основные государственные законы Российской Империи начинаются с формулировки существа царской власти (ст. 4 ОГЗ 1906 г.): «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает». В этой краткой формулировке Царственного законодателя заложен глубокий смысл, раскрывающий самобытный характер исторической русской державности и ориентир для ее будущего развития.
Георгий Павлович Шайрян, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления»













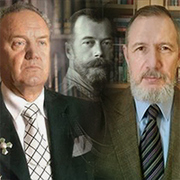

















4. Ответ на 3, Закатов:
3.
2. Ответ на 1, Закатов:
1.
Тогда он поймёт, что потомки Великой Княгини Ксении Александровны никоим образом не могли иметь преимущества перед потомками мужских линий Российского Императорского Дома, как не имели его родные дочери Св. Императора Николая II Страстотерпца свв. Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия Николаевна перед Великим Князем Михаилом Александровичем и следующими линиями мужских потомков.
Главное, это настолько просто понять, что становится грустно и обидно, когда хорошие люди, несомненно стремящиеся ко благу, становятся заложниками совершенно нелепых тезисов и выстраивают на них «концепции», засоряющие обшественное сознание.