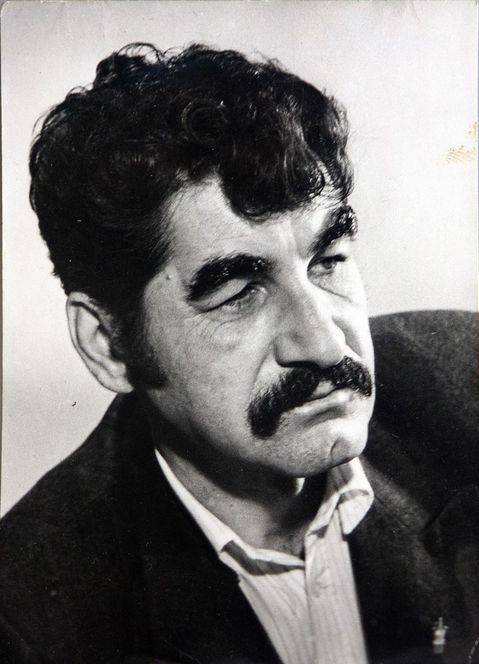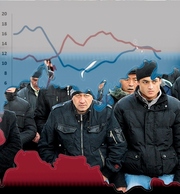Мы живём, под собою
Не чуя страны…
Осип Мандельштам
Я тогда же навсегда выбрала… чёрное,
а не белое: чёрную думу, чёрную долю,
чёрную жизнь.
Марина Цветаева
«Стихи быт перемололи и отбросили…»
Есть поэты, писатели, которые воспринимаются и помнятся, прежде всего, своей биографией и судьбой. Трудной, трагической судьбой. Не столько собственно своим творчеством, сколько судьбой. Несмотря на то, что судьбы русских поэтов, как правило, трагичны и загадочны. Не только в силу самой природы поэтического творчества – постигать и выражать то, что многим неведомо. Видеть мир с такой стороны, с какой он другим невидим. Не только по причине того жестокого времени, той эпохи, в которой им довелось жить. Но и потому, что в их творчестве, в их судьбе, в том образе мира, который они являли, было нечто, что предполагало именно такое их восприятие. Причём, так они воспринимались и их современниками, и последующими поколениями.
Именно таким поэтом была Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). Она родилась в семье учёного-филолога, подвижника культуры, создателя Музея изящных искусств Ивана Владимировича Цветаева. Мать – Мария Александровна, урождённая Мейн была женщиной образованной, музыкально одарённой. Но заболев чахоткой, рано умерла, оставив глубокий след в судьбах своих детей – Марины и Анастасии.
В связи с болезнью матери, лечение которой требовало более теплого и мягкого климата, пришлось жить в Италии, Швейцарии, Германии, где сестры учились в частных пансионах.
Марина Цветаева росла в культурно насыщенной среде, как она представлялась и понималась тогда в широких слоях образованной части общества. В ней рано проснулась склонность к поэтическому творчеству, рано определились черты характера, которые остались неизменными всю её короткую и бурную жизнь. Как писала Анна Саакянц, «в жизни юная Цветаева была диковата и дерзка, застенчива и конфликтна». И – предельно эгоистична.
В 1910 году, в восемнадцать лет она выпустила свою первую поэтическую книжку «Вечерний альбом». Конечно, в этих первых стихах был ещё неопределённый порыв, книжность и бравада, как это бывает обыкновенно вначале, даже у больших поэтов:
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой.
Весной 1911 года, не окончив гимназии, она едет в Крым, в Коктебель к Максимилиану Волошину, своему старшему другу, который первым поддержал её и, собственно, благословил на поэтическое поприще. Видимо, в нём её привлекала образованность, его проницательность, но более всего то, что они были родственными душами. Как она позже писала в очерке о нём «Живое о живом», это был «французский нерусский поэт», «в его физике не было ничего русского». Он так и жил, «головой, повёрнутой на Париж». Так ли он жил в действительности, и это ли определяло его творчество – другой вопрос. Нам важно то, как воспринимала его разностороннюю личность молодая Цветаева.
Её привлекало в нём именно это «воссоздание Парижа», то, что первая его книга была «на добрую половину чужестранная». Словом, ей близок был этот «француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью». Это было какое-то всеобщее увлечение, поветрие, страсть, что потом выражалось и в её стихах;
Торжественными иностранцами
Проходим городом родным.
И главное – такая «чужестранность» у себя на родине являлась предметом гордости, «торжественности» и положительной оценки. В то время, как не по таким аномальным, а нормальным человеческим представлениям подобное положение может вызывать тревогу, как предчувствие беды и боль:
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
С. Есенин.
Таково было мнение в кругу людей образованных, что истинным и подлинным почиталось «иностранное». Умами и душами владело не столько стремление к истине, сколько соответствие этому образцу как якобы безусловному. Это считалось признаком образованности, ума, было даже некой бравадой. В этом, надо полагать, был «героический пыл…». Своё же родное не то, что не принималось, но просто не замечалось. Словно его и вовсе нет. Всякий же, кто пытался выйти из этого сомнительного амплуа, «поправлялся» общественным мнением беспощадно. Причём, это увлечение не носило признаков трагичности, но воспринималось легко и просто. Даже как-то беззаботно. Ведь тогда ничего не предвещало катастрофы страны, трагедии народа, общества, личности. Мир казался таким незыблемым. Его крушение было невозможно, потому что этого не могло быть никогда…
Там же, в Крыму, в Коктебеле Марина Цветаева познакомилась с Сергеем Эфроном, своим будущим мужем. Сергей Яковлевич был сиротой. Родители его были революционерами… Впрочем, и более ранние предки его были подвержены революционной «политической заразе»: «Прадедушка был почетным раввином, но зато дед и бабка всегда были известны как отъявленные революционеры», «скомпрометировали своё доброе имя, участвуя в заговорах против режима» и им «пришлось бежать за границу» (Анри Труайя, «Марина Цветаева», М., «Эксмо», 2003).
В январе 1912 году Цветаева и Эфрон поженились. Свадебное путешествие совершили, конечно же, во Францию и Италию. В этом же году Марина Цветаева выпустила второй сборник стихотворений «Волшебный фонарь». Не в пример первой эта книга была встречена довольно холодно. Николай Гумилёв высказал пожелание поэтессе «избавиться от декадентской ребячливости»…
В августе 1913 года умер её отец Иван Владимирович. Но то сиротство, которое сопровождало её всю жизнь, имело не кровную и не семейную природу, но духовную: «Как нежный шут о злом своём уродстве,/ Я повествую о своём сиротстве…». А как и почему оно зарождается в человеке, это никому неведомо. Одни скажут, что причина протеста и отчуждения от родства кроется в строгости детского воспитания, другие, – что это следствие социального и иного притеснения – и все будут правы и неправы, ибо ничем поверить и измерить это невозможно. Это можно лишь заметить в человеке и проследить, как оно сказалось в его судьбе. А, может быть, так отозвалось в ней то, что происходило тогда в российском обществе, когда дух отрицания и нигилизм охватывали очень многих, обнажая неблагополучие. И прежде всего – в умах и душах людей.
После революции 1917 года Марина Цветаева, как и все, переживала «вражду вселенскую». В середине мая 1922 года она с девятилетней дочкой Алей уезжает за границу, к мужу Сергею Яковлевичу Эфрону, который, как участник Белого движения оказался в эмиграции. Удивителен этот её отъезд за границу в условиях жестокой классовой борьбы. Было ли это обыкновением, чтобы жену белого офицера отпускали к мужу, находившемуся в эмиграции?.. Сначала – в Берлин, потом – в Чехию, где Сергей учился и получал стипендию – пособие за счёт золотого запаса, вывезенного в Гражданскую войну из России.
В феврале 1925 года у неё рождается сын Георгий. В ноябре 1925 года Марина Цветаева с детьми переезжает во Францию, в Париж. Во Франции она прожила тринадцать с половиной лет. Там заявила о себе как об оригинальном поэте. Но эмигранткой и фактически, и по существу так и не стала. И не только потому, что не сошлась с эмигрантскими литературными кругами. Она и не могла с ними сойтись по буйству своего характера и протестной ко всему натуре. Она везде чувствовала себя лишней и ненужной – и на родине, и в любой эмиграции. Она была эмигрантом не страны, а мира…
Но такая её отстранённость от своего времени, вовсе не значит, что она его опережала, как пишут иные её почитатели. Не было это уже и обыкновенным банальным эгоизмом. Ведь она умела ценить поэтический дар в других людях. А это говорит о многом.
Такая не то, что неуживчивость, но отстранённость от реальной жизни доставляли ей немало переживаний и терзаний, понуждая её, как человека безрелигиозного и неверующего «прорываться» в некие астральные сферы. Но поскольку каждый человек, как существо духовное, не может жить без веры, то можно сказать, что у неё была своя вера – без Бога, не христианская и не православная, а своя. Это главным образом определяло и её творчество, и её судьбу.
В марте 1937 года дочь Марины Цветаевой Ариадна, видевшая в России строительство нового, неведомого до того мира, возвращается на родину. Муж Сергей Яковлевич, напряженно размышлявший о происходящем в России и в мире, тоже связывал свою судьбу с родиной. Он увлёкся «евразийством», проводил большую работу по популяризации этого философского и общественного течения. «Евразийство», так же как и «сменовеховство» в перспективе имели большое значение для самоопределения России. Но в условиях всё ещё продолжавшейся идеологической борьбы могло быть истолковано, да и истолковывалось, как антисоветская деятельность. С. Эфрон принимал активное участие в деятельности Союза возвращения в СССР. Поступил на службу в НКВД, стал «разведчиком». После одной не вполне удачной политической акции, получившей широкую огласку, ему пришлось спешно и тайно уезжать в Россию. Марина Цветаева осталась во Франции одна. Она прекрасно понимала, о чем писала в стихах, что прежней страны нет, и её прежней нет, что там, в России её ждут ещё большие испытания и терзания, чем за границей. И тем не менее, она возвращается в Россию. Как она оказалась в эмиграции, поехав вослед за мужем, так и вернулась в СССР вослед за ним… Это многое говорит о её любви и привязанности к Сергею Эфрону.
18 июня 1939 года Марина Цветаева вместе с сыном Георгием вернулась в Москву. То, что она здесь встретила, повергло её в полную растерянность. В августе была арестована дочь Ариадна. В октябре – муж Сергей Эфрон. Начавшаяся Великая Отечественная война, видимо, представлялась ей неким мировым эсхатологическим катаклизмом, крушением всего мира. Потеряв всякий смысл жизни, она в эвакуации, в Елабуге 31 августа 1941 года покончила с собой.
Такая трагедия, такая драма личности, конечно, не может быть объяснённой лишь какими-то бытовыми причинами или социальным неустройством. Не может быть объяснённой и политическими причинами. Такая драма может быть понята вполне лишь, с точки зрения духовно-мировоззренческой. И тот, кто сводит эту трагедию лишь к внешним позитивистским представлениям и политическим причинам, вольно или невольно искажает и облик Марины Цветаевой, и характер её дарования, занявшей своё место в русской литературе.
Её последователи старшего поколения главной особенностью её творчества и её судьбы признавали именно это мучительное сиротство. К примеру, Белла Ахмадулина («Божьей милостью», «Литературная газета» № 1, 1992). Отмечали её томительное одиночество, как она сама его понимала: «Ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, – без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато – а за то – всё». Исследователей же последнего времени в Марине Цветаевой привлекает, прежде всего то, что она – поэт вызова и бунта, «поэт-бунтарь, бросающий вызов времени, мирозданию, Богу», то есть, привлекает больше идеологическая и даже политическая составляющая, которая бесполезна в постижении поэтического мира, идёт мимо него. Таким подходом, а также «биографическим моментом» предлагается ликвидировать «белые пятна» её наследия, так как признаётся, что «Цветаева до сего дня остаётся поэтом не понятым и непрочитанным», «мысли цветаевских стихов остаются скрытыми» (Наталья Громова).
Необязательность такой «методологии» в постижении мира поэта очевидна. О ней писала и сама Марина Цветаева в «Истории одного посвящения»: «Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто – когда – где – с кем – при каких обстоятельствах и т.д. Как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах – живой, по существу далёкий?»
Действительно, поэт остаётся живым только и исключительно в стихах, а не в миновавшем быте. Но не слышащие этого исследователи всё-таки собирают «отсевки» жизни. Зачем? Это довольно очевидно. Не затем, чтобы подняться, дотянуться до поэта и понять его мятежную душу, а чтобы невольно свергнуть его с высоты, на которой он находится, и поставить с собой рядом, в быт. С тайным и мелким удовлетворением: он такой же, как и мы. Нет, не такой, совсем не такой, даже и в падении своём. Не говорю, что это делается из расчёта и умысла. Видимо, зачастую безотчётно. Как непроизвольно и стремление не постичь поэта, а включить его в круг своих земных дел и делишек, в круг своих мировоззренческих и идеологических предпочтений. К сожалению, такое умаление Марины Цветаевой теперь довольно распространено. Сделать её своим союзником в каком-нибудь идеологическом стане. Конечно же, для своего оправдания её именем. Тем самым признаётся, что поэзия исчерпывается идеологией и сводится к ней. Но это ведь абсолютно не так. И вот даже, вроде бы, филологов, людей, называющих себя литераторами, писателями, больше волнует «биографический момент», её вызов Богу и бунт, понимаемый исключительно как социальный, а то и политический. А не тот ликующий и негодующий бунт души, которым болела и мучилась Марина Цветаева.
Даже такой осмотрительный критик как Ал.Михайлов, в своё время представляя М.Цветаеву на страницах редактируемого им журнала «Литературная учеба» главным достоинством её поэзии и её личности выделял бунтарство: «Бурный темперамент, обнажённая страсть, бунтарский дух». И в согласии с нравами своего времени это бунтарство переносил из сферы духовной в пресловутую «социальность»: «Трагическая несовместимость Цветаевой с обстоятельствами жизни обрекает её на одиночество». («Литературная учеба» № 11, 1986 г.). А сближение её с Аввакумом носит и вовсе ритуальный характер: «Она в какой-то мере воплотила в себе многие черты русского национального характера, те его черты, которые прежде всего сказались и в Аввакуме…» Прекрасная в своём стоицизме личность Аввакума всегда привлекала людей с революционным сознанием. Привлекала именно своей неистовостью, так как бунтарство для них самоценно, вне зависимости от того, против чего оно направлено. А потому и «не замечается», что неистовость Аввакума направлена не на отрицание веры, а на отстаивание правой веры. Аввакум отстаивает правую веру ценой жизни, Цветаева отрицает Божеское устройство мира. Какое же тут может быть сближение?
Но такой, исключительно «социальный» подход в оценке поэзии всё ещё преобладает: «Не горе, что не пожелала/ Дурной эпохе стать служанкой» (Диана Кан). То есть, надо полагать, её разлад с людьми, обществом, миром – от несовершенства мира и от её личного совершенства. Но бунтовать она начала изначально, с детства, до «дурной» эпохи, которую встретила уже взрослой. Так что дело вовсе не во внешних обстоятельствах и не в среде, которая «заедает» тех, кто уже готов к этому…
Взяв такую исключительно «социальную», позитивистскую парадигму, можно дойти до суждений, абсолютно не соответствующих реальности: «В жизни своей, как в стихах и в прозе, М. Цветаева восстаёт против лжи, косности, нежизни, иными словами, против всех понятий, заслоняющих подлинный образ Бога Творца» (Н. Лосская). Никаким образом она не восставала против социальной несправедливости. Она утверждала себя. А если «восставала», то в ветхозаветном смысле, как «восставал» против Бога Каин. К такому представлению о М. Цветаевой как о поборнике справедливости и веры можно прийти, если почитать всякий бунт величиной положительной. Но это ведь не так. Каин бунтует против Бога не затем, чтобы обличить его «косность» и не затем, чтобы «исправить» его творение. Но – без причины, так как не бунтовать он не может, ибо это – форма его проявления себя, способ заявить о себе в этом мире. Тут права всё-таки сестра М.Цветаевой Анастасия Ивановна: «Марину сгубило неверие в Бога». Впрочем, на соотношении воззрений М.Цветаевой с библейскими представлениями мы ещё остановимся.
А потому, мы не станем пересказывать её биографию, теперь уже хорошо известную. Не станем строить домыслы о том, что остаётся сокрытым за тем или иным фактом. Не будем пускаться в подробности её такой запутанной личной жизни, подверженной страстям и прихотливым поворотам. Не станем считать её человеческих увлечений, как традиционных, так и нетрадиционных, так как всё равно собьёмся в счёте и услышим её живой укор: «Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счёте?» Нам ли судить об этом? Кто без греха, пусть бросит в неё камень…
О Марине Цветаевой, по сути, невозможно говорить лишь с точки зрения похвалы и оправдания её, как это часто бывает, или – порицания её. И то, и другое может оказаться неправдой. Её надо объяснять. Тем более, что она сама давала для этого повод, «заставляя читателя расшифровывать смысл», «возлагала на читателя непосильный, а принципиально не возлагаемый труд – расшифровывать словесную темноту… Нельзя сказать, чтобы читатель Цветаевой не был вознаграждён за свой труд. Напротив: хорошо поработав, почти всегда открывал в стихах Цветаевой прекрасное…» (Владислав Ходасевич). Настало время говорить о Марине Цветаевой, этом «одарённейшем и несчастнейшем человеке» (Г. Адамович) не только через факты её биографии, но прежде всего через выражение её души, то есть, через творчество, которое было для неё превыше всего, даже самой жизни. Каким представлялся ей образ этого мира в революционную, переполненную трагедиями, жестокую эпоху, в которую ей довелось жить. Что в её творчестве было от этой эпохи, а что от дарования. Настало время искать ответы в её душе, в её стихах, и в её прозе, а не вовне, где их нет. Ведь эти строчки А. Блока справедливы к каждому истинному поэту: «Но есть ответ в моих стихах тревожных, их тайный жар тебе поможет жить». В конце концов, не ради же праздного любопытства и досужего интереса мы обращаемся к такой непростой, в общественном сознании ещё далеко не проявленной и не уяснённой судьбе Марины Цветаевой. Но и не для пресловутой какой бы то ни было «пользы», которую менее всего следует искать в поэзии.
Она остро чувствовала своё предназначение: «Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили – чем? Моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись – когда зряче, когда слепо – повиновалась, выискивала ухом, какой-то заданный слуховой урок» («Поэт и время»). И она, действительно, всем своим творчеством и судьбой преподнесла некий урок человеческой жизни. Не такой простой и не всегда различимый, ибо люди склонны выискивать в поэте то, что им теперь «нужно» и не всегда замечать то, что в нём действительно есть. Какой именно урок преподнесла нам своим творчеством и судьбой Марина Цветаева, на это мы обязаны отвечать по возможности точно и честно.
«Нехороший» дедушка Иловайский
Среди биографической прозы Марины Цветаевой есть примечательный очерк, рассказ «Дом у Старого Пимена». Это воспоминания об историке Дмитрии Ивановиче Иловайском (1832-1920). Об историке, по удивительно точному определению Веры Муромцевой (Буниной), жены Ивана Бунина, тоже писавшей о нём, «всем известного», но «лично которого знали очень немногие». Его известность была поистине всеобщей. Ведь по его книгам, учебникам, выходившим постоянно, десятками изданий училось не одно поколение гимназистов. Его широкая известность была таковой, что сам он, чисто психологически, воспринимался уже человеком, словно занесённым из какого-то далёкого прошлого. Настолько имя его в общественном сознании было устоявшимся и незыблемым.
Но историк Д.И. Иловайский, кроме того, доводился Марине Цветаевой дедушкой – сводным дедушкой, точнее, дедушкой по отцу. Его дочь Варвара Дмитриевна была первой женой отца Цветаевой Ивана Владимировича. Варвара Дмитриевна умерла рано, оставив ему детей – Валерию и Андрея, сестру и брата Марины Цветаевой, по отцу.
Д.И. Иловайский был человеком несчастной судьбы. Первая его семья вымерла вся от туберкулёза – жена и трое детей. Со второй женой Александрой Александровной, которая была на тридцать лет моложе его, у них было трое детей – Сережа, Надя и Оля. И двое из них умерли взрослыми – двадцать два года и двадцать лет. Словно некий злой рок висел над Д.И. Иловайским, испытывая его широкую душу и крепкую натуру на прочность.
Рассказ же «Дом у Старого Пимена» примечателен тем, что даёт довольно полное представление о воззрениях Марины Цветаевой, о её понимании российской истории, о степени проникновения в суть происходящего, о её творческом методе переосмысления, толкования истории. Вообще – о её самопонимании в мире и в литературе. Ведь одно дело стихи, где всё построено на ассоциациях. И другое дело проза, тем более очерковая и историческая, где факты предельно определённы.
На основании несчастий, преследовавших историка, Марина Цветаева создаёт зловещий символ и самого историка, и его дома – «Старого Пимена»: «Это был смертный дом. Всё в этом доме кончалось кроме смерти. Кроме старости. Всё: красота, молодость, прелесть, жизнь. Всё в этом доме кончалось кроме Иловайского… Смертный, мёртвый дом».
Казалось, что такие несчастья, выпавшие на долю историка, могут вызвать только сострадание, сочувствие и жалость. Но это человеческое измерение в очерке Цветаевой отсутствует. Более того, по какой-то немыслимой логике, надо полагать – символической, образной, поэтической она обвиняет Д.И. Иловайского в смертях своих детей. Хотя болезнь туберкулёз была тогда распространённой. У отца Ивана Владимировича обе жены умерли молодыми – Варвара Дмитриевна и Мария Александровна, мать Марины. Но не считала же она свой дом «смертным». Впрочем, кто знает, писала же потом: «Каждый встречный, вся площадь – все! - /Подтвердят, что в дурном родстве/ Я с своим родословным древом». По всей видимости, такие семейные трагедии тогда не были редкостью. К примеру, выдающийся живописец И.И. Шишкин, родом из Елабуги, пережил смерть брата, двух сыновей и двух жён: «Душа наполнялась обидой на несправедливость жизни, рано отнявшей старшего брата, двух сыновей, Женечку – мать Лиды, и Ольгу Антоновну – мать младшей дочери Ксении» (Нина Бойко, «Иван Шишкин: «Во мне всё русское…»), «Аргамак. Татарстан» № 1, 2016).
Но никакого сострадания в очерке М. Цветаевой нет. В отличие от В. Муромцевой, в очерке которой, – такое сострадание и жалость к Д.И. Иловайскому. Вспоминая его на похоронах дочери Нади, она писала: «Я поразилась видом Дмитрия Ивановича: «Это уже был сгорбленный старик, по лицу его текли слёзы… Прошло с тех пор четверть века, но этих слёз всё не могу забыть… «Старый Пимен» дожил до большевиков и испытал немало. Как его косная душа принимала все, что случилось, не представляю».
Но поистине удивительно то, почему историк «виновен» в смерти своих детей, по мнению Цветаевой. Это – уже за пределами литературы, скорее это – уже из области психологии: «Он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы, столько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть, прежде всего, не сдашься перед очевидностью – и те умрут. Все умрут… Ни одной секунды старик не ощутил себя виноватым».
То есть, историк Д.И. Иловайский обвинялся в том, что не сломался под тяжестью горя. Вот если бы внял предостережениям, сдался перед очевидностью и пал духом, тогда якобы все было бы иначе, и не было бы никаких смертей. Как и почему это должно было произойти, и произойдёт ли – неведомо. Главное – он должен был «сдать власть» и «сдаться»… То есть, самое драгоценное в человеке – сила его духа, сохранённая и в горе, стала причиной и поводом для осуждения и даже обвинения историка.
Как видно по всему, поводом для написания Мариной Цветаевой рассказа-воспоминаний «Дом у Старого Пимена» послужил очерк «У Старого Пимена» Веры Муромцевой (Буниной), опубликованный почти три года назад в газете «Россия и Славянство» (Париж, 14 февраля, № 116, 1931). Этим очерком М. Цветаева была очень взволнована, «под непосредственным ударом» от него писала автору в письме от 24 августа 1933 года… Даже задумала роман, где Д.И. Иловайский будет героем, но под другим именем, что осталось, конечно, только в замысле. Остался только очерк «Дом у Старого Пимена», опубликованный в 1934 году, которому она предпослала посвящение: «Вере Муромцевой, одних со мной корней»: «Дорогая Вера! Пишу Вам под непосредственным ударом Ваших писаний, не видя ни пера, ни бумаги, видя – то. Ваша вещь – совсем готовая, явленная, из неё нечего «делать», она уже есть – дело. И никогда не решусь смотреть на неё, как на «материал», либо то, что я пишу, - тоже материал. И то и другое – записи, живое, ЖИВЬЁ, т.е. по мне, тысячу раз ценнее художественного произведения, где все переиначено, пригнано, неузнаваемо, искалечено. (Поймите меня правильно: я сейчас говорю об «использовании» (гнусное слово – и дело!) живого, Вашего Иловайского например – для романа, где он будет героем: с другим именем – и своей внешностью, с домом не у Старого Пимена, а у Флора и Лавра, и т.д.
…Какова цель (Ваших писаний и моих – о людях)? ВОСКРЕСИТЬ. Увидеть самой и дать увидеть другим. Я вижу дом у Старого Пимена, в котором, кстати, была только раз, в одной комнате, в одном из её углов, самом тёмном, из которого созерцала стопы Кремля до половины окна, глядящего в сад… Я, конечно, многое, ВСЕ, по природе своей, иносказую, но думаю – и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только – толкую. Так я писала все свои большие вещи…».
В этом письме к В.Н. Буниной Марина Цветаева касается важного для неё вопроса о соотношении исторического и поэтического, о том, как поэт переосмысливает и толкует факты, но об этом – ниже.
Кое-что из очерка В. Муромцевой она использует в своём рассказе. И, хотя И. Бунина она не любила, о чём писала в письме А.А. Тесковой от 24 ноября 1933 года: «Холодный, жестокий, самонадеянный барин», с его женой Верой Николаевной состояла в переписке. И, видимо, дорожила таким общением, так как была страшно одинокой, о чём писала редактору Сан-Франциского журнала «Земля Колумба» Петру Балакшину 25 октября 1936 года: «Я очень одинока в своей работе, близких друзей, верней – у неё (моей работы) среди писателей нет: для старых (Бунина, Зайцева и т.д.) я слишком нова, (и сложна), для молодых – думаете: стара?.. – не - ет! Слишком сильна (и проста)… Мне здесь (и здесь!) ни с кем не по дороге».
В рассказе Марина Цветаева отмечает, что в доме своего сводного деда, историка Д.И. Иловайского они с сестрой Асей никогда не бывали. И понятно, так как всё иловайское в семье «было табу». Вспоминает лишь единственный случай посещения его дома. И запомнились ей кипы издаваемой им авторской газеты «Кремль», которые заслоняли людям свет Божий, не в аллегорическом, не образном, а в буквальном смысле слова. Ясно, что такой символ – это не детское впечатление, а представление человека в зрелом возрасте, в каком этот рассказ и писался.
Вера Муромцева же бывала в доме Д.И. Иловайского часто, стала бывать там ещё гимназисткой, так как подружилась с его дочерью Надей, о чём она и писала в своём очерке: «Я стала бывать в доме Иловайских ещё гимназисткой, подружившись с их дочерью Надей, четырнадцатилетней девочкой с длинной каштановой косой». Дружила с детьми историка Надей и Серёжей до самой их кончины.
Видела Дмитрия Ивановича много раз и в разной обстановке, общалась с ним. И первое, что её поразило – это его моложавость, живость и общительность, так что сразу же, как она писала, «неправдоподобными показались мне рассказы о его деспотизме, эгоистичности, сухости». А рассказы такие о нём, оказывается, были. И только узнав историка лично, она переменила своё мнение о нём. М.Цветаева же, мало зная своего деда, пошла вослед за этими «рассказами» его недоброжелателей, как оказывается, несправедливыми.
О том, что Марина Цветаева использовала очерк В. Муромцевой для написания своего рассказа, говорит уже то, как она переосмыслила его название. «Старым Пименом» В. Муромцева называет дом историка, а не его самого: «Старым Пименом» мы в шутку окрестили дом всем известного историка Дмитрия Ивановича Иловайского, личность которого знали очень немногие». «У Старого Пимена» в очерке В. Муромцевой означает – у дома историка. В названии же Цветаевой – «Дом у Старого Пимена» выходит тавтология – дом у дома. Или – Старым Пименом она называет самого историка. Впрочем, и дом, и сам историк – это «старопименовский наследственный недуг». То есть, вся эта российская действительность – нелепая и больная и является причиной несчастий и смертей.
В письме А.А. Тесковой от 24 ноября 1983 года Марина Цветаева писала, что Вера Муромцева «мне очень помогла в моей рукописи, ибо – подруга моей старшей сестры, внучки Иловайского и хорошо помнит тот мир. Мы с ней около полугода переписывались». Собственно, не зная того материала, Марина Цветаева придала фактам очерка В. Муромцевой свой смысл. И он оказался, по сути, прямо противоположным. Почему при этом в посвящении она назвала В. Муромцеву одних с ней «корней», не совсем ясно. Возможно, она полагала, что её воззрения на ту жизнь столь несомненны, что никаких возражений со стороны В. Муромцевой не вызовут. Подозреваю, что тут проявилась особенность её поэтической натуры, то необычайное и, видимо, суматошное состояние, которое можно назвать вдохновением, когда на неё «находило». Оборачивалось это удивительными небрежностями. Скажем, она не помнила год открытия отцом музея. И В. Муромцева уточняет в письме, что это был не 1913 год, а 1912-й. Не помнит год открытия памятника А.С. Пушкину в Москве. Ставит 1884 год, а не 1880-й. Тем более, что памятник воздвигался к юбилею поэта.
Надо сказать, что издатели М. Цветаевой поступают совершенно верно, воспроизводя её тексты в первоначальном виде, со всеми неточностями и ошибками, уточняя их в комментариях. Это позволяет увидеть то, как М. Цветаева работала над своими текстами.
Обвиняя историка Д.И. Иловайского и в смертях своих детей, и в том старопименовском наследственном недуге, который «мешает» жить, Марина Цветаева выносит ему убийственный приговор: «Дом у Старого Пимена благополучно кончиться не мог». Да, действительно, всё закончилось трагически после того, как «правильная» жизнь Старого Пимена была подвергнута сомнению и уничтожена, а потом и он сам. То «новое», что восторжествовало, оказалось совсем не новым, а хорошо известным с незапамятных библейских времён. Но неблагополучно кончили все без исключения. И, кажется, более всех – сама Марина Цветаева… Разве такое осмысление российской истории и жизни могло закончиться чем-то иным, кроме её краха? Разве этот её приговор Старому Пимену, олицетворяющему российскую жизнь и её историю, не связан с её неблагополучной кончиной? Кажется, всё свершилось по евангельской мудрости о том, что первые бывают последними, а последние – первыми. Только ничего уже невозможно было поправить.
Читая очерк Марины Цветаевой, невозможно отделаться от несоответствия её крайне отрицательного отношения к историку Д.И. Иловайскому и причин для этого, мотивации этого. Начиная с детских впечатлений о том, что дедушка «нехороший». Вроде бы, и историк настоящий, блестящий, не в пример «либеральным» авторам учебников. По истории, «по Иловайскому» она получала пятёрки. И в доме его, вроде бы, царило благородство. И, тем не менее, по Цветаевой, он является символом всего отжившего и причиной смертей. Дом его – «смертный» и «мёртвый». Почему так? Во-первых, это следует из её творческого метода, который она определяла сама: важно как, то есть, кто пишет, а не о ком. Таков был её творческий метод «иносказаний», как она сама писала, где сам факт переосмысления оказывался важнее переосмысливаемого. Во-вторых, таково свойство революционного сознания, по самой природе своей, что оно обязательно свергает всё предшествующее. В своё оправдание, конечно. Из трёх вопросов, непременно стоящих перед каждым художником: что? как? зачем? («Три вопроса», А. Блок) для неё важен был лишь первый вопрос – как?, то есть, сам процесс творчества. А потому очерк «Дом у Старого Пимена» это – безусловно, документ своего времени, памятник эпохи. Но говорящий не об историке Д.И. Иловайском, а о поэте Марине Цветаевой. Так она «осмысливала» всех, о ком писала – А.С. Пушкина, Екатерину Великую, Стеньку Разина…
– Ну, а если это не соответствует исторической правде, фактам, истине? – может спросить читатель и будет, безусловно, прав. На это можно ответить, что мы рассматриваем творческий мир Марины Цветаевой с точки зрения духовно-мировоззренческой. А он такой, какой есть. Если в её понимании что-то не соответствует исторической правде, мы можем попытаться ответить, почему так, в силу каких условий и обстоятельств это случилось, и не более того.
В очерке «Дом у Старого Пимена» чувствуется какая-то внутренняя борьба. Как поэт, как литератор, чуткий к слову, она не могла не видеть правды. Дом Старого Пимена не был лишён благородства, да и сам историк «был красавец-старик». Но главное – не гнущий ни перед кем ни помыслов, ни совести, ни шеи. Он был в вечных трудах, за которыми ни о какой его «спеси» говорить не приходилось. Он был смелым пред сильными мира сего. К нему нельзя было прилепить ярлык «верноподданный», что для «либеральной молодёжи» было позором. И всё-таки ему, его дому, его миру, в котором он жил, выносится смертный приговор. Хотя для человека с революционным сознанием он должен был быть не противником, а скорее, союзником: «Бесстрашие свое и глубочайшее несгибание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, что видели и цари. Но правду – слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д.И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного посещения дома Иловайских – это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям Божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить».
Об этом её абсолютном бунтарстве, то есть – без причины и повода, – литературоведы советской поры отзывались деликатно: «В очерках Цветаевой сказались и некоторые свойственные ей и до конца так и не изжитые серьёзные заблуждения, как, например, склонность к поэтизации всякого мятежа». (Вл. Орлов). Но это и была её суть, а потому изживать и преодолевать эти «заблуждения» она и не собиралась. Наоборот, постоянно бравировала ими, как тем, что она обязана высказать, видя в этом своё предназначение как поэта, свою миссию… Это революционное сознание не может признать беспричинность душевного бунта, тут его – пределы. Иначе начнётся «изживание» его. И тогда оно выдвигает «причину» несуществующую, в своё оправдание. А причина» эта проста: бунт явился, якобы ответом на притеснения. Вот почему Цветаева пишет о притеснениях в доме Иловайских, которых, по сути, не было, о чём свидетельствовала В. Муромцева. Вот и вся логика возникновения бунта. Не говорю, что это его природа, которая более таинственна и загадочна.
Что же здесь, в связи со Старым Пименом было столь важное, столь непреодолимое, что, несмотря на все его достоинства, ему был вынесен окончательный приговор? Даже несколько нелогичный. При всем при том, что в характеристиках конкретных людей, исторических личностей от Марины Цветаевой не приходится ждать исторической достоверности, так как она все ровняла под себя, о чём справедливо писал Фёдор Степун: «Некий неизничтожимый эгоцентризм её душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе… Она по причине этого, подгоняла все под себя, под свой произвол, не проникая глубоко в суть вещей». Даже при таком её «творческом методе» категоричность и немотивированность приговора историку не совсем соответствует тому, что отрицалось и что выставлялось смертельной опасностью. Да и Д.И. Иловайский был для неё всё-таки не сторонним человеком, а дедушкой. Видимо, тут действительно были некие непреходящие, извечные обстоятельства и причины, о которых можно сказать строчками А. Фета: «Кляните нас, нам дорога свобода,/ И буйствует не разум в нас, а кровь».
И такая причина была. Правда, на поверку оказывается, что это вовсе и не причина. Но она настойчиво и безоговорочно выставлена в качестве таковой. Об этой «причине», перекрывшей все труды историка, все им сделанное за долгую жизнь, Марина Цветаева писала вполне определённо: «Но была в нём одна область не олимпийская, не аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти…».
Да неужто, столь образованный человек опускался до такого? – может спросить читатель и будет прав. Ведь то, о чём пишет Марина Цветаева далее, описывая историю взаимоотношений её матери Марии Александровны и историка Д.И. Иловайского, не только не подтверждает такого её категоричного утверждения, но ставит его под сомнение и даже отрицает его. Она объясняет тот странный факт, как могли уважать друг друга мать и историк при таких его воззрениях? Как могло такое быть, если у них были прямо противоположные взгляды? Цветаева утверждала, что мать ему прощала, хотя воззрения, убеждения – не то, что так легко сбрасывается как одёжка и тем более «прощается». Но, тем не менее, она именно в этом видела основу их уважения друг к другу: «Моя мать же, как отдалённая, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание сил. Думаю, что если бы она словами захотела определить своё отношение к Д.И., этим словом было бы: «Это уже вне суда». Дмитрий Иванович «мою мать явно чтил, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все моё детство, ни словом не осудила». (Выделено мной – П.Т.). Значит, люди простили друг друга в том, что никогда «не прощается», а потому и жили уважительно и дружно. На самом деле выясняется другое – у Марии Александровны были такие же воззрения, как и у историка Д.И. Иловайского, а потому не уважать друг друга у них не было никаких оснований и спорить друг с другом было просто не о чём: «Но и он ей – немало прощал, не только всю её сущность для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: её юдоприверженность». Чем это было обусловлено? «Сказать только её христианством не могу. Но, вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для неё иудеи – были, и были – милее «эллинов», и обертоном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом её и моей жизни – толстовским «против течения»!.. Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский не сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда – простил…».
Таким образом, историк Д.И. Иловайский и мать Цветаевой Мария Александровна уважали и ценили друг друга, никогда ни в чём не упрекали друг друга именно потому, что у них не было разногласия по вопросу – нет ни эллина ни иудея. Для обоих был и «эллин», и «иудей». Но если в матери Цветаевой это рассматривалось как «органический порок», то в Д.И. Иловайском почему-то выставлялось как «юдоненависть». Такое вот предпочтение, которое можно назвать двойным счётом, потому что сам факт такого различения нисколько не обязательно является признаком ненависти, скорее просто констатацией факта. Иначе можно, скажем, и Осипа Мандельштама упрекнуть в том же, в чём обвиняют историка Д.И. Иловайского, что невозможно:
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из чёрных дыр зияла
Срамота.
Различал это, оказывается, и Осип Мандельштам. Но из этого трудно вывести ненависть. Невозможно упрекнуть его в том же и потому, что это соединялось в нём с другим представлением, которое он прозревал силой большого поэтического таланта:
Я люблю свою бедную землю
Оттого, что иной не видал.
Но, несмотря на всё это, историку Д.И. Иловайскому «не прощается». Его «порок» – не органический, а значит, является достаточной причиной для обвинения его, а потом и физического уничтожения. Всякая «революция» происходит ведь сначала в умах и душах, а потом уже совершается в реальности. Разумеется, уже без участия М. Цветаевой… Она же отказывает ему даже в любви к России, полагая, что это всего лишь ненависть к «инородцам»: «Любовь к России Иловайского знаменуемой ненавистью к инородцам». Его любовь якобы является таковой лишь потому, что это – «ненависть».
Так, на основании всего лишь одного сомнительного «факта», ничем не подтверждаемого, утверждается, что это не любовь, запечатлённая в книгах историка. А истинная «любовь» та, которую несли как нечто «новое» обличители и разрушители, нигилисты – студенты и бородатые доценты . Иного вывода из сопоставления этих несомненных свидетельств не выходит.
Сестра Марины Цветаевой Анастасия Ивановна вспоминала, как она в 1971 году издавала свою книгу «Воспоминаний» в «Советском писателе». Главный редактор В.М. Карпова предложила тогда ей снять абзац о её сводном дедушке, известном историке Д.И. Иловайском, из которого следовало, что выдающийся историк, по учебникам которого училось не одно поколение гимназистов, учебники которого выходили сорока четырьмя изданиями, является «юдоненавистником». Естественна осторожность редактора, да ещё в столь щекотливом вопросе, так как никаких доказательств этого, кроме уверенности автора, внучки историка Д.И. Иловайского, не было. Анастасия Ивановна воспротивилась, пригрозив, что если не будет этого малого абзаца, она не будет издавать книгу вообще. Настолько она была уверена в этом распространённом обвинении историка. И настолько, оказывается, для неё это было важно и дорого. Сошлись на том, что, убрав одно «бранное» слово, абзац оставили. Оставили и историка Д.И. Иловайского «юдоненавистником» («Независимая газета», 9.10.1992).
Анастасия Ивановна упоминала о том, что мать её Мария Александровна выговаривала историку, чтобы он в их доме этого «бранного» слова не произносил. Марина Цветаева же пишет о том, что мать «никогда, ни в чем, ни разу, за всё моё детство ни словом не осудила»…
На вопрос же о том, как можно это объяснить, ведь Д.И. Иловайский был человеком глубоко верующим, образованным, Анастасия Ивановна ответила, что это необъяснимо: «А это необъяснимо. Я этого объяснить не могу. Но и не знаю, какого типа верующим он был. Я была девочкой и помню его туманно». Даже вера историка ставится под сомнение, хотя судить о ней, по возрасту, она ещё не могла. То есть, перед нами – заведомо предвзятое суждение о выдающемся историке. Так ведь не бывает, что есть явление, и нет объяснения его… Воспоминания писались намного позже, и эта уверенность могла сформироваться у автора под влиянием тенденциозного мнения об историке, бытовавшего в определённых кругах его ненавистников. А таковые у выдающего человека всегда и неизбежно есть. Были они и у Иловайского. Он, как глыба, стоял на пути революционного переустройства. При свете того образа мира, который он исповедовал, такими ничтожными представали революционные теории…
В воспоминаниях В. Муромцевой этот аспект предстаёт иначе. Говоря об авторской газете «Кремль», в которой историк был автором, редактором и даже разносчиком её по домам, и которую он подвижнически издавал, В. Муромцева отмечает: «У Иловайского всегда было два конька: враг внутренний – инородцы, и враг внешний – англичане». Не буду пускаться в определение «врагов внутренних», ибо это – не к месту. Явление это вполне реальное, конкретное, известное уже в «Слове о полку Игореве» (1185 г.), как «поганые тлковины» при великом князе. То есть – иноверные советники. Сводить же их к национальности, значит абсолютно искажать явление и общую картину человеческого общества, с его противоборствами, которые идут всегда… Вполне же серьёзно утверждать, что этого нет, потому что не может быть никогда и подводить всё под «конспирологию», придавая ей исключительно отрицательный характер, значит, в каких-то целях просто искажать действительность.
Авторская же газета «Кремль» Д.И. Иловайского была довольно острой, так как автор не считался с устоявшимися, но ложными мнениями. Она даже закрывалась царской цензурой. Марина Цветаева отмечает, что в газете он проявлял «бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем». Умел историк «истину царям с улыбкой говорить».
Учившая историю «по Иловайскому», источнику не одной её пятёрки, Цветаева тем не менее пишет, что Иловайский – «столь ненавистный стольким школьным поколениям либеральных времён». Вот, оказывается, в чем дело, в чем причина нелогичного, недостаточно мотивированного, но категорического неприятия Д.И. Иловайского: историк он – не либеральный, а времена – «либеральные»…
В. Муромцева отмечает прелюбопытнейший и очень символический факт, связанный с этой газетой Д.И. Иловайского: «Газета никакого успеха в обычное время не имела, была скучна и однообразна… Но во время японской войны тираж «Кремля» поднялся до высоты, изумившей даже Дмитрия Ивановича (Выделено мной – П.Т.). Значит, газета расценивалась лишь по признаку – скучна или интересна, забавна или нет, а не по тому – правда это или нет. «В обычное время», когда спокойно и ничего людям не грозило, можно было её не замечать, иронизировать над ней и подвижничеством историка, а когда возникла опасность стране, обществу и многим людям, она оказалась востребованной. Значит, несла в себе правду, всегда необходимую, но не всегда замечаемую. А стало быть, ирония над газетой была неправдой, за которую потом пришлось рассчитываться.
Истинный поэт – не бытописатель, «отражающий» жизнь извне. Он выражает человека, его душу, его сущность. А состояние души может быть разным. В период революционного анархизма и беззакония оно такое, каким его характеризует А. Блок в записной книжке: 20 декабря 1918 года: «Жизнь становится чудовищной, уродливой, бессмысленной». 19 августа: «Какая-то болезнь снедает…». Отмечает в то же самое время, в которое жила и творила Цветаева.
Поэт выражает не только своё время, эпоху, для этого есть иные формы сознания, но сущность человека, прежде всего. Своё краткое земное бытие он представляет частью общего течения человеческой жизни, изначально и до сего дня, до его дня, помня о том, что «природа человека вечна» (В. Розанов). Поэт не может потерять душу в преходящем, в повседневном, в быте, иначе он перестаёт быть поэтом. В каком бы состоянии она не находилась. А потому, пытаясь постичь поэта, мы должны и обязаны рассматривать его мир в этом общем течении жизни. В его изначальном, библейском значении.
Библейский смысл происходящего в том и состоит, что в реальной жизни складываются сюжеты, аналогичные библейским. В этом отношении о многом говорит сравнение описания Пименовского дома и его хозяина историка Д.И. Иловайского Верой Муромцевой в очерке «У Старого Пимена и три года спустя Мариной Цветаевой в биографическом очерке «Дом у Старого Пимена». Казалось бы, одно и то же время, одни и те же события изображают авторы, одних и тех же людей представляют. Но какая абсолютная несхожесть, даже противоположность в понимании ими смысла происходящего. Несмотря на то, что в посвящении очерка Вере Муромцевой Марина Цветаева отметила: «Одних со мной корней». «Корни», то есть духовно-мировоззренческая основа их в понимании вещей этого мира оказались не одними и теми же, не то что несхожими, но даже противоположными. Как же может быть «одних корней», если об одном и том же они судили прямо противоположно?..
В. Муромцева пишет о том, что в доме историка Д.И. Иловайского жизнь была «правильная»: «Жизнь в этом доме текла очень размеренная, правильная – для всего был свой час». Обращаю внимание на последнюю фразу, так как это является условием «правильности» жизни. Но именно это, по Цветаевой, является причиной гнёта в доме Иловайских: «Гнёт был в том, что неурочных часов не было». Что значит «неурочных часов»? Надо полагать, свободного времени, когда дети были бы предоставлены сами себе и что якобы является непременным условием «развития» личности. Вся жизнь – учеба, общение – это гнет. А вот есть некие неурочные часы, в которые дети – свободны от всего. Ведь свобода – самая главная драгоценность для личности.
Логически, всё, вроде бы, верно. Да только так в реальной жизни не бывает. Таких простых путей обретения свободы не существует. И так не было в доме историка Д.И. Иловайского. И, как ни странно, в этом сходятся оба автора. В. Муромцева писала, что для всего был свой час, то есть «свободных» часов не было. Цветаева отмечает то же самое, но уже жалуется на то, что неурочных часов не было. Обе свидетельствовали что «свободных часов» не было. Хотя, вроде бы, должны были быть для обретения «свободы». Но если для В. Муромцевой это имело положительное значение, то для Цветаевой – отрицательное. В этом и состоит разница. Но почему и как произошло такое различие в понимании одних и тех же вещей этого мира?
За этой, вроде бы, обычной житейской ситуацией просматривается очень глубокий смысл, библейский смысл. Ведь разделение людей в человечестве началось с жертвоприношения Каина и Авеля Богу. С жертвоприношения Каина начинается преступление. Жертва Авеля была «целиковая», лучшая. Каин же принёс обычную жертву, которая разделяется – на то, что мне и на то, что Богу. В той части, куда Каин Бога не пустил и завелась печаль. Принося жертву, Каин «согрешил» (Е.А. Авдеенко, «Тема «Каин» в современном мире», М., Классис, 2014).
Но Каин возлагает вину не на себя, а на Бога. В его душе создаётся картина мира, в центре которого находится он сам. А значит, можно обойтись и без Бога… Без всякой над собой первопричины. Но в этой, неподвластной Богу «зоне», и зарождается гордыня, эгоизм, стяжательство – всё то, что терзает и искажает человеческую личность.
Отсутствие «неурочных часов», то есть отсутствие той части жизни, куда Бог не допускается, и воспринимается Цветаевой, как гнёт в доме историка. Отсюда происходит «тёмная и грозная тоска», то есть каинова печаль.
Но поскольку библейская причина гнёта, печали, как мотивация здесь не присутствует, отыскивается иная «причина». Гнёт – от запретов. Хотя, по В. Муромцевой, в доме Иловайских запретов не было. В. Муромцева даже удивлялась тому, что в их доме детям предоставлялась свобода: «Я часто думала, как непоследовательно поступали Иловайские, довольно свободно допуская в свой дом молодёжь».
Вот и вся причина гнёта, по Цветаевой, – от запретов, то есть от обстоятельств чисто внешних, а не выходит из самого существа человека, из его духовной природы… Но если гнёт, значит из такого дома надо вырваться. Или даже взорвать его, как в запальчивости сказала дочь историка Оля. Но дело было не только в этом доме, но во всяком, в той эпохе, которая наступала , в том сознании, которое в обществе преобладало. Об этом же – в стихах А. Блока: «Что делать, ведь каждый старался свой собственный дом отравить…». С чего бы, казалось, такая безрассудность? Это – прямое следствие пробуждаемого в обществе революционного беззакония, которое якобы и должно устроить жизнь справедливую и истинно правильную. Так что дело тут не только в доме Иловайских. И это доказывается тем, что причина гнёта в рассказе «Дом у Старого Пимена» – очень уж неубедительна. Это, мол, – от запретов. А запреты почему? А это уже и не сам историк виноват, но его жена Александра Александровна, которая была намного моложе мужа, а значит вышла замуж – за деньги и имя, хотя не было оснований её упрекать в этом. В. Муромцева наоборот, писала о ней как старательной хозяйке. По Цветаевой же: «Запрещала потому, что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена… И вот подсознательное (подчёркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни… Чтобы её женские отпрыски тоже были несчастны». Мать не желала дочерям своим счастья? Конечно, в жизни всякое бывает, но выводить из этого некую всеобщую концепцию нет никаких оснований. К тому же это логика революционного сознания, которое не может мириться с предшествующим, если даже оно благородно, что признаётся. Оно всё равно должно быть разрушено. Это главное. Потому и мотивация этого столь неубедительна и необязательна.
Нам скажут: а правомерно ли обыденную ситуацию толковать с точки зрения библейской? Не только правомерно, но и необходимо. Но, кроме всего прочего, такой подход задаёт сама Цветаева, уподобляя Иловайского ветхозаветному Моисею… Но коль предложено толкование происходящего через библейские образы, оно должно быть и точным, и полным.
Природу же «гнёта» Пименовского дома надо всё-таки уточнить. «Гнёт» этот в очерке таков, что естественные различия между поколениями представлены не конфликтом даже, а войной на уничтожение, при которой невозможно продолжение жизни. Старый Пимен как Харон перевозит через Лету в иной мир детей своих…
Но всё дело оказывается не в гнёте, якобы происходящем от запретов, а в понимании автором самого устройства мира, что проявляется, к примеру в слегка «зашифрованной» строчке: «И пятой заповеди гнев, И эта ветреная лира!» Почему гнев заповеди о почитании отца и матери? То есть, неприятие этой заповеди. Так можно понять смысл этой заповеди лишь при условии, что отец и мать запретами совершают насилие. Но эта заповедь ведь – о другом. Даже прямо противоположном. Она – не об отце и матери, а о дитяти. Ведь – это условие, чтобы продлились дни его на земле: Пятая заповедь, как известно, гласит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». То есть, почитание родителей нужно не отцу и матери, своё уже отжившим, а детям. Как видим, «гнев» пятой заповеди происходит единственно от её искажения, неточного её понимания. Или же от того, чтобы, как это часто у Цветаевой, чтобы было – «противу всех!» Против – значит правильно, что является основным мировоззренческим постулатом Марины Цветаевой. Оспаривает же она евангельскую мудрость лишь для того, чтобы оспорить её, называя её «дурной басней»: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие» (Евангелие от Матфея; 19:24):
Есть такая дурная басня:
Как верблюды в иглу пролезли.
…Присягаю: люблю богатых.
Значит, у неё такая «любовь». Кому какая. Если читатель увидит в этом некое откровение, значит и у него такая же «любовь».
Вот и всё. А действительно ли это любовь – это уже другой вопрос.
Очевидно, что и Марина Цветаева, и её сестра Анастасия Ивановна отстаивали одинаковые представления. Марина Цветаева свидетельствует об этом прямо, говоря о своей матери. Думается, именно поэтому поэтесса представляла историка Д.И. Иловайского в ветхозаветном образе. И в этом нет ничего особенного. У каждого – своя вера. И указание на веру вовсе не свидетельствует о ненависти к ней.
Марина Цветаева не была человеком верующим, не была ни христианкой, ни православной. Более того, как у человека с революционным сознанием, её представления были богоборческими. Об этом говорит все её творчество: «А Бог? – По самый лоб закурен,/ Не вступится! Напрасно ждём!/ Над койками больниц и тюрем./ Он гвоздиками пригвождён». На это могут сказать, что поэт выражает то, что есть в жизни. И не пристало упрекать его за то, что жизнь такова. Совершенно верно. Но только она соглашается с такой жизнью, без Бога: «Заповедей не блюла, не ходила к причастью…», «То, что Господом задумано – / Человек перерешил…», «У Господа – особый счёт. / Мой – не сошёлся…», «Не чуралась в ночи/ Окаянных мет…», «Не в страхе Божьем растворяемая, а в блаженстве уничтожения…», «Священник – преграда между мной и Богом…».
Человек в вере ищет не утилитарного заступничества, не устройства земных дел, но дел небесных – спасения. Но такое было время, таков был тон эпохи, что это было подвергнуто сомнению и осмеянию. И человек, подпавший под такое влияние, достоин не осуждения, а сочувствия и жалости. Но и утаивать этого не следует, иначе этому тернистому пути не будет конца. Иначе, вроде бы, устанавливая справедливость, будет твориться несправедливость новая, ибо, как известно, бес дважды в одном и том же обличии не приходит…
По-человечески понятно и объяснимо, что на волне нашего, вроде бы, возвращения к вере и возрождении Русской православной церкви, – совершено заочное отпевание Марины Цветаевой: «Не все об этом знают, но одним из первых милосердных дел взошедшего на престол Русской православной церкви Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II стало его благословение провести заочное отпевание Марины. Её поступок приравнен к самоубийству от режима» (Татьяна Корсакова, «Марина. Заповедная страна», «Литературная газета», № 2-3, 2006). На это можно сказать лишь то, что нарушение церковного канона не является «милосердным делом». Это не нужно ни Церкви, ни Цветаевой и её последователям, так как тем самым скрывается истинная глубина её духовной трагедии, и нашей общей народной трагедии в революционном ХХ веке. Дело даже не в том, как она окончила жизнь, по в большей мере в том, что она Церкви не принадлежала, верующей не была. И причислять теперь её к ним, не спросив у неё, значит совершать насилие. Может быть, её мятежная и буйная душа этого и сейчас не хочет… Надо бы прежде спросить у неё самой об этом. Если конечно, мы веруем в бессмертие душ. Она же сама написала об этом недвусмысленно:
Не запаливайте свечу
Во церковной мгле.
– Вечной памяти не хочу
На родной земле.
Зачем же Церковь предпринимает отпевание её, пребывавшую в «церковной мгле», нарушая её волю?..
Доказательством же неправедности действа является то, что мотивация его оказалась не духовной, а политической: «самоубийство от режима». Вот тут Марина Цветаева и вовсе не при чём. Просто она попала под новую кампанию.
В предпринятой борьбе с «тоталитарным режимом», то есть в революционном разрушении государства и страны, какими они на тот период были, к сожалению, поучаствовала и наша Церковь, предприняв массовую канонизацию людей, погибших в начальный советский период революционного анархизма и беззакония. По факту мученической смерти, а не по мученической смерти за веру. Ведь в период беззакония большинство людей погибало не по политическим причинам. Но кампания по канонизации была предпринята. Даже – без житий, а с биографической справкой, как партийной характеристикой. В их число даже попали миссионеры синодальной Церкви, боровшиеся со старообрядцами, то есть с людьми, в правой вере, как раз устоявшими. А это было, кроме того, и нарушением решений Собора 1971 года о равноспасительности символов веры для официальной, синодальной и для старообрядческой Церквей…
Всё это – к тому, что Марину Цветаеву, её мир надо объяснять честно, во всей его трагичности. В «оправдании», она не нуждается. Скажем, в таком: мол, кто умеет читать поэтов, а это разумеется доступно только «избранным», тому она открывает «безграничность человеческой личности вообще, её глубину и непредсказуемость». То есть блуждания духа, завершившиеся трагедией, – это и есть мир людей «неожиданный и острый», а всё остальное – «пустынно плоский» (Татьяна Корсакова). В таком «облагораживании» задним числом мир Марины Цветаевой действительно не нуждается. Так же, как нет никаких оснований полагать, что «она была поэтом, опережающим время». И это якобы следует из того, что она не то что не любила своё время, но отказывалась от него. Нет, из этого не следует «опережение». Это свидетельствует о другом. О её своеобразном духовно-мировоззренческом комплексе: о неумении и нежелании жить в своём времени.
Так мог написать об историке Д.И. Иловайском иностранец, француз: «Покойная супруга его была дочерью ультраконсервативного историка, чьи ставшие общеизвестными, но «застывшими во времени» учебники внушали любовь к прошлому России всё новым поколениям гимназистов в коротких штанишках» (Анри Труайя). Ультраконсервативность, изъян историка, оказывается, состоит в том, что труды его «внушали любовь к прошлому России». Ну, иностранцы понятно. Многого чего не замечает в российской жизни их «гордый взор иноплеменный». Но почему русская поэтесса в подвижнической деятельности, облике и судьбе выдающегося историка, да ещё и своего деда, увидела сосредоточение неких губительных темных сил? Непостижимо!
Иностранец же оказался более последовательным в характеристике как российской жизни, так и творчества Марины Цветаевой. Он увидел в нём не только протест и вызов всему, но любовь и нежность к «чёрной» и «тёмной» России, что это-де – любовь – «не к человеку, не к Богу идёт она, а к чёрной, душной от весенних паров земле, к тёмной России» (Анри Труайя).
«Народное» – это вовсе не означает только и исключительно «тёмное».
Пимен – в русском сознании имя нарицательное, образ и символ историка, летописца вообще. Что бы в реальности ни происходило, но есть летописец, есть Пимен, последняя, так сказать, инстанция правды. И, несмотря ни на что, он запишет эту правду навсегда, со вздохом: «Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному», как в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина.
Эта Пушкинская сцена с Пименом в келье, не имеющая соответствий с историей Н.М. Карамзина, в своё время, по словам М.П. Погодина, «всех ошеломила». В характере Пимена были замечены «благородные черты народности» (И. Киреевский). Правда, «либеральные круги были разочарованы, не обнаружив в речах Летописца применений к политической современности» (М.П. Погодин). Как видим, спор о Пимене в нашем общественном сознании идёт давно. Сам А.С. Пушкин писал в 1828 году: «Характер Пимена не есть моё изобретение. В нём собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие набожное к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия – дышит в сих драгоценных памятниках времён давно минувших».
Пимен – в народном сознании символ правды, благодаря которому на скрижали истории будет занесена правда о ком угодно, хоть о самом Борисе Годунове: «И не уйдёшь ты от суда мирского,/ Как не уйдёшь от Божьего суда».
Очень примечательно, что в очерке Марины Цветаевой историк Д.И. Иловайский, хотя и назван Старым Пименом, но как символ историка и летописца не присутствует. Несмотря на похвалы его писаниям. Имя Пимен в очерке – от Пименовского переулка или от какого-то святого. «Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил?»
Более того, именно это слово, это имя, произносимое в поколениях с благоговением, угнетает её более всего: «И больше всего слово гнело: Пимен». Мало того, эти Пимены, этот Старый Пимен, хранитель памяти народной, по Цветаевой, виновны в том, что Россия, в конце концов, взорвалась. Так сказать, сам факт их наличия стал причиной катастрофы. Такова неизменная во всех поколениях, в том числе и Цветаевой, логика революционного сознания. Правда Пимена, правда историка Д.И. Иловайского – не её правда. У неё была правда своя, революционная, враждебная этой народной правде. В чём состояла особенность выдающегося историка Дмитрия Ивановича Иловайского, какова была его концепция истории с различением Руси Днепровской, Новгородской, Тмутараканской, или, как называют её ученые, Азово-Черноморской, откуда и пошёл корень рус, давший имя всему народу, теперь об этом знают лишь «узкие» специалисты. Как историк объяснял, так называемую норманнскую теорию, о мнимом призвании варягов. Чем он отличался от «либеральных» историков, о чём намекает и сама Цветаева? Об этом теперь мало кто знает. Но теперь точно все знают, что он был «юдоненавистником». И этот ярлык заслонил все его труды. Был ли он таким ещё большой вопрос, но зато теперь школьники точно знают, что изучать родную историю «по Иловайскому» не стоит. Как это было в дореволюционной России, когда не одно поколение гимназистов изучало историю «по Иловайскому». Вот такой результат и итог подобного представления историка Д.И. Иловайского.
Творческое начало в человеке, поэтическое дарование Марина Цветаева ценила более всего в себе, в близких ей поэтах. Очерк же её об историке Д.И. Иловайском – какое-то исключение. О нём, как об историке, она не говорит ничего. Это впечатление о человеке в его повседневной жизни. Но ведь жизнь человека творческого, как она сама о том писала, прежде всего – в его трудах, а не в его быте.
Она так дорожила своим поэтическим обликом, своей «избранностью» и своей «единственностью», что они оказывались ей дороже, чем сущность постигаемого и выражаемого. Она принадлежала к тем поэтам, которые крепко помнят, что они поэты, старательно исполняют свою миссию, как она им представляется. Бережно или небрежно несут свой крест, прежде всего поэта, а потом уже человека. Для них их поэтическое бытие дороже самой жизни. В Марине Цветаевой эта особенность поэтической личности была выражена сильнее, чем в ком бы то ни было…
Александр Блок, говоря о естественном противоречии искусства и жизни, называл его «великим вопросом»: «Великий вопрос о противоречии искусства и жизни существует искони». Это – данность, которую истинный художник, как правило, осознаёт и считается с ней.
У Марины Цветаевой это соотношение носит характер решительного разрыва:
Ибо мимо родилась
Времени, вотще и всуе –
Требуешь! Калиф на час –
Время! Я тебя миную.
В письме А.А. Тесковой от 30 декабря 1925 года: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес – только преображённая – в искусстве… Мне вещь сама по себе не нужна». До – трагического, разумом непостижимого: «Отказываюсь – быть… Отказываюсь – жить». Ведь за этим неизбежно встаёт вопрос: «А потом что?» Считала, что «брак поэта со временем – насильный брак». Напрасно литераторы советской эпохи пытались представить все наоборот. Скажем, Лев Озеров: «Между жизнью и литературой Марина Цветаева выбирает жизнь» (М.И. Цветаева, «Об искусстве». М., «Искусство», 1991). И их тогда можно было понять. Необходимо было ввести большого поэта в литературу. Но в том-то и дело, что в мире Марины Цветаевой все обстояло как раз наоборот. И это была не только особенность её творчества, но и исток её трагедии – и поэтической, и человеческой.
Это ведь уже не о том, как факт переосмысливается, не о том, как жизнь входит в искусство. Но о том, как слово связано с жизнью, какой магической силой оно обладает и как отзывается потом в действительности.
Ведь и снизвержение историка Д.И. Иловайского, предпринятое Мариной Цветаевой, продолжилось потом уже без неё, без её участи и закончилось трагически. Невольно, конечно, но она оказалась причастной к последующей судьбе и самого историка, да и его наследия. В своём очерке она сообщает: «Иловайский умер в 1919 году 91 году от роду, как – не знаю, и навряд ли узнаю». И здесь она, как всегда, небрежна в датах. Д.И. Иловайского не стало в 1920 году. И не на 91-м году, а в 88 лет. Но почему – как умер? Известно ведь как умирают старики – от старости. Но если как, то не умер. Видимо, ей что-то смутно было известно об обстоятельствах его смерти, о чём она умолчала. Энциклопедический словарь «Святая Русь» (М., 2000) сообщает, что историк Д.И. Иловайский после неоднократных арестов был зверски убит при невыясненных обстоятельствах. Такой оказалась связь слова и жизни, вернее – смерти…
В биографическом словаре «Русские писатели 1800-1917» (М., 1992) имени историка Дмитрия Ивановича Иловайского нет, хотя отмечены другие, менее значимые историки и публицисты, мало что сделавшие, но – либералы и революционеры… Дедушка Д.И. Иловайский остался «нехорошим»…
Марина Цветаева как бы «не заметила» чрезвычайно символического обстоятельства её жизни. Тот дом, в котором она родилась и выросла, тоже был домом Старого Пимена, домом историка и её деда Дмитрия Ивановича Иловайского. Сестра Анастасия Ивановна писала, что они «росли в чужом доме»: «Дом, куда второй женой вошла наша мама, где родились Марина и я, был дан в приданое Д.И. Иловайским дочери своей Варваре Дмитриевне, матери Лёры и Андрюши. Дом, обожаемый именно нами – Мусей и мной (Лёра и Андрюша относились к нему прозаически), был не наш. Мы росли в чужом доме, наследниками его были Лёра и Андрюша. Выросши, мы должны были в будущем его покинуть».
Но жизнь пошла не по этому юридически – правовому представлению, а совсем иначе. Старший сын Ивана Владимировича Андрей Иванович Цветаев, получив от отца в наследство этот дом в Трёхпрудном переулке, передал его властям для госпиталя. Ещё до революции, во время Первой мировой войны. «Чужой» Пименовский дом оказался родным, каким он в действительности изначально и был.
Поэт в Цветаевой был сильнее мыслителя. Отрекаясь от своего деда, историка Д.И. Иловайского и от всего Пименовского, как от чего-то гнетущего, отжившего, смертного и мертвого, она пропела гимн своему родному, но вместе с тем Пименовскому дому, как бы соглашаясь с тем, что родилась и росла под сенью и под знаком всего Пименовского и Иловайского:
Ты, чьи сны ещё не пробудны,
Чьи движенья ещё тихи,
В переулок сходи Трёхпрудный,
Если любишь мои стихи.
…Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь ещё, спеши!
В переулок сходи Трёхпрудный,
В эту душу моей души.
А ведь всё это – Старопименовское, Иловайское наследие – родное ей, но ненавистное…
(Продолжение следует)