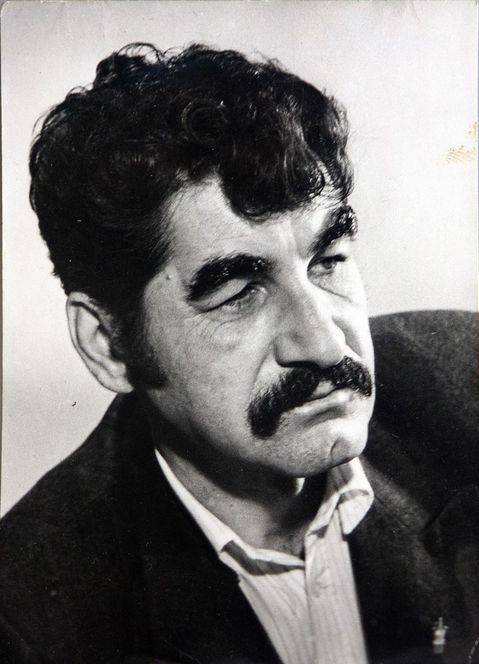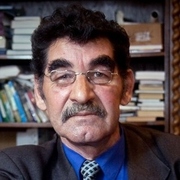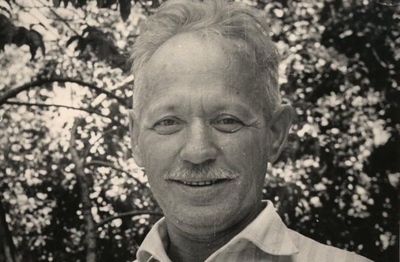
Литературно-критическая повесть. Часть 3
Ярмо деревянное и стальное
То или иное обращение писателя к библейским текстам вообще, а в «Тихом Доне» в особенности, не является самоцельным. Оно, так или иначе, служит разрешению той или иной художнической задачи. А потому установление того, какую именно художническую и мировоззренческую задачу разрешает писатель, обращаясь к библейскому тексту, и должно быть обязанностью и целью исследователя. Факт такого обращения сам по себе мало о чём говорит и установление его не может быть конечной целью исследования.
Примечательна в этом отношении в «Тихом Доне» личность Бунчука. Это – революционер-агитатор, но происходивший из казаков, что подчёркивалось даже его фамилией – Бунчук. Он убивает офицера Калмыкова. И это – первая жертва братоубийственной войны в романе. Когда при штабе Сиверса организовывается революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными пленными, он обслуживал нужды этого суда. Потом был направлен на работу в революционный трибунал при Донском ревкоме, став, по сути, палачом. Рьяно и неистово защищал он дело революции, «по необходимости физически уничтожает контрреволюционеров», «истребляет человеческую пакость», «грязь». У него – хотя и нехитрая, но целая «философия» оправдания этого душегубства: «Они нас или мы их. Серёдки нету. Пленных нету. На кровь – кровью. Кто кого… Война на истребление… Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К чёрту! Скребать с земли эту нечисть! И вообще – без сантиментов, раз дело идёт об участи революции». Высшей ценностью для него становится революция.
Во время так называемого Корниловского мятежа на Петроград были двинуты казачьи части, – 3-й конный корпус и Туземная дивизия, якобы на подавление рабочих волнений. Бунчук был послан в их среду для агитации, чтобы остановить во что бы то ни стало продвижение казачьих частей на Петроград.
Казаки, повидавшие много разных агитаторов, относятся к нему с доверием, так как он, вроде бы, свой – из казаков: «Мы слухать – слухаем, а веры им дюже не даём. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут, – кто их знает? Откажись, а Корнилов черкесов направит – и вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты – наш, казак, и мы тебе веры больше даём…». Он твёрдо знал, что задержит эшелон в Нарве. Но для этого нужен был особый язык агитации, ведь это были его земляки, казаки, и «требовался иной, полузабытый, черноземный язык, ящериная изворотливость». То есть, Бунчук очень тщательно готовится к этой агитационной акции. Тут никаких случайностей, непредвиденностей не должно было быть. В ходе этой агитации и происходит сцена, вскрывающая истинный смысл происходящего. Причём, помимо воли самого Бунчука.
Он обращается к казакам с такой речью: «В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное правительство… Вот! Кто вас ведёт? – царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? – чтобы самому сесть на его место. Смотрите станичники! Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное!» И тут Бунчук, как видим, вроде бы вдруг, для пущей убедительности, обращается к библейской притче о деревянном и железном ярме.
Напомню смысл этой притчи, как она изложена в книге пророка Иеремии. Когда «дом Израилев», народ отпадает от Бога, то отпадают все – и князья, и цари, и пророки, и священники: «Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, – так осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их» (2: 26) «Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника – все действуют лживо» (6: 13). Тогда и появляются пророки, пророчествующие от себя, ложно, которых Господь не посылал.
Попутно отмечу, что в наше время, вроде бы, «возвращения к вере», не было усвоено именно это библейское положение. Материалистическое сознание, несмотря на свою беспомощность и ища своего сохранения и продолжения в обществе, представило дело так, что наша земная Церковь не претерпела всеобщего отпадения от Бога и сохранилась в своей первозданности. И она сама была представлена всего лишь, как общественный институт, наряду с другими, а не в своём истинном значении «посредника» между Богом и человеком…
Итак, бывают пророки, которые пророчествуют ложно. Таким пророком в книге пророка Иеремии является Анания. Он вознамерился даровать свободу пророку Иеремии, освободить его от тягот жизни, снять с него ярмо лишений и невзгод: «Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил его» (28: 10). На что было слово Господне к Иеремии о том, что на самом деле сделал Анания: Господь же сказал, что Анания не освободил Иеремию и наоборот, ещё больше его закрепостил. Он снял с него ярмо деревянное, а заменил его ярмом железным: «Иди и скажи Анании: так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное – и сделал вместо него ярмо железное» (28; 13). В этом убеждается и пророк Иеремия, говоря Анании: «И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно (28:15). Железное ярмо – это значит неволя, «железное ярмо возложу на всех этих народов, чтоб они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут ему служить» (28:14).
Обращает на себя внимание обстоятельство, наталкивающее на размышления: почему М.А. Шолохов вместо библейского ярма железного пишет о ярме стальном? Вполне возможно, что это являлось тонким намёком на то, что наступившие революционные времена являются ещё более жестокими, чем библейские, не железными, а стальными… Заменяя ярмо «железное» на «стальное» в устах революционного агитатора Бунчука, мы не знаем какое именно значение придавал этому автор. Но у нас нет никаких оснований полагать, что это ничего не значило, что это простая описка. Итак, притчу о библейском ярме вспоминает революционный агитатор из казаков Илья Бунчук. Он обещает освободить казаков и от ярма Корнилова, и от ярма Временного правительства. И взамен обещает им дать революционную свободу. Значит Бунчук в тексте «Тихого Дона» уподобляется ложному пророку Анании, которого Господь не посылал, и который, может быть, и не преднамеренно обманывает истинного пророка Иеремию. Коль Бунчук обещает казакам независимость и свободу, то есть сокрушить их ярмо, есть полные основания уподобить его лжепророку Анании. Он делает то же самое, что делал Анания – пророчествовал ложно и напрасно обнадёживал людей…
Уподобляя революционного агитатора Бунчука ложному пророку Анании, которого Господь не посылал, М.А. Шолохов тем самым говорит о том, что революционное дело его неправедно, и вопреки обещаниям, на этом варварском пути он не только не освобождает людей от ярма, то есть от несправедливости, а уготовляет им ярмо ещё более тяжкое… Его революционное дело ложно и обречено. Иного смысла из этой образной картины в «Тихом Доне» извлечь, пожалуй, невозможно. Впрочем, такова природа всякой и каждой революции в истории человеческой цивилизации. Не являясь величиной положительной и созидательной, она разрушает, повторимся, существующее. Иных задач и целей у неё просто нет.
И когда, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и сам Бунчук, сказал: «А большевики, как заграбастают власть, какую ярмо на нас оденут?» Бунчук на это ответить ничего не смог, кроме того, что ярмо надевать, мол, будет некому. Как оказалось, в условиях революционного анархизма и беззакония, охотников надеть новое «ярмо» на народ оказалось более чем достаточно. Самое поразительное и трудновразумительное состоит в том, что Бунчук – сам из казаков, но «жестокость, ставшая символом революционного долга, сожгла в рабочем парне человеческое начало, погасила огонь души, превратив в обугленную головешку» (Н. Федь). Но в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Значит, он уверовал в такого бога, который берёт себе людей «из среды другого народа». А вот почему он отрёкся от своего Бога – вот дилемма, которую вразуметь не так просто…
С первого журнального издания «Тихого Дона» до сороковых годов включительно, Бунчук сопровождал чтение Ленинской статьи казакам своими «пояснениями, которые имеют ключевое значение для понимания внутреннего мира этого исключительного в общем строе романа персонажа: «Рабочие не имеют отечества. В этих словах Маркса глубочайшая правда. Нет и не было у нас Отечества! Дышите вы своим патриотизмом! Проклятая эта земля вас вспоила и вскормила, а мы… бурьяном, полынью росли на пустырях… Нам с вами не в одно время цвесть». Эти жуткие слова с проклятием родной земли «выкрикивает словно в злобном припадке, коренной донской казак, боевой русский офицер, сын глубоко православной матери. Как же, чем же нужно было отравить его душу, чтобы он свою родную землю называл самым, кажется, страшным словом в русском языке – «проклятой» (С. Семанов).
Так как пророк Анания пророчествовал от себя, ложно, Господь удаляет его: «Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу» (28: 16) «И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце» (28: 17). Так же погибает и Бунчук, не назвав своей фамилии, без имени. То есть, оставшись не внесённым в Книгу Бытия. Тем самым автор говорит о том, что дело его обречено.
Примечательно, что идеологическую и политическую марксистскую мотивацию поведения Бунчука, согласно которой он отрекается от отечества и проклинает родную землю, писатель опускает в последующих изданиях романа, оставив только библейскую. Видимо потому, что считал последнюю первопричинной, а значит более глубокой, важной и убедительной.
Революционный пророк пророчествовал ложно и напрасно обнадёживал людей, так же, как и пророк Анания, которого Господь не посылал. Об этом говорит Григорий: «Спутали нас учёные люди. Господа спутали. Стреножили жизню и нашими руками вершат свои дела». Об этом говорится в книге пророка Иеремии: «Народ мой был как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм, забыли ложе свое» (50; 6). «Господа» в устах Григория и «пастыри» в книге пророка – суть одно и то же. Из этого вовсе не следует, что М.А. Шолохов одобрял или отрицал революцию. Таким образом он говорил о том, что всякая революция есть великое бедствие для страны и народа, преодолеваемое большой духовной работой и созидательным трудом народа. Автор «Тихого Дона» сказал о том, что такой варварский, революционный способ установления справедливости, есть смена одного ярма на другое, одного зла, на другое, как и сказано о том в книге пророка Иеремии: «Усиливаются на земле неправедно; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают, говорит Господь» (9: 3).
Кто же из них Каин?
Удивительно и, вроде бы, странно, что все противодействующие персонажи «Тихого Дона» в равной мере обращаются к библейским представлениям и обвиняют друг друга в каинитстве, называют друг друга Каинами. Дед Гришака говорит Мишке Кошевому: «Так это ты и есть, сударик? Мишкой тебя нарекли при святом крещении? Хорош! Весь в батю пошёл! Энтот, бывало, за добро норовит г… заплатить, и ты, стал быть таковский?». Любопытно, что дед Гришака упрекает Мишку сначала за принадлежность к роду-племени, а потом уже за то, что он в антихристовы слуги подался: «В антихристовы слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков? Супротив своих-то хуторных?» Мишка Кошевой – Каин, отмеченный печатью, «красным звездо». Но вот и Бунчук предупреждает казаков, чтобы они не стали каинами. Таким образом, все обвиняют друг друга в каинитстве. Но так ведь не может быть, чтобы все люди были Каинами. Кто-то из них Каин, а кто-то нет.
Причём, в каинитстве обвиняются люди даже в официальных документах. Приказ № 100 от 25 мая 1919 года председателя Революционного военного совета республики прямо называет Каинами казаков и предписывает чинить над ними расправу и истребление: «Пробил час расправы с Каинами… Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены». Председатель Революционного военного совета называет казаков изменниками потому, что они, по его мнению, предали дело революции. Не от Бога отпали, а от революции. Хотя они приняли советскую власть, тем самым дело революции не предали. Но при чём тогда тут Каин, отступивший от Бога? И главное – Господь не расправляется с Каином за убийство брата Авеля, не истребляет его, а оставляет в живых. Более того, он оберегает Каина, чтобы никто не убил его. Он накладывает на него знамение, печать: «И сказал ему Господь: посему всякий, убивающий Каина, всемерно отмстится. И положил Господь на Каина знамение, чтобы не поразил его всякий встречающий его» (Бытие, 4: 15). И тем самым каинитская цивилизация продолжилась до сего дня. Таким образом, председатель Революционного совета призывающий истребить Каинов, то есть поступающий вопреки Господу, и есть Каин. Но чтобы никто не догадался о том, что он и есть Каин, он обвиняет в каинитстве других… Но это ведь в высшей мере примечательное обращение обеих противоборствующих сторон к Священному Писанию, свидетельствующее о том, что иного образа мира кроме Божеского у людей не было…
Революционер не может никого обвинять в каинитстве. Не может потому, что Каин – это отступивший от Бога, как и он сам. Но если он это делает, значит, он лукавит, обманывает. Значит, его обвинение просто агитационно направленное на людей, чтобы они всех в угоду революционеру посчитали Каинами и повели с ними борьбу на истребление.
И мы видим, что Мишке Кошевому крепко запомнились слова: «Гнезда бесчестных изменников должны быть разорены, Каины должны быть истреблены». И он действует согласно этому приказу: «Рубил безжалостно! И не только рубил, но и «красного кочета» пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на проулки с рёвом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки». Откуда такая жестокость и беспощадность? Казалось бы, быки и коровы здесь причём? Жестокость оттого, что действует он не только, согласно революционному приказу, но и согласно писанному в книге пророка Иеремии: «Убивайте всех волов её, пусть идут на заклание: горе им».
Ясно, что всякое обращение революционеров к библейской аргументации, поминание каинитства для мотивации своих действий и в своё оправдание является лукавым и ложным. Но ведь чрезвычайно важно то, почему они, бунтующие против Бога, прибегают к библейской аргументации. Видимо, не только для преднамеренного обмана людей, остающихся ещё верующими, но и потому, что их социальная догматика о том, что в результате революции устанавливается справедливость, не могла объяснить происходящее и была очень уж неубедительной. В результате крушения государственности, духовного насилия над человеком, разбушевавшегося беззакония из бездны поднялась такая стихия, которую охватить бедным человеческим разумом было уже невозможно. Тут были уже бессильны какие бы то ни было «теории» и «учения». Люди воевали уже не зная того, почему и зачем они воюют… Об этом говорит дед Гришака в беседе с Григорием. Были забыты причины войны. Это – извечное состояние людей, восходящее к библейскому положению: «За что Каин убил Авеля? Или: почему Каин убил Авеля? Ни за что, без мотива, без причины. «Потому что дела его были лукавы, а дела брата его праведны (Ин. 3:12) Каин ни за что убил брата: Авель был жертва. Он не просто убил, он «восстал» и убил (Бытие 4:8), он заклал брата своего» (Е.А. Авдеенко. «Тема «Каин» в современном мире», М., Классис, 2014). И в этой революции люди уже не знали, почему и зачем они воюют.
Глубокий исследователь В.Ю. Катасонов, говоря о духовном смысле мировой истории, пишет о том, что человечество разделилось на две цивилизации, два полюса – Каина и Авеля и что эти цивилизации проходят через всю историю – изначально и до сего дня: «Вся человеческая история – борьба между каинитской и сифитской (авелевой) цивилизациями. Борьба прежде всего духовная, но иногда переходящая в острые формы военного противостояния». Это была стихия трудновообразимая и непонятная, захватывающая в свой губительный и беспощадный водоворот всех без исключения. И тех, кто эту стихию будил. Их, может быть, в первую очередь. Пошатнулись какие-то основы жизни. Людей охватывало порой труднообъяснимое беспокойство и тревога, «тревога беспредметная и бесцельная» (Ф. Достоевский). Стала появляться «нечистая сила». В восьмидесятые годы мне доводилось слышать и записывать рассказы стариков, которые были в двадцатые годы детьми. Рассказы о том, как в школе появилась «нечистая сила», и дети разбежались по домам, я слышал от Галины Ивановны Сокол, 1909 года рождения, дочери станичных, сельских учителей. Мне попался документ того времени, относящийся к Кубани, о появлении в Екатеринодаре в 1920 году антихриста. До какой же степени расстройства дошла жизнь духовная, экономическая, интеллектуальная, психическая – если безбожная власть не верящая ни в Бога, ни в антихриста, вынуждена была бороться с антихристом…
Приказ
Усть-Лабинского Революционного Комитета № 89
29 Октября 1920 года ст. Усть-Лабинская
По станице разными тёмными личностями выпущена и распространяется очередная злая провокация; о каком-то народившемся в Екатеринодаре, АНТИХРИСТЕ, и о том, что ученикам школ будет прикладываться Коммунистическая печать.
Провокация эта пущена с определённой целью, дурно повлиять на несознательные массы, играть на нервах неграмотного народа, подорвать значение школ и дело Народного Образования.
Отцы и матери! Не верьте этой наглой лжи, ведите в школу своих детей: НИКАКОГО АНТИХРИСТА негде ни народилось и не может народиться, а также никаких печатей и не кому не прикладывается; всё это новые выдумки врагов Трудового народа распускаемые тайными агентами барона Врангеля и буржуазией, которые потеряв надежду взять власть в свои руки силой оружия, прибегают к всевозможным средствам, если не свергнуть, то хотя бы подорвать Советскую Власть и насколько возможно задержать просвещение тех масс, которые они целыя века держали в кабале, эти шпионы отлично знают, что дав народу избавиться от темноты, им никогда не удастся осуществить свою заветную мечту.
Помните граждане, что ликвидация безграмотности есть верный путь к светлой будущей жизни.
Объявляя о сем, приказываю всех лиц, замеченных в распространении этих вредных слухов задерживать и доставлять в Ревком, где к ним будет применяться высшая мера наказания.
Вр. Предревкома САРАНЧА Зав. Отделом Народного Образования и секретарь Ревкома ЕПИФАНОВ
Поднявшуюся стихию, в которой люди теряли облик человеческий, надо было гасить любой ценой. Стихию, уже неподвластную ни революционерам, ни контрреволюционерам… В этом документе времени отразился феномен революции вообще – её трагизм, безумие, психоз и нашим бедным разумом непостижимая её природа и причины, не укладывающиеся ни в какие логические построения.
Природу революции у нас принято постигать лишь с точки зрения социальной, что просто не охватывает её сущности. Но – не её духовный смысл. И уж тем более не её психологические и даже психические аспекты. Но разве этот психоз, вызванный революционной смутой, не напоминает тех волнений и того психоза, в связи с появлением волхвов, описанных в летописях? По своей духовной сути это однотипные, идентичные явления, несмотря на века, их разделяющие…
«Всколыхнулся, взволновался…»
Начиная с эпиграфов, текст «Тихого Дона», можно сказать, пересыпан народными песнями. И каждая из них приводится вовсе не случайно. Каждая песня не просто иллюстрирует духовное и душевное состояние персонажей романа в тот или иной момент их жизни, но и выполняет некую духовно-мировоззренческую задачу в мире «Тихого Дона». Интересно было проследить как эпичность народных песен переходит, перетекает в эпичность романа. Можно сказать, что эпичность романа, во многой мере, обусловлена эпичностью народных старинных, лирических и исторических песен. Однажды, я проделал такую работу, проследив в меру своих малых сил внутреннюю взаимосвязь песен, приводимых в романе, с его духовно-мировоззренческой основой, в работе «Песни жизнь обрезала…». Народная песня в «Тихом Доне». (В кн. «Кубанские песни. С точки зрения поэтической. М., «Стольный град», 2001, Краснодар, издательство «Традиция», 2012).
Но одна песня из «Тихого Дона» тогда показалась мне неуместной, что ли. Точнее, тогда я не смог почувствовать её значение в романе. В самом деле, ведь это песня не народная, а официальная, считавшаяся гимном Донского Войска. А в гимне, как и подобает, должна быть и торжественность, и хвала, и славословие, и бравурность. И исполняли её казаки, отправлявшиеся на Первую мировую войну. Трудно было представить, чтобы казаки в такой волнующий для них момент, духовного и психологического подъёма стали бы петь официальный гимн. Как и трудно представить сегодня гражданина, шествующего по улице и в каком-то эмоциональном порыве распевающего гимн России… Каждой песне – своё место.
И всё же думалось, что автор напомнил об этой песне в романе, приведя её первую строфу неслучайно. Ведь в ней поётся о том, как «Всколыхнулся, взволновался/ Православный тихий Дон/ И послушно отозвался/ На призыв монарха он». Ведь то, что Дон «всколыхнулся, взволновался» можно было соотнести с изображаемыми в романе событиями кануна большой войны. Но примечательно, что в этой официальной песне, выражающей монаршую, правительственную точку зрения поётся вовсе не о той войне, на которую отправлялись казаки, которая так круто перевернёт не только их судьбы, но и судьбу всей страны:
Он детей своих сзывает
На кровавый бранный пир,
К туркам в гости снаряжает,
Чтоб добыть России мир.
«С Богом, дети, в путь далёкий,
Переплыть вам лишь Дунай,
А за ним ведь недалёко
Цареград – и наших знай.
Сорок лет тому в Париже
Вас прославили отцы,
Цареград ещё к нам ближе,
В путь же, с Богом, молодцы.
Стойте крепко за святую
Церковь, божию нам мать –
Бог нам даст луну чужую
С храмов божиих сорвать.
На местах, где чтут пророка,
Скласть Христовы алтари.
И тогда к звезде с востока
Придут с запада цари!
Над землёю всей прольётся,
Вспыхнет алая заря;
И до неба вознесётся
Наше русское «Ура!»
И.Я. Рокачёв-Вёшенский. «Песни станицы Вёшенской»
(Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1990).
Православный тихий Дон действительно всколыхнулся и взволновался, но не тем, о чём поётся в песне, а предстоящей войной. В песне же изображается совсем не та война, на которую едут казаки, не с германцами, а с турками. Причём, война – за Царьград. Но, в таком случае, эта песня содержит в себе полную апологетику Византийского соблазна, закончившегося трагедией Раскола. Апологетику освобождения Константинополя от турок и создания единого православного государства во главе с русским царём. Содержит в себе ту блажь византийской прелести, пред которой устояли многие русские самодержцы, как их на это ни толкали. Но не устоял Алексей Михайлович. И об этом ведь поётся два с половиной века спустя после того, как Раскол произошёл. Когда давно уже проверена временем губительность этого Византийского соблазна. То есть, перед нами полное несоответствие реальной войны и её духовно-мировоззренческого обеспечения. Несоответствие призыва монарха и того, что происходило в действительности. Разве может при этом война закончиться победой? Разумеется, нет.
«Послушно» ли отозвался православный тихий Дон на призыв монарха? Как и подобает в государстве, каким бы «призыв» этот ни был. Следует сказать об этой «послушности», так как казаков издавна несправедливо и лукаво, в целях политических, упрекают то в том, что они «слуги царизма», то в том, что они «опричники». В связи с этим – поразительно восприятие в «Тихом Доне» царей одним из таких «опричников». Мирон Григорьевич Коршунов выдавал замуж дочь Наталью за Григория Мелехова. По случаю сватовства – «принаряженый стол». Причём, принаряжен клеёнкой с надписью «Самодержцы всероссийские» с их ликами: «Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеёнкой стол, помолчал. От клеёнки дурно пахло мокрой резиной и ещё чем-то; важно глядели покойники цари и царицы с каёмчатых углов, а на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович». Тут, что ни слово то символ, да ещё такой, что от «опричника», пусть даже и подвыпившего, никак исходить не может. Никакого тебе подобострастия: «Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеёнку. Прочитал сверху завитую затейливым рисунком надпись «Самодержцы всероссийские». Повёл глазами ниже: «Его императорское величество государь император Николай…» – Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нём опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплёван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слёз. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошёлки, а вот придётся дочерю выдавать замуж – тогда я по-гля-жу-у… небось тогда запрядаешь!».
Очевидно, что автор «Тихого Дона» пишет, столь уничижительно о монархе с определённой преднамеренностью. Цари и царицы – «покойники». «Обсиженный мухами Государь» на «новой» клеёнке, которой «принаряжен» стол, по случаю сватовства. «Мундир – заплёван».… Картина символическая, говорящая не только о принаряженном столе. В этой, вроде бы, мимолётной картинке, видно как умел автор, казалось бы, чисто бытовое изображение наполнять иным, символическим смыслом.
Кажется, что такая картинка только и создана писателем как ответ на постоянные несправедливые обвинения казаков как «опричников». А казаки платили тем же: каков «призыв монарха», таково и отношение к нему, даже на вот таком, бытовом уровне. Что-то уж слишком неопричные эти «опричники» в «Тихом Доне»… Такой ли смысл вкладывал писатель, помещая в роман песню-гимн «Всколыхнулся, взволновался…» мы не знаем. Перед нами его текст, из которого выходит именно такое значение.
Но ведь подобное трагическое несоответствие «призыва» верховной власти и «отзыва» народа, по сути, повторилось в Советской России, когда революционная марксистско-ленинская догматика в своей канонической неизменности не соответствовала реальной жизни, так трудно складывавшейся государственности, что и стало основной причиной распада страны в новую либеральную революцию…
Волхвы и ведьмы
В начале романа М.А. Шолохов кратко описывает историю рода Мелеховых. И в частности, рассказывает о деде Григория – Прокофии Мелехове, который, вернувшись с последней турецкой войны, привёз с собой жену-иноземку, пленную турчанку. Понятно, что эта турчанка отличалась от казачек, выбивалась из общего строя хуторской казачьей жизни. Это её отличие, эта её выделенность, видимо, и дала повод обвинить её в «ведьмачестве», в колдовстве: «По хутору загудели шёпотом, что жена Прокофия ведьмачит. Сноха Астаховых божилась, что видела, как та простоволосая и босая доила на базу корову». И всё слухами и закончилось бы, если бы не случился небывалый падёж скота. И тогда люди нашли этому скорую причину – ведьмачество жены Прокофия, которая для общего «блага» должна быть уничтожена. Казаки пришли к Прокофию: «Волочи нам свою ведьму! Суд наведём… Лучше её уничтожить, чем всему хутору без скота гибнуть». Избитая жена Прокофия родила преждевременно и умерла вечером того же дня.
Казалось бы, зачем М.А. Шолохов изображает в романе это «ведьмачество» и такое зверское пресечение его? Позитивист найдёт скорый ответ: дабы показать, как когда-то было в среде «тёмного и непросвещённого» народа и как теперь эта отсталость преодолена. Мол, это пережиток прошлого и ничего более. Да ещё скажет, нисколько в том не сомневаясь, что это – какое-то дохристианское язычество. Но эта страшная сцена имеет самое прямое отношение к изображаемой далее в романе революционной смуте. И есть большие основания сомневаться в том, «темнота» ли это отсталого народа и то, что преодолевается просвещением или же нечто совсем иное.
Изображая «ведьму» в начале «Тихого Дона», М.А. Шолохов, тем самым, представляет природу всякой смуты, периодически сотрясающей общество в разные времена. Волхование, кудесничество, чародейство, вызывающие волнение в народе, смущающие умы и шатающие души людей – это такая же смута в основе своей, как и последующая, революционная, которую переживают герои романа, только по-разному, в разные периоды истории проявляемая и выражаемая. Это – не язычество, не некая дохристианская вера, как обычно полагают. Это – антисистема, выжигающая в человеке всякую веру, покушающаяся на его духовную природу. Внешне – это как бы попытка вернуть человека в «первозданную природу», что абсолютно невозможно. А на самом деле – попытка ликвидировать выделенность человека душой и разумом из природы, то есть убить в нём веру, его духовную сущность.
Таким образом, этой драматической сценой в начале романа автор предваряет изображение современной ему смуты, не просто уподобляя их, но показывая их однотипность, сходство, по сути, идентичность и преемственность между ними. Отношение же в народе к волхвам, чародеям, гадателям изначально и до сих пор одинаково: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это и за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» (Второзаконие, 18; 10. 11,12).
М.А. Шолохов постигает и представляет природу всякой смуты в человеческом обществе, в том числе и революционной, которая с древнейших времён и до сегодняшнего дня остаётся, по сути, неизменной в своей духовной основе.
Ведь и революционные теоретики, мировоззренчески обосновывающие смуту и толкающие в неё народ – это те же самые волхвы, мало чем отличающиеся от волхвов русских летописей. Нам могут сказать, что смута вообще – это, мол, некий объективный и неизменный процесс, не зависящий от теоретиков революции. Нет, не так. Неправда всякой революционной теории в том и состоит, что проповедуя якобы общественную закономерность: бытие определяет сознание, то есть человек таков, каков окружающий его мир, вместе с тем, вопреки своей же установке, переустраивают жизнь и строят «новый мир» с помощью идеи, слова… По сути, признавая то, что в начале было слово.
Но как они сходны эти ведьмы, волхвы, чародеи, гадатели, еретики, сектанты, революционеры, появляющиеся в разное время в разных обличиях. Ведь все они появляются в смутное время, в период нестроений и потрясений. Точнее, появление их вызывает смуту в народе, крамолу и междоусобицу. Волхование и крамола, междоусобная война понимались в прямой причинно-следственной связи и взаимозависимости, о чём говорится в «Повести временных лет», что «междоусобная война бывает от дьявольского соблазна». Уже только это не даёт исследователям никакого права считать волхвов язычниками, то есть исповедниками дохристианской веры. Как, впрочем, не даёт права уподоблять их библейским волхвам – пророкам. Библейские пророки, названные волхвами и волхвы русских летописей это не одно и то же. Там волхвы – пророки. Здесь волхв – это человек «одержимый бесом», он «волхвует по внушению бесов». Штокман ведь тоже, как волхв, появляется в хуторе, в завалюшке Косой Лукашки… Как обычно поступали с волхвами, приносящими смуту?
Такой волхв появился и при князе Глебе в Новгороде в 1071 году. Он говорил с людьми, будто бы он бог, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя будто наперёд знает все, что произойдёт, и хуля веру христианскую, говорил: «Перейду Волхов на глазах у всех». И смятение охватило весь город. И все поверили в него и собирались убить епископа. Епископ же с крестом в руках и в облачении вышел и сказал: «Кто хочет поверить волхву, пусть идёт за ним, кто же истинно верует, пусть идёт ко кресту». И люди разделились надвое: Князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли и встали за волхвом. И начался мятеж великий в людях. Глеб же с топором под плащом подошёл к волхву и сказал ему: «Знаешь ли, что случится утром и что до вечера?» Тот же сказал: «Знаю наперёд всё». И сказал Глеб: «А знаешь что будет с тобой сегодня?». «Чудеса великие совершу», – ответил тот. Глеб же, выхватив топор, рассёк волхва и тот пал замертво, и люди разошлись, и погиб так телом и душой, отдав себя дьяволу». Как видим, с волхвами поступали точно так же, как потом с ведьмами, что и изображено в начале «Тихого Дона». Далее сообщения в летописях о волхвах переходят в сообщения о еретиках.
В первых изданиях «Тихого Дона» в пятой части XXVI главы был примечательный персонаж. Это – любовница Подтёлкова, «шмара», ростовская проститутка Зинка, ставшая «революционеркой», которую он возил с собой под видом сестры милосердия. Крывошлыков, «мечтатель и поэт» ненавидел её и ждал момента, чтобы выкинуть эту мразь: «Крывошлыков… зло глядел на Зинку – «шмару» Подтёлкова, белесую, полногрудую девку, которую вёз тот с собой под видом «милосердной сестры». Зинка дарила тщедушного Кривошлыкова такой же антипатией; развалив толстые ноги, привалясь к цибику чая, она курила, мяла папиросу мелкими зверушечьими зубами и вызывающе, нагло улыбалась. Они почувствовали друг к другу острую неприязнь со дня первой же встречи. Кривошлыков ждал момента, чтобы обрушиться на Подтёлкова и выкинуть из вагона эту мразь».
В дальнейших изданиях романа автор почему-то исключил её из текста. Трудно сказать почему. Во всяком случае, вряд ли потому, чтобы не порочить Подтёлкова. Вполне возможно, что это было редакторское вмешательство в текст романа. Персонаж этот восстановлен в воениздатовском тексте 1995 года. Он чрезвычайно важен для понимания духовного смысла изображаемого в романе. Сергей Семанов полагал, что «шмару» Подтёлкова убрали из текста, чтобы не порочить героя Гражданской войны Подтёлкова, что это всего лишь типаж, характерный «для той эпохи», революционной эпохи. Но Зинка выражает и символизирует то, что свойственно всякой эпохе – апокалиптическую блудницу. В «Откровении святого Иоанна Богослова» сказано, что Вавилон – город крепкий превратился в блудницу, а потому и пал: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу» (18; 2). Появление блудницы является признаком неблагополучия с последующим крушением всей жизни.
И был голос с неба, говорящий: «выйди от нея, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ея и не подвергнуться язвам ея» (18: 4). Суды Господни праведны, «Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ея» (19: 2).
Таким образом, само присутствие блудницы в отряде пророчило ему поражение. Так и произошло. Казаки захватили отряд Подтёлкова, казнили его, заодно и Крывошлыкова и всех, кто подвергся «блудодеянию ея». Господь взыскал кровь рабов своих, подвергшихся растлению от неё.
Поход Подтёлкова терпит поражение не только потому, что был плохо организован и, по сути, авантюрным, но главным образом потому, что с ними была блудница, а значит, был он неправедным.
Так можно понять эту картину, не вошедшую было в текст «Тихого Дона». Вавилон город крепкий, всякий иной город всякое царство и всякая держава может пасть не только от внешнего влияния, но и от внутреннего перерождения, порчи, развращения: «Цивилизация каинского духа не гибнет от внешних причин, она иссякает – гибнет «от себя самой» (Е.А. Авдеенко).
Такой образ блудницы – не редкость в русской литературе. Это её черты так явственно проступают в стихотворении 1906 года Александра Блока «Незнакомка» с её пьяным и тлетворным духом. Даже само название – «Незнакомка» содержит в себе как бы приглашение распознать: кто же она есть на самом деле?
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Какими «древними поверьями» веют «её упругие шелка»? Видимо, этими библейскими, о блуднице:
И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
Это – блудница, несущая смерть, потому и «траурные перья». Поэт разгадывает облик этого «пьяного чудовища». Но примечательно то, что он делает это с помощью некоего «ключа»: «В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне!» Поэт говорит о своей способности различать извечное в повседневном, обыденном и тлетворном…
В «Тихом Доне» М.А. Шолохов изображает два пути, два способа, что ли обновления человеческого общества, как это понималось людьми. Они в романе сопоставлены и противопоставлены. Не случайно описание Страстной недели в ночь на Пасху соседствует с описанием заговорщиков во главе со Штокманом в завалюхе Косой Лукешки.
Христианское, православное обновление мира – описание всенощного богослужения Страстной недели в ночь на Пасху. И другое «обновление» жизни, которое исподволь навязывалось революционером Штокманом, который неожиданно появился в хуторе, как некогда появлялись волхвы, вызывающие смуту, крамолу, междоусобную войну. Навязывался самый варварский путь, вроде бы, обновления, самый трагический и бесчеловечный – через ломку и уничтожение мира существующего. Как поступали с волхвами князья, как поступали с чародеями люди? Они изолировали их от народа, а то и убивали, дабы спасти народ от дьявольского искушения, смуты и междоусобной войны.
По сути, так же, как поступали с волхвами и чародеями, поступает Григорий Мелехов с представителем «мыслящей интеллигенции», бывшим штабс-капитаном Капариным. На предложение Капарина «расстаться с этим гнусным народом», под которым разумелась не только банда Фомина, а народ вообще, Григорий обезоруживает его, отбирает у него наганы. И на вопрос перепуганного Капарина – «Зачем же тогда… зачем вы меня обезоружили?» – отвечает: «А это – чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от учёных людей, всего можно ждать…». То есть, Григорий Мелехов отбирает у представителя «мыслящей интеллигенции» её оружие, её «учение» (оружие ведь бывает не только железным), которое почему-то не только не окормляет людей, не только не указывает им путь, а наоборот, стреляет в спину народу…
Эта природа революционной смуты сказалась и продолжилась в наше время, в либеральную революцию девяностых годов. Теперь такими «волхвами» являются всевозможные сектанты и в равной мере диссиденты, разрушающие социокультурный уклад жизни народа и государственность. Ведь слово «диссидент», согласно русскому языку, это тот, кто отступает от господствующего в стране вероисповедания, это – вероотступник, прежде всего, а вовсе не тот, кто якобы имеет альтернативную точку зрения о путях этого мира. Никаких альтернативных путей он не предлагает. Его цель – разрушение существующего уклада жизни.
(Окончание следует)