
Когда побеждать неудобно, то ведётся не война, а «войнушка одной левой». Вместо штурмовой массированной решимости – гостеприимство: фронты перемежаются с брифинг-шоу, штурмы — с пресс-турами, натиск — с «гуманитарными окнами». Эфирно-кефирное словесное насилие журналюг ведёт себя прилично на поле боя. Но для проливающих кровь защитников Отечества приличие — не броня. «Гостевой туризм» в зонах конфликта — приём, когда военные действия подстраиваются под расписание иностранных делегаций, журналистов и гуманитарных актёров. Такой подход сокращает количество эпизодов «жесткой» публичной жестокости, но системно подрывает стратегическую цель любого враждебного противостояния: добиться конечного политического результата, а не продлевать состояние «постоянного кризиса».
Что такое «вежливая война»? Это стратегия политико-военного управления конфликтом, в которой военные средства подчиняются театру дипломатии и медиа. Вместо максимального давления — паузы для гостей; вместо «уничтожить потенциал противника» — вывезти шумные символы в обмен на внешние компромиссы; вместо мобилизации — фильм о гуманности. Результат: война переходит в формат сервиса — «отели», «коридоры», «гостевые визиты». Формально — меньше мгновенного разрушения; фактически — меньше шансов на скорое разрешение конфликта.
Почему гуманитарность не равна стратегической эффективности? Потому как гуманитарные коридоры и паузы — морально удобный инструмент, но они обладают обратным эффектом: целевая сторона теряет темп и инициативу, а конфликт получает возможность для восстановления и репродукции сил. Гуманитарная помощь и осуществление сопутствующих коррективов в поведении воюющих продлевают боевые действия, создавая условия для переформатирования ресурсов и пополнения сил.
Аналитики отмечают — «коридоры» легко превращаются в переговорный ресурс, инструмент внешней валидации и дипломатического давления, а не в чистую защиту гражданских. Это делает «гуманитарные паузы» уязвимыми для манипуляций (msf-crash.org).
Медиа как фронт: превращает гостевой туризм и пиар-войну, ибо рассматривается сквозь линзу внешней аудиторной легитимации. Гости и съёмочные группы — это не только свидетели, но и катализаторы нарративов. Война, подстраивающаяся под приезжающего VIP-зрителя, неизбежно начинает ориентироваться на его реакцию. Информационная кампания, заточенная под «мирные» впечатления, сдерживает принятие непопулярных, но, возможно, необходимых решений. Одновременно информационные операции становятся стратегическим ресурсом: не победа на земле, а «победа в эфире» — цель, которая тенденциозно заменяет окончательное политическое разрешение конфликта. Аналитические отчёты указывают на возрастающую роль информационных операций и их влияние на ход современных конфликтов (carnegieendowment.org+1).
Соблазнительна для бизнес-интересов политэкономия вечного конфликта. Это питательная среда для подрядчиков, посредников, международных «поставщиков» услуг, олигархических структур, эксплуатирующих схемы восстановления и доступа к ресурсам. Олигархическая экономика любит неопределённость «мутной водицы»: она сулит стабильные каналы для перераспределения капитала, подставные рынки и легитимизацию через «восстановительные» проекты. Внешняя видимость гуманности только усиливает этот механизм — миротворчество такого рода, услужливость и паузы становятся экономическими проектами сами по себе. Современные исследования по политэкономии олигархии демонстрируют, как концентрация власти и капитала делает длительный конфликт выгодным для узкого круга лиц (arXiv).
Стратегия «вежливости» отдаляет победу, потому как поддержка противника со стороны внешних акторов наращивается в перерывах. Противнику даруется время для реорганизации и восполнения утрат. Медиа-перемирие тормозит политическое давление, необходимое для жестких, но целеустремлённых решений. Экономическая логика конфликта превращает войну в долговременную рентную структуру, удобную для элит, но разрушительную для своего общества.
Виной такой нерешительной психологии и политической стратегии руководства может быть сочетание таких факторов: страх международной изоляции, экономические риски, зависимость от внешних связей, политическая конкуренция внутри элит. «Вежливость» — это инструмент минимизации политических издержек у правящего класса. Но есть и медийный фактор: сегодняшние лидеры боятся репутационных потерь в реальном времени больше, чем геополитических уступок завтра. Результат — стратегия, рассчитанная на минимизацию публичной боли здесь и сейчас, но приносящая хроническую геополитическую слабость после того.
Гуманитарные паузы приостанавливают страдания граждан, с последующим усилением их вследствие перегруппировки войск противника и перезагрузки его боевых ресурсов. Это не универсальный упрёк против гуманитарных инициатив — он про контекст и власть над временем. Когда паузы институционализированы и не сопровождаются архитектурой политического решения, они становятся топливом для нового цикла насилия (opendocs.ids.ac.uk).
Военно-дипломатические решения России требуют изменения в самом стратегическом подходе. От власти нужны ясные конечные цели и связка их с инструментарием. Если цель — политический контроль над территорией или нейтрализация угрозы, все гуманитарные меры должны быть условными и привязаны к конкретному прогрессу в достижении этих целей. Нужна интегрированная информационная стратегия, где правда и последовательность ценятся выше «приятного вида» для гостей. Управление нарративом — не маскировка, а инструмент объяснения целей и компромиссов обществу. Рамки гуманитарной помощи, которые минимизируют возможности для эксплуатации: прозрачность, международный мониторинг, четкие временные лимиты и обязующие политические шаги.
Политэкономические механизмы, ограничивающие рентные доходы от конфликта: чёткие правила восстановления, прозрачные тендеры, внешние аудиты международных проектов. Это урежет кормушку, которая делает вечный конфликт жизнеспособным для элит.
Политическая мобилизация и социальная консолидация: победа — это не только военный контроль, но и способность обществу пережить послевоенное восстановление. Это требует политики внутри страны, а не только внешней «вежливости».
Просто «мягкость» на войне опасна – велики риски манипуляции гуманизмом. Идти по пути внешней вежливости — значит допускать, что гуманитарные ценности будут инструментализированы. Когда гуманитарные акции становятся валютой политических сделок, мы наблюдаем двойной ущерб: реальные страдания остаются, а моральный капитал конфликта превращается в торг. Собственно, именно это и порождает «вечную войну» — конфликт, который управляется как сервис для внешнего потребителя, а не как средство достижения политического результата.
Посему России надо вернуться к реальности целей, а не к вежливому шоу «Войнушка гостевого туризма» — эстетически приемлемая форма конфликта, но стратегически тупиковая. Выиграть в таком формате нельзя, потому что победа заменена на хорошие заголовки и безопасные фотосессии. Если конечная цель — защита государственных интересов, восстановление контроля и прекращение страданий общества, стратегия должна быть связной, непублично устойчивой и свободной от перманентной ренты. Гуманитарность не должна быть ширмой, за которой прячутся расчёты, выгодные лишь ограниченной прослойке. Когда внешняя презентабельность важнее последовательности действий, нация расплачивается не только свободой своих возможностей и временем — самым дорогим ресурсом, — но и утратой стратегической инициативы (позволяя противнику диктовать темп), падением боевого духа и общественной мобилизации, истощением материально-технической базы, ростом коррупции и рентных схем вокруг «восстановления», легитимацией противника в глазах международных акторов и, как следствие, снижением сдерживающего потенциала. Вместо закрытия конфликта мы получаем его институционализацию — хроническую ренту для элит и постоянное гуманитарное бремя для граждан.
Свежий пример «гостевого туризма» как элемента стратегии политического имиджа. Распоряжение Верховного главнокомандующего об обеспечении проезда иностранных СМИ в районы блокирования противника: «при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов». Этот факт сам по себе иллюстрирует феномен управляемой оперативной паузы (временное прекращение огня для решения непрофильных задач, не связанных с оперативной обстановкой). На уровне военной науки подобная мера не имеет отношения к перегруппировке или ротации сил, а относится к сфере информационно-психологического обеспечения (комплекс мероприятий по воздействию на восприятие противника и аудитории).
С формальной стороны — это демонстрация открытости и гуманитарности. С точки зрения стратегематики — классическая стратагема «завуалировать движение под видом уступки» («Тридцать шесть стратагем», № 4 — «Ожидать в покое, пока враг утомится»). Такой ход снижает международное давление и усиливает образ «вежливого противника», но одновременно вносит разрыв в оперативный темп, снижает инициативу и размывает целеполагание.
В условиях активных боевых действий каждый вынужденный «режим тишины» без стратегического условия контр-движения (то есть без достижения новой фазы кампании) превращается в потерю оперативного момента. Противник получает шанс на контр-мобилизацию и разведывательную адаптацию (перестройку маршрутов снабжения, оценку позиций, корректировку данных). Таким образом, гуманитарная демонстрация, не встроенная в план операции, выполняет политическую функцию, но может вредить военной.
Как писал Клаузевиц, «всякое ограничение силы должно быть оправдано целью» («О войне», книга I, глава I). Если цель — победа, то временное самоограничение допустимо лишь как элемент стратегии обмана или перегруппировки. Если же оно совершается ради демонстрации гуманности, оно становится тактической уступкой в пользу внешнего наблюдателя.
Однако в интерпретации последнего инцидента теоретически не следует исключать и скрещения побудительных к тому форс-мажорных обстоятельств подоплёки сего принятия решения. Возможна комбинация оперативной необходимости, внутреннего давления и внешнего политического расчёта — та самая точка, где гуманитарная вежливость становится симптомом стратегического истощения.
Если, к примеру, наступление вязнет, а фронт превращается в полосу позиционного сопротивления, где компенсирующие поставки вооружений противнику нивелируют эффект локальных успехов, командование вынуждено искать нестандартные решения. В такой обстановке гуманитарное окно может стать инструментом передышки — способом стабилизировать личный состав, произвести скрытую ротацию, восстановить коммуникации и подготовить новое направление удара.
Россия нуждается в снижении внешнего давления, разрядке информационного накала, сбивания эскалационной пены концентрации внимания Запада. Тактический выигрыш здесь возможен — выиграть время, замаскировать перегруппировку, перезапустить логистику. Но если подобная пауза не опирается на глубинный план и не интегрирована в стратегическую логику кампании, она превращается из средства в декорацию, из манёвра — в уступку.
Если здесь военная хитрость, то разыгрывается китайская стратагема «под чужим флагом» — делать одно, а показывать другое. Если так, то демонстрацией благородства выигрывается время, сбивается «позыв сопротивленческой агонии» противника и перераспределяются ресурсы. Тактический смысл при этом сохраняется, если этот шаг встроен в замысел операции и контролируется по линии управления.
Но смущает предыдущая подобная практика «неравного обмена». Пример сомнительного гуманитарного жеста — когда бойцов «Азова» выпустили (2023) из котла через третью страну. Формально это выглядело как соблюдение гуманитарных принципов, но на деле командиры ВСУ временно размещались за пределами зоны конфликта. Тот случай иллюстрирует возможность сочетания оперативной необходимости с внешней презентацией, подчинённой стратегии информационного воздействия. Не исключено: то был комплексный закулисный «договорняк» коррумпированных элит. В добавку к прочим «мелочам» (Абрамович-Медведчук-«азовцы»).
Однако пусть и как приём, но сам вынос подобного факта в публичное пространство в качестве акта доброй воли, теряет смысл военного инструмента и становится политическим сигналом бедствия системы – это SOS неуверенности, внутреннего истощения или стремления заполучить внешнее одобрение. Тем самым гуманитарная оболочка подменяет стратегическое содержание, а пауза, задуманная для восстановления, превращается в прерывание ритма боевых действий.
Потеря темпа в позиционной войне — не просто замедление наступления, а передача инициативы противнику без боя. Даже локальная передышка, если она не встроена в общий замысел кампании, даёт противнику дополнительные возможности — перегруппироваться, доукомплектоваться, укрепиться на позиции, осознать закономерности действий оппонента. Сунь-цзы писал, что в войне нет ничего важнее сохранения движения — в современном контексте это движение не по карте, а в принятии решений, в поддержании постоянного давления.
Если гуманитарная вежливость не тактическая уловка — то подарок врагу: ширма для своего стратегического ослабления. Она маскирует чаще не силу, а нехватку ресурса — кадрового, материального, морального. Когда этот элемент начинают преподносить как политическое достижение, происходит размывание границы между инструментом войны и элементом внешнего пиара. Армия в таком случае теряет функциональность инструмента воли государства и превращается в фон дипломатического жеста.
Хочешь гуманности — создавай для неё институты. Хочешь победы — не подменяй темп кампании медиа-символикой. Гуманитарная вежливость без стратегической цели — это не проявление силы духа, а управляемая усталость системы. Когда государство начинает путать паузу с перемирием, оно теряет способность завершить победно войну, подменяя нужное решение сомнительным процессом, а стратегию — тактическими реверансами.
Гуманитарная пауза оправдана лишь тогда, когда она встроена в оперативный замысел и обеспечивает выигрыш — в положении, силах, времени или разведданных. Всё остальное — политическая косметика, оплачиваемая инициативой, устойчивостью и стратегической перспективой. Нельзя упускать победное время — единственный невосполнимый ресурс войны.
Тотально антирусская ментально-гибридная война цивилизаций — это не «войнушка одной левой». Военно-политическому истеблишменту РФ должно быть не до создания сцены в зоне военных действий для визуальной разведки: фиксирования выгодных позиций, проверки маршрутов логистики и оценки международной реакции. В этом смысле «гостевой туризм» становится инструментом информационно-психологического войны, частью стратегии, где внешний образ государства служит одновременно инструментом и ширмой для внутренних и внешних манёвров.
Подобные визитёры и творцы дипломатических коридоров создают дополнительную нагрузку на органы безопасности, снижают темп кампании, подменяя оперативное действие имитацией активности и создавая иллюзию гуманитарного лидерства при сохранении позиционной войны. Каждый такой визит, каждая демонстрация открытости создаёт иллюзию контроля и доброй воли, но при отсутствии глубинной интеграции в стратегический замысел это лишь закрепляет статус-кво, отвлекая внимание от восстановления наступательного потенциала и удержания инициативы.
Хочется верить, что нынешняя «гуманитарная пауза» лишь оформлена под благородным предлогом. На деле её цель — усилить штурмовое дыхание войск, стабилизировать передний край и сбить натиск евроатлантического информационного давления. Противник, уловив флюиды скрытой оперативной подоплёки, активизировал разведку и медийные атаки — что лишь подтверждает: манёвр достиг своей цели. С высокой вероятностью конфликт входит в фазу эндшпиля, где решать начнут не километры, а нервы, ресурсы и выдержка.
И если всё это — часть большой шахматной партии, то Москва, возможно, просто сделала ход, который на первый взгляд выглядит как уступка, а на деле — как перегруппировка перед новым наступлением. Ведь иногда самое грозное оружие России — это умение уступить полшага, чтобы потом сделать шаг через противника.
Евгений Александрович Вертлиб / Dr.Eugene A. Vertlieb, Член Союза писателей и Союза журналистов России, академик РАЕН, бывший Советник Аналитического центра Экспертного Совета при Комитете Совета Федерации по международным делам (по Европейскому региону) Сената РФ, президент Международного Института стратегических оценок и управления конфликтами (МИСОУК, Франция)


















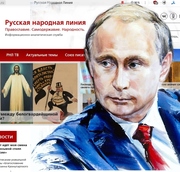





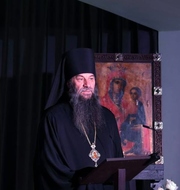


3.
«Когда побеждать неудобно, то ведётся не война, а «войнушка одной левой».»
///////////////////
Не «обнаученно» ли «обантураженный» то пересказ автором публикации известного эпизода (да вдарь, его, Вовочка – вдарь!) из еще советского фильма «Берегите мужчин»?
2.
«С формальной стороны — это демонстрация открытости и гуманитарности. С точки зрения стратегематики — классическая стратагема «завуалировать движение под видом уступки»…»
//////////////////////
С точки зрение доярки - «сгорание» молока у невыдоенной вовремя коровы с дальнейшим «негативом»…
Ну, а с религиозной – искусственное приведение сдерживанием человека в состояние «ни хлад – ни тепел» - в итоге полное безразличие-безволие с угасанием духа?
1.
И если всё это — часть большой шахматной партии, то Москва, возможно, просто сделала ход, который на первый взгляд выглядит как уступка, …
//////////////////
Ну, как в матче с Бобби Фишером, что ли: - «он сделал ход Е2 на Е4 – что-то мне знакомое, так-так…»?