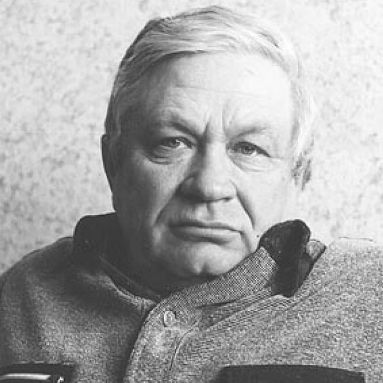
Еще Антон Павлович Чехов как-то заметил по поводу авторов современных ему толстых журналов, что они пишут друг для друга. Это замечание так же справедливо и для либеральных изданий наших дней! Но читать опубликованные в них рецензии иногда очень поучительно для «посторонних», в том числе и для их идейных противников. Между собой либералы более откровенны и прямолинейны и часто «проговариваются», или точнее, договаривают до конца свои мысли, показывая своё истинное отношение к России и её народу. Вот, например, Евгений Добренко в своей рецензии на книгу П.А.Дружинина «Идеология и филология» совсем бдительность потерял: стал приводить такие цитаты, стал делать такие выводы, что и не знаешь, что теперь и думать, как дальше жить! «Родные космополиты» называется эта статья в «Знамени» № 4 за 2013 год.
Автор проживает далеко от России, и наши беды для него – вещи абстрактные. Однако ж, что-то тревожит Добренко в далёком городе Шеффилде на Туманном Альбионе! Смущают его: «...рецепт радетелей гуманитарной науки - вернуть всё, как было», Возвращать, конечно, никто ничего не собирается. И всё же, тревожит автора опасная задумчивость, которая появилась у мыслящих людей России по поводу судьбы своей страны и её прошлого. Читатели уже не те, что были в 90-тые годы. Надо бы их как-то вразумить или напугать!
Е.Добренко призывает «радетелей гуманитарной науки» не возвращаться к прежнему горькому опыту, не вспоминать о нём. Почему? Потому - что было плохо, ужасно! «Гуманитарная мысль находилась в глубоком системном кризисе в 1970-1980-е. И еще раньше - в 1950-1960-е. И еще раньше», - пишет автор. Он нашёл причину такого безнадёжного хронического упадка. Дело в «генерации» или, по смыслу текста - в невысоком «качестве» тех людей, что пришли на смену дореволюционному поколению! Автор приводит мнение Лидии Гинзбург о людях 1949-го года - «молодые, но страшные»!
А вот - цитата из дневника Фрейденберг: «Обезглавив Россию, убив всю интеллигенцию, Сталин создал из страны одно туловище». Странно, как потом это, созданное больной фантазией автора - «туловище», словно всадник без головы, двигалось по развалинам послевоенной страны, восстанавливало фабрики и заводы, запускало первые ракеты, строило научные городки и прочее, прочее..
Интересно, какими частями этого «туловища» после отсечения «головы» представлял себе автор дневника советских писателей Шолохова и Леонова, Александра Твардовского и Константина Симонова….Отсутствие их в числе «убитых» свидетельствует о том, что госпожа Фрейденберг не причисляла их к интеллигенции. Так или иначе, эти большие писатели «не удостоились» бы этого почётного звания из-за своей родословной. Нобелевский лауреат Михаил Шолохов воспитывался в семье мещанина и казачки, Леонид Леонов вырос в семье деда-мелкого торговца, Константин Симонов – в семье отчима—преподавателя военного училища, Александр Твардовский – в семье кузнеца. Правда, кузнец был образован и даже начитан…, но, наверняка, не как «европейски образованные» филологи…
Дальше в статье вопрос ставиться гораздо категоричней… Ужасен сам народ, пришедший на смену дворянскому сословию и европейски образованным филологам. Наконец-то мы читаем своими глазами то, что раньше только читалось между строк либеральных статей: глухая, утробная неприязнь к российскому «аборигену!» Здесь всё подается открытым текстом: «Города забиты крестьянством, тем крестьянством, деды которых еще были крепостными и во многих случаях живы. Крепостная Россия с рабством в крови, тёмная, забитая и жестокая, стала у рулей. Она официально возводится в «великий русский народ», которому кадят в устрашающих, догматических формулах, выработанных тайной полицией». Яснее некуда!
Напомним, что так говориться о народе, только – что победившем фашизм в Великой Отечественной войне. И вот –этой «тёмной, забитой и жестокой» массе несёт «европейскую образованность» небольшое число преподавателей и учётных. Автор рецензии не задумывается: может ли быть какая-то польза от педагогической деятельности «деятелей гуманитарной науки», которые в своих студентах видят злыдней с рабством в крови, и быдло? Автор статьи вроде бы «переживает» за самую ранимую и духовную часть нации от насилия новых варваров. Он словно жалеет всех думающих творческих людей! Как бы, не так! Он жалеет только горстку «своих» деятелей культуры и науки. Все остальные в стране - изверги, которые только и делают, что обижают эту горстку. Речь идёт не только о гегемонии в стране самого «низшего» крестьянского слоя! «Тех мужиков, которые били, и будут бить народ». Оказывается, «Сталин призвал к власти этих управителей, помещичьих хозяйчиков, жандармерию, становых, кулаков, кабачников». В этом ряду, может быть, «кабачники», да бывшие жандармы — народ несколько испорченный, а уж чем не угодили автору крепкие хозяева и управленцы, слой грамотных людей с деловой хваткой, которые всегда играли ведущую роль? Непонятно!
Неужели среди истинных носителей культуры, уничтоженных Сталиным, не было ни одного деятеля, выросшего в семье рабочих и крестьян? Открыл бы автор рецензии соответствующие страницы в интернете и тут же убедился: были и во множестве! Было также много выходцев из семей тех же кулаков, других «потомков крепостничества».
Судя по всему, к числу тех, о ком скорбит Добренко, могут быть причислены только те, кто вырос в семьях потомственных интеллигентов. Именно они носители той культуры, которая ни от крестьян, ни от кабачников, ни от становых, ни от ростовщиков. Правда, в последнем случае, автору статьи не худо было бы пояснить: может быть, автор дневника (который он цитирует) под ростовщиками имел в виду только русских зажиточных крестьян, которые весной давали беднякам зерно для посева под грабительский процент. Не мог же он (упаси Бог) осудить потомков ростовщиков – владельцев банков, и других крупных деятелей финансовой и торговой сферы, которые, видимо, и вошли в золотой фонд интеллигенции.
Всё это больше, чем неправда! Это – политика! Кажется безобидным - это вредное бормотанье интеллигентской секты, которая от народа на несколько астрономических парсеков дальше, чем «страшно далёкие» от него русские декабристы! Но это политическая позиция определённой части российского общества, которая показывает, что дело не в сталинизме. А в том, что вообще без нас, потомков рабочих и крестьян, «кулаков и кабачников», то есть без большинства русского народа – вознамерились либералы строить свой «город Солнца»!
Конечно, «система доказательств» и аргументов рецензии - рассчитана на современного «потребителя интеллектуальной продукции», которому лень вникать в смысл хитросплетений истории, который по наивности своей поверит, что какая-то там «культура (без роду и племени, без названия и определения) ….боролась в течение веков с жестокой невежественной силой ростовщиков и кабачников» (Не путать с культурными ростовщиками) Но они - «невежественные» - в советское время стали нашими цензорами, бытоустроителями, воспитателями! – цитирует дневник Фрейденберг автор статьи. Вот откуда весь этот хаос и все наши несчастья!
Интересно, если бы произошло чудо, и Сталин вдруг проникся «заботой и ответственностью за состояние нашей гуманитарной науки», и решил убрать «невежественных «воспитателей и цензоров», кем бы он заменил их? Автор рецензии готов ответить на этот вопрос: «какой была бы наша страна, (восклицает он) если бы нас не убивали, не сажали, не гноили на Беломорканале» И далее приводит целый список имён В.Я. Пропп, М И. Гиллельсон, Ю.Г.Оксман, Г.А.Гуковский, И.З. Серман.
Конечно, сажать в тюрьмы учёных и педагогов - варварство. Их надо переубеждать и привлекать на свою сторону. Это уникальное интеллектуальное и творческое богатство нашей страны.
Но вот беда! видели ли себя самоотверженными воспитателями грубого «невежественного народа» – сами европейски образованные» филологи и литературоведы? По стране шла лавина преобразований и перемен. Готовы ли они были оставить свою гордыню, амбиции и увлечься общими заботами, рассуждая так - раз большинство строит социализм, и мы будем участвовать, ведь мы часть этого большинства- плоть от плоти?! Косвенно автор рецензии отвечает на этот вопрос, приводя еще одно высказывание Фрейденберг: «Я понимала, что речь идёт о сбережении культуры». Вспомним, что писатель А.И.Солженицын говорил о сбережении народа. Какая разница в подходах! Какая разница в отношении к обществу, к государству. В свете всего сказанного Фрейнберг о «потомках крепостничества», о бездушной силе мужиков, ясно, что ей в голову не могла придти мысль о «сбережении» такого «некачественного народа!» И опровергая мысли автора рецензии Добренко о филологах- спасителях отечества, Фрейнберг резонно спрашивает: «ну что могли сделать учёные –одиночки, когда государство под грохот риторики о приоритете и патриотизме русской науки - целенаправленно уничтожало культуру?»
Вот вам и ответ: ничего бы не сделали, потому - что одиночки! Потому - что культура в их понимании- это вроде заповедника для избранных…. И мыслили они себя в этом «заповеднике» единственными обладателями монополии на истину.
Сам Добренко утверждает, что «патриотическая наука» (как и партийная наука», продуктом которой она является) - это оксюморон. Гуманитарная наука, не занимающая позиции «другого» по отношению к своей культуре, обречена оставаться в плену собственных национальных мифов. Она должна быть «своей» и «другой» одновременно».
К, сожалению, «своей» в сочетании с «другим» эта часть интеллигенции и ведомая ею наука не стала. А вот «другой» она стремилась стать всегда. Автор пробует нас убедить, что наука хиреет, когда лишается «бродильного космополитического элемента». А что происходит с наукой, когда «бродильный элемент» переполняет её? Поедает без остатка инертную субстанцию? Получается перекисшая пенная «брага»!
В реальной научной и педагогической деятельности, национально мыслящие оппоненты, представляются «родным космополитам» не полноправными участниками научных изысканий, а досадной помехой! Или, по крайней мере, инертной субстанцией, которую необходимо наставлять и опекать! Эти «провинциально мыслящие» оппоненты представлены автором рецензии какими- то мелкотравчатыми, умственно недалёкими карьеристами, вроде шарлатана - академика Лысенко с его пресловутой сверх-урожайной пшеницей! Да мало того! Автор книги Дружинин, которого и рецензирует Добренко, считает, что это было карикатурным проявлением общего тренда эпохи позднего сталинизма. Подобное происходило практически во всех науках, как естественных, так и гуманитарных! Теперь это был коллективный Лысенко». Вот как страшно! И все достижения тех лет - не в счёт! Сколько имён учёных от Вернадского до Королева, сколько литературоведов - от Бахтина до Кожинова – забыто обиженным за «своих» критиком.
Остаётся загадкой: насколько сами «родные космополиты» любили «своё», родное. Если согласно утверждению автора рецензии патриотическая наука- есть оксюморон, то есть сочетание противоположных по смыслу понятий, то, что значит «своё» для литературоведа, для филолога. Это же должно быть что-то национальное, традиционное.
Отчасти о понятии «своего» поведал сам автор рецензии. Он приводит высказывания Ю.Слёзкина о том, что «трудность евреев состояла не в том, что они сильно любили Пушкина…а в том, что это у них слишком хорошо получалось..» (Позавидовали, значит, – их малообразованные «воспитатели из потомков крепостничества» такой силе любви и такому мастерству!)
Оставим без улыбки - эту почти детскую наивность высказывания человека, ослеплённого непомерной гордыней! А если серьёзно, то одного Пушкина любить – это, извините, слишком мало! Для целой науки явно недостаточно!
С остальным-то русским наследием как быть?
Вопрос далеко не праздный. В годы «перестройки» Горбачева мне встречались статьи либеральных филологов, которые со всей серьёзностью осуждали некоторые русские былины и требовали убрать их из школьной программы. Причина? Не толерантное отношение к скандинавским народам.
Не в теме оказался автор былин. Обозвал захватчиков русской земли словами простыми, народными!
Почему нас всё время стараются лишить нашего национального прошлого? Почему эта задача стала для наших духовных противников – стратегической!
Ответ можно найти у замечательного психолога Карла Густава Юнга. Образы прошлого он назвал «безмолвными событиями, которые требуют не замещения, а индивидуального оформления в жизни и деятельности отдельного человека». Эти образы возникли из жизни, страданий и радостей предков и снова стремятся вернуться в жизнь и как переживание и как деяние». (1) То есть, наша жизнь – продолжение прошлого и чтобы жить согласно особой национальной программе, заложенной Богом, ничего там - в прошлом - нельзя «замещать» придуманными кем-то чужими «образами». Каждый из нас имеет право на это сложное не придуманное прошлое! Оно живёт внутри нас в единстве плохого и хорошего. И, замещая в нашем «бессознательном» - эту противоречивую, чёрно-белую, но реальную картину – только отрицательными образами насилия и невежества, нынешние «европейски образованные» либералы вполне могут отрицательно повлиять и на наше будущее. Эти ужасы вновь могут возвратиться, как переживание и как деяние, но уже в концентрированном, более опасном виде. Не зря действие бессознательных образов К.Г.Юнг называл судьбой.
«Европейски образованные филологи» от того и чувствовали себя « не в своей тарелке», что не могли реализовать «безмолвные образы» страданий и радостей своих предков» среди чужого им по духу народа! В условиях России у них всегда не хватало условий для реализации. Куда не взгляни, везде «хамская, бездушная сила мужиков, невежество и «романтическое резонёрство «патриотов! По--хорошему-то, без любви к данному народу, нельзя заниматься гуманитарными науками среди этого народа, обучая его» только «другому»!
В этом смысле, когда нет «своего» (родного), «другое» по классификации Добренко, начинает доминировать над всеми остальными научными целями и настоящего литературоведения и филологии не получается. Получаются «подделки», где нет народного духа и его «коллективного бессознательного».
Очень честно, как и свойственно поэту, написал Осип Мандельштам, слова которого приводит в Ю.Кублановский: «Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых…Память мне не любовна, а враждебна и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого». (2) Тут нечего добавить или убавить! Это свойственно многим нынешним «европейски образованным» деятелям гуманитарной науки. Но, в этой связи, какой разрушительной дисгармонией - оборачивается культурное общение такого поэта, писателя, художника с многочисленными читателями, у которых в памяти сохранилось это национальное прошлое и продолжает волновать его, требуя выхода в новую жизнь, реализации в новых переживаниях и деяниях.
Так в России больше века длиться культурная вакханалия: душа читателя всё пытается воспроизвести прошлое, а память «европейски образованного» – прошлое отстранить! Вместо творческих, целостных личностей, которые бы могли создавать новые великие культурные ценности, мы наблюдаем большей частью дезорганизованного гуманитария! А в культуре - вечный конфликт, смешение стилей, иронию и грусть нереализованности! Всё привносимое в культуру без органичного участия прошлого – оказывается искусственным и не жизненным! Подтверждается мысль К .Г.Юнга о том, что «человек не может безнаказанно отделяться от себя в пользу искусственной личности».
В наше время учёные уже пробуют делать пересадку головы. Бьются над тем, чтобы организм человека принял новую голову, как свою, чтобы не было отторжения. Но, если, подобно голове профессора Доуэля из фантастического романа А.Беляева – «голова» интеллигенции может жить без туловища нации, не любит грубой силы этого туловища, то не какой пересадки не получится! Но «отдельно живущая голова» не может ощутить полного счастья, ведь сердце-то, способное любить, осталось в «туловище»!
Примечания:
1) К.Г.Юнг. «Психология бессознательного», С.122.
2) Ю.Кублановский. «Десятый», Новый мир, С.115.













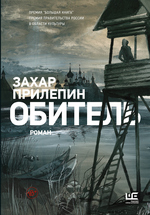

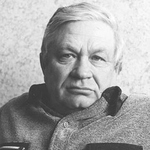











1. Re: Право на прошлое: о ненависти интеллигенции к русскому народу