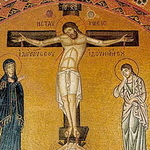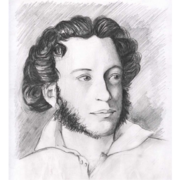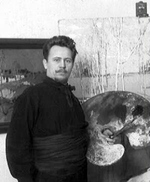Выпускница Литературного института им. Горького поэт Елена Буевич, живущая в Черкассах и являющаяся членом Национального союза журналистов Украины и Русского ПЕНа, известна и как переводчик с украинского и польского, а в последние годы обратила на себя внимание своими переводами с сербского. Ее последняя поэтическая книга «Две душе - Две души» опубликована в переводах на сербский (Белград, «Граматик», 2016 г.) и презентована тогда же на Белградской международной Книжной ярмарке. А в сентябре минувшего года в Белграде прошла презентация книги ее переводов на русский стихотворений современного сербского поэта (Данило Йоканович, «Чернила и вино», Издательский дом Д. Бураго, Киев). С Еленой Буевич о ее «сербской стезе» беседует писатель Станислав Минаков.
- Елена, вы не впервые побывали в Сербии. Расскажите, что привело вас в эту страну.
- В Сербии побывала уже четвертый раз, это такая страна - однажды
посетив ее, хочется возвращаться снова и снова. Полюбила я ее в
воображении, а увидев воочию, вдруг почувствовала себя... сербкой.
Все мои поездки связаны с литературной деятельностью. Три раза была
участником Международного фестиваля писателей в Белграде, который
проводит Удруженье книжевников Сербии (Союз писателей). А еще одно
сербское путешествие было на знаменитую Белградскую Книжную ярмарку -
«Саjам книга» в 2016 году. Там у меня прошла презентация новой
поэтической книги.
- Как и почему возникла сербская тема, сербская поэзия в вашей жизни?
- Неотступный, побуждающий действовать интерес к Сербии возник году
этак в 2010-м. Но еще в детстве мама пересказывала мне югославский фильм
«Козара». И так тогда поразило страдание сербов во время Второй
мировой. И мамины слова о том, что сербы - наши братья, запомнились
навсегда. Эти детские впечатления оживились, когда началось
«вавилонское» объединение в соцсетях. Оказалось, что мир открыт более
чем мы представляли - мы регистрировались в Фейсбуке, и в друзьях
оказывались люди из разных стран. А больше всего у меня оказалось
сербов. Я слушала музыку, которой они делились, рассматривала фотографии
их монастырей. Первый порыв узнать о Сербии больше был
художественно-эстетическим. Помню песню, которая меня тогда впечатлила -
«Христе Боже, распети и свети,/ сва Србиjа на Косово лети». Там
удивительные и музыка, и слова: Сербия летит на Косово сквозь небесную
высь, а ее крылья - это Морава и Дрина.
Понимала я через одно слово, но тем величественнее представляла себе
всю картину. Этот эффект - когда ты почти понимаешь смысл слова, но
что-то должен предугадать прежде душой, а уж потом уточнить в словаре, -
окрылял, как те самые «Морава и Дрина». Я поняла, что уже люблю этот
язык, этих людей, так написавших и так чувствующих. В словах сербского
языка открывались бездны смыслов. Слова обрастали символическими
значениями, а что еще интереснее - несли информацию о русском языке, о
его трансформации, историческом развитии. Потому что очень часто
сербское слово было однокоренным для русского архаизма или слова из
церковнославянского языка.
- Тогда вы стали учить сербский?
- Я должна была это сделать. Мне попалось стихотворение сербского
классика Милана Ракича «Симонида» - о фреске сербской королевы XIV века
из монастыря Грачаница (Косово и Метохия). У изображения выщерблены
глаза. Как написал поэт, фреску повредил иноверец - тайно, ночью, ножом...
А поэт смотрит на ослепленную Симониду, такую грустную, и
торжественную, и стойкую, и видит ее глаза - как свет далеких звезд,
который приходит к нам несмотря на то, что светила давно уже погасли... Я
задумала перевести «Симониду» и приставала к сербским друзьям, чтобы
они объяснили мне то одно слово, то другое. И быстро поняла, что нужно
просто выучить сербский.
- Сербский не самый распространенный, скажем так, язык среди массы языковых курсов, как вы его учили?
- Скачала в сети детские уроки сербского, и по ним разбиралась с
грамматикой. Времени, как всегда, не было, и дальнейшее мое учение
происходило в чатах. Почти все мои сербские собеседники не знали
русского. Поэтому я переходила на их язык. Открывала Google-переводчик и
переписывалась. В какой-то момент обнаружила, что обхожусь без него,
понимаю тот письменный язык, которым мы пользовались.
Труднее было различать речь в фильмах: у сербов специфичное произношение, четыре интонационных акцента в словах. Но это несравненное счастье - бывая в Сербии, понимать и отвечать, и потихоньку усваивать интонацию. И главное - теперь я могу переводить.
- Вас в Сербии наверняка принимают за свою? Ваша фамилия - сербская?
- Фамилия - от дедушки Антона Фаддеевича, и она скорее польского
происхождения. Польские корни имели мать и крестные-восприемники моего
деда, крещенного в католичестве. А дед уже считал себя белорусом. Но вот
интересно: обнаружилось, что подобная фамилия (правда, с характерным
сербским ударением на первый слог) есть и на Балканах. В Черногории
известен замок Буjовича (в записках «Путешествие стольника П.А.Толстого
по Европе 1697-1699 гг.» он упоминается как «дом Буевича»). Очень меня
этот факт порадовал.
- Как человек православный, вы и в этот раз совершили паломничества в несколько великих православных монастырей Сербии. Можете поделиться с нами впечатлениями и от этих прикосновений?
- У меня была давняя мечта - побывать на службе в сербском монастыре. И
так, чтобы никуда не спешить, чтобы прийти туда не туристом, а
паломником. Осуществила это благодаря приятелю Даниле Йокановичу, чью
книгу стихов я перевела. Он предложил мне съездить в Студеницу,
монастырь во имя Успения Богородицы Жичской епархии Сербской
православной церкви. Моя подруга Драгана Мрджа из Белграда тоже захотела
со мной, и мы вдвоем с ней на рейсовом автобусе отправились в горную
Сербию, в область Рашку. Там, в неприступной долине, среди высоких
«планин», еще в XII веке был основан один из загадочных и прекраснейших
сербских монастырей... И там меня ожидало чудо! Войдя в один из храмов, я
подняла глаза на фрески и встретила свою «Симониду» - копию того
«ослепленного» изображения из Грачаницы.
- Нам всем, даже тем, кто там никогда не бывал, отрадны и природа
Сербии, и ее православный дух, и язык. Нам памятны «Песни западных
славян» Александра Пушкина, который никогда в Сербии не бывал. А в каких
местах Сербии вы еще побывали? Что запомнилось более всего?
- Помнятся поездки на Белградские Международные встречи писателей. У
этого фестиваля есть своя «фишка» - каждый раз делегации, сформированные
из приехавших гостей и сербских коллег, отправляются в малые города и
села. И таким образом все знакомятся с сербской глубинкой. В первый свой
приезд я побывала в монастыре Раваница. В нем покоятся святые мощи
князя Лазаря - любимого сербского героя Косовской битвы. Надо ли
говорить, с каким волнением я поцеловала гроб Царя-Лазаря?
Во время второго моего фестиваля я попала в маленький монастырь Заова в
Восточной Сербии - затерянный среди густого сырого векового леса. И это
было открытие! Он оказался местом, где разворачивались события сербской
эпической песни, которую для своих «Песен западных славян» перевел А.С.
Пушкин (это знакомая нам с детства песня «Сестра и братья», так она
называется в русском переводе).
А нынешней осенью меня включили в фестивальную группу из девяти
человек: среди нас были поэты из Италии, США, Канады, Румынии,
Республики Сербской. Мы посетили маленький монастырь Дренча и огромный
храм Св. Георгия Победоносца в Опленце - мавзолей-усыпальницу княжеской и
королевской династии Карагеоргиевичей.
Незабываема и поездка на юг Сербии в Ниш, к коллеге, писателю Радосаву
Стояновичу. Он и его супруга Марина отвезли меня в село Горни Адровац,
где на горе среди лип и берез стоит нарядная Троицкая церковь,
посвященная русскому добровольцу, полковнику Николаю Раевскому: он погиб
там в бою с турками в 1876 году. Сербы особо чтут его память, не без
оснований считая Раевского прототипом Вронского из «Анны Карениной». Там
ощущаешь, как все это рядом, все - живо.
- Согласны ли вы с таким суждением, что сербы - это улучшенные русские?
- Это выражение было моим излюбленным в пору первого соприкосновения с
Сербией. С годами я поняла, что всякая идеализация неправильна. Что-то в
Сербии действительно кажется более плодотворным воплощением наших
собственных духовных идей. А что-то, - и такого было намного больше! -
убедило меня, что привычное разделение на русских и сербов - чисто
историческая и географическая данность. В сути своей, в главном, в самом
важном, мы - один и тот же разделенный народ. Только этим и можно
объяснить почти мистическую вечную тоску сербов о «России-матушке», как
они говорят, и с другой стороны, - нашу многовековую влюбленность в
сербскую жизнь и идущую от славянофилов и от того же полковника
Раевского, - романтизацию этого края на Балканах.
Почему в Сербии и замечаешь: ты проделал огромный путь, и тебе тут все
внове, а остановишься на миг, и узнаёшь все вокруг. Все - родное, ты
дома.
Острее всего это переживаешь в церкви. На службе - понятно каждое
слово, и в какой-то момент падают невидимые преграды, ты оказываешься в
том же времени, что и сербские святые на настенных фресках. Понимаешь, что они тебе говорят, и что ты - их современник и собеседник, и ученик, и вы - одно.
И на древних могильных монастырских плитах там все написано «по-нашему»...
- Сербский писатель Душко Радович заметил: «Кому посчастливилось сегодня утром проснуться в Белграде, тот не должен больше ничего просить у жизни...». Действительно ли это так? И расскажите, пожалуйста, подробней о вашей книжной презентации в Белграде.
- Белград удивительно жизнелюбивый город. Там хочется быть счастливым. Я успела облюбовать в нем «свои» улицы, и даже отель. Он называется «Скадарлия» и находится возле знаменитой «богемной» улочки сербской столицы. И сам отель, и здания возле него - старые, в несколько этажей, с причудливыми фигурными чердачками в стиле модерн (в каждом - маленькое окошко) и с характерными, старыми белградскими складными ставнями-решетками на окнах. А в двух шагах - вечный праздник Скадарлийской улицы, где в ресторанчиках до сих пор, будто никакого времени не существует, исполняются русские эмигрантские романсы, и немецкие туристы аплодируют, пьют айвовую ракию-дуню и просят спеть еще много-много раз...
Между ресторанами приютился маленький беленый домик Джуры Якшича, легендарного поэта, ценителя вина и богемной жизни. В зале проходят поэтические вечера. И именно там состоялась презентация книги стихотворений Данилы Йокановича: я перевела ее на русский язык, а Издательский Дом Дмитрия Бураго в Киеве выпустил в свет. Все мы втроем - автор, переводчик и издатель - представили книгу сербским гостям, читали стихи на обоих языках, была замечательная атмосфера понимания.
- Елена, в минувшем году вы побывали не только в сербском Белграде, но и в российском Белгороде (чудесная географическая, даже геополитическая, языковая, смысловая рифма!), где в рамках фестиваля «Дни сербской культуры в Черноземье» в июне прошел ваш незабываемый творческий вечер, на котором присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации доктор Славенко Терзич и ректор опорного вуза региона - БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев; к слову, сербы белгородцам-шуховцам - не чужие, в технологическом университете постоянно действует Сербский ресурсный центр «СРце», и именно белгородский «Технолог» приютил в своих стенах сербский фестиваль...
- Это было замечательное событие - фестиваль, организованный Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» и центром «СРце». В Белгороде я нашла Сербию. А на своем поэтическом вечере увидела такой интерес к сербскому слову, языку и поэзии, который меня вдохновил. Вернувшись, закончила собирать книгу переведенной современной сербской поэзии и теперь ищу издателя: переводы на русский в ней должны идти параллельно с оригиналами стихотворений. Верю - те, кто будет их читать, сравнивать и запоминать, убедится, что сербы и мы - это одно целое, а изучение сербского языка для нас не что иное, как самопознание.
В завершение - перевод Елены Буевич из сербского цикла:
Милан Ракич
Симонида
Ослепили тебя, прекрасная фреска!
Незамеченный, под покровом ночи,
ни красы твоей не щадя, ни блеска, -
басурман ножом тебе вынул очи.
Но не смог коснуться уст, что молчали,
и всего королевского лика в нимбе:
золотой короны, цветной вуали,
кос тяжелых твоих под ними...
На колонне, освещенной свечами,
я увижу тебя и - дивлюсь, настолько
ты судьбу свою переносишь стойко:
в мозаичном платье, бледна, печальна.
Как от дальних солнц, космической пыли,
проливается свет к нам из звездных облак,
а мы видим сияние, цвет и облик
тех далеких звезд, что уже остыли, -
так теперь в душе всё горит обида,
а со старых стен, что мрачнее ночи,
мне сияют ясно, моя Симонида,
те твои давно изъятые очи...
Беседовал Станислав Минаков
Фото из архива Елены Буевич