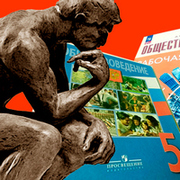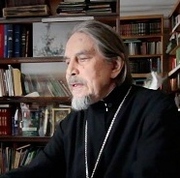В своих религиозно-философских трактатах поздний Толстой, вступивший на путь беспощадной полемики с Церковью, отрицал божественное происхождение Иисуса Христа, сомневался в бессмертии человеческой души, произвольно извлекал из четырёх Евангелий лишь заповеди Спасителя, подвергая их весьма вольной трактовке. Фактически он сам отлучил себя от Церкви, а Святейший Синод своим постановлением 1901 года лишь подтвердил уже состоявшийся факт.
Религиозное самоуправство Толстого встретило умного оппонента в лице фрейлины Императорского двора, воспитательницы царских детей Александры Андреевны Толстой. Дочь Андрея Андреевича Толстого, младшего брата толстовского дедушки, приходилась Льву Николаевичу двоюродной тёткой. Толстой очень её любил, к её мнениям прислушивался.
«Вы любите Христа, вы хотите следовать за ним (в этом я убедилась с радостью), и, однако, мы не можем вполне понимать друг друга, потому что Вы упорствуете видеть в Нём только величайшего проповедника нравственных законов, не признавая Его божественности, – утверждала Александра Андреевна. – Но я бессильна делать добро, лишать себя имущества и даже любить, не будучи предварительно соединена со Спасителем той таинственной, но вполне действительной связью, которая выше всяких умствований, или, проще сказать, не имеет с ними ничего общего, так как это есть откровение и сила, не зависящая от нас».
Что представляет собой человек без этой силы? Апостол Павел говорит о нём: “Добра, которого хочу, не делаю, а делаю зло, которого не хочу” (Рим. 7:19). Это противоречие повторяется в душе всякого разумного существа. Да, я хочу добра, а моя греховная природа противится этому желанию на каждом шагу моей жизни. Кто же поможет мне победить эту двойственность? – Только Благодать Святого Духа, которую Христос велит призывать и которую обещает ниспослать всем, просящим её горячо и неотступно. Без этой помощи я впала бы, несомненно, в совершенное бессилие, между тем как Вы считаете возможным выполнение учения Христова силой собственной воли. Отняв у людей Божественную помощь, Вы создаёте путников голодных и алчущих, лишённых пищи и воды. Хватит ли у них силы донести до конца тяготу обязанностей, лежащих на них?».
Толстой не берёт в расчёт, что христианин обладает не только естественными, но и благодатными силами. Он не хочет замечать, что без поддержки благодатных сил человек остаётся пленником своей отуманенной грехом природы. Изменить её лишь своими усилиями человек не может. Святитель Феофан Затворник говорит: «Кто творит по самонадеянности, со смелостию до дерзости, в самоугодие или человекоугодие, тот, хотя и в правых делах, образует в себе злой дух самоправедности, кичения и фарисейства».
Однако впавший в ересь Толстой не переставал быть великим художником, способным к постоянному духовному росту и неожиданным переменам. Своё вероучение он не возводил в непреложный догмат, как это делали его многочисленные ученики. И когда он воспринимал мир глазами художника, влюблённого в жизнь, многие религиозные умствования отступали или подвергались невольному сомнению.
Вот характерное признание его в письме к Софье Андреевне Толстой от 6 мая 1898 года: «Назад ехал через лес тургеневского Спасского вечерней зарёй: свежая зелень в лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего берёзового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно было, что так же хорошо, хотя и по-другому будет на той стороне смерти, и понятно было, почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость, радость природы. Мне ясно было, что там будет так же хорошо, – нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, – и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность».
В художественных произведениях Толстой часто выходил за пределы своего «толстовства». Н.Н. Страхов писал ему 16–23 ноября 1875 года: «Может быть, я скажу Вам то, что Вы сами не осознаёте. Отвлечённые нравственные правила всегда узки и односторонни, и в Ваших созданиях выражается гораздо больше, чем кто-нибудь (даже Вы сами) можете формулировать отвлечённым языком».
Когда после духовного перелома Толстой обратился к религиозно-философским писаниям, он на собственном опыте пережил непреодолимый конфликт между живой (литературной) и отвлечённой (философской) мыслью. 2 марта 1891 года Софья Андреевна Толстая записала в своём дневнике: «…Лёвочка грустен, я спросила: “Почему?” Он говорит: “Не идёт писание…” – “О чём?” – “О непротивлении”.
Ещё бы шло! Этот вопрос всем и ему самому оскомину набил и перевёрнут и обсуждён он уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы, а приступить трудно. Там резонёрство уже не годится. Как попрёт из него поток правдивого, художественного творчества, – он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно, вот и страшно его пустить, а душа тоскует!»
Толстой неспроста назвал свой последний роман «Воскресение». Он верил, что люди собственными усилиями могут изменить себя и окружающий мир. Считая человека творением Божиим, близким к совершенству, он полагал, что морально-нравственный закон Христа человек может исполнять самовольно, не нуждаясь в Благодати, в таинстве Евхаристии. Толстому казалось, что люди способны преодолеть социальную дисгармонию легко, разумным исполнением христианских заповедей. Толстой говорит о Нехлюдове: «Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чём он просил, уже совершилось. Бог, живший в нём, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал всё могущество добра. Всё, всё самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать».
Толстому хочется доказать, что в душе Нехлюдова, ощутившего в своей душе Бога, свершилось торжество духовных начал. Его усовершенствование не нуждается в благодатной поддержке и движется к оптимистическому финалу. Однако художественная реальность требует от автора жизненной правды. И Толстой изменить этой правде не может.
Нельзя не согласиться с А.В. Гулиным, который пишет в статье о романе «Воскресение»: «Всё в окружающем мире казалось ясно и Толстому, и его герою, а между тем поэтический дар великого художника словно бы вступал в противоречие с догмами “новой истины”, провозглашаемой со страниц романа».
Вот его Нехлюдов в Кузминском решает отдать всю землю по недорогой цене крестьянам. Замечательно! Но, даже с Богом в душе, «ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубятся, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров… Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но и земли и половины дохода, который мог так понадобиться теперь».
Вот Нехлюдов, решивший порвать со светской жизнью и отправиться по этапу вслед за Катюшей, после общения в Петербурге с аристократической знакомой Mariette, испытывает глубокие сомнения в правомерности своих решений: «В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лёг в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении сената и о том, что он всё-таки решил ехать за нею, о своём отказе от права на землю, ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицо Mariette, её вздох и взгляд, когда она сказала: “Когда я вас увижу опять?”, и её улыбка, – с такою ясностью, что он как будто видел её, и сам улыбнулся. “Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?” – спросил он себя.
И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределённые. Всё спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей; но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности.
“А вдруг всё это я выдумал и не буду в силах жить этим: раскаюсь в том, что я поступил хорошо”, – сказал он себе, и, не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какого он давно не испытывал».
Дальше – больше! Вот Нехлюдов получает известие о помиловании Катюши. «Известие было радостное и важное: случилось всё то, чего Нехлюдов мог желать для Катюши, да и для себя самого». Но это известие почему-то не приносит ему радости и счастья. Он едет в острог сообщить Катюше о помиловании «с тяжёлым чувством исполнения неприятного долга».
Почему это произошло? Вспомним, что на обеде у генерала, объявившего о помиловании, «Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и лёгкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто всё то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности».
Получается, что Нехлюдов, почувствовав в себе Бога и осознав себя богом, с большим трудом «самосовершенствуется», но так и не достигает желанного «воскресения». Религиозная доктрина Толстого не получает органического воплощения в художественном мире романа, обнаруживая свою ограниченность и нежизнеспособность.
«В поэтическом строе “Воскресения”, очень неровном, есть эпизоды, где моралист на время почти полностью уступает место художнику, – замечает А.В. Гулин, – и среди таких эпизодов – сцена заутрени в Панове. Толстой и здесь пытается “принизить” описание церковного таинства, говорит о каких-то “плясовых напевах”, будто бы звучавших в церкви, намеренно акцентирует внимание на земной красоте Масловой, но при этом остаётся верен самому существу того, о чём он пишет. “Всё было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных золотых серебряных стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с маслеными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с всё повторяемыми возгласами: “Христос воскресе! Христос воскресе!” Всё было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на чёрной голове и с сияющими восторгом глазами”.
Вот где было Воскресение, вот где было желанное единение всех людей Русской земли: богатых и бедных, старых и молодых, сильных и слабых. Только память об этом Воскресении, только постоянное присутствие его в жизни России могло гармонизировать противоречия, преодолеть нарастающий хаос в умах, уберечь страну от разорительных потрясений».
Толстой всегда оставался великим художником, способным к постоянному духовному росту и неожиданным переменам. Своё вероучение он не возводил в непреложный догмат, как это делали его многочисленные ученики. Толстой, по справедливому замечанию Сергея Николаевича Булгакова, – не основатель, он – религиозный искатель и этим силён. Ему было дано знать тревогу исканий гораздо больше, нежели покой и радость религиозной жизни: «Величие религиозной личности Толстого, но вместе и её противоречивость и незавершённость, именно и выражается в том, что он сам никогда не смог успокоиться и установиться на своём учении, но постоянно выходил за его узкие рамки. Сам Толстой не вмещался в толстовство, в которое хотели загнать его прямолинейные фанатики его доктрины. Оно было для него временной формой успокоения, камнем под изголовьем, условным символом веры, сам же он продолжал жить во всю ширь своей личности и со всеми его противоречиями, как Толстой, а не как толстовец. Никогда не надо забывать, что в нём, кроме догматического вероучителя, жил прозорливец искусства, томился огненный дух, вечно мечущийся, вечно вопрошающий. И эту для нас наиболее драгоценную черту души Толстого, эту неумолчную тревогу исканий с ослепительной яркостью символизировали его последние дни».
В ночь с 27 на 28 октября 1910 года Толстой тайно покинул Ясную Поляну в сопровождении доктора Душана Маковицкого.
Что привело его сперва к скитским воротам Оптиной пустыни, войти в которые он не решился? Почему он захотел обосноваться рядом с Оптиной, в Шамордине, и снять комнатку неподалёку от кельи своей сестры Марии Николаевны, монахини женского монастыря?
На эти вопросы мы не найдём ответа. На вопрос сестры Марии Николаевны, почему он не побывал у старцев, Толстой ответил: «Да разве, ты думаешь, они меня примут? Ты не забудь, что истинно православные, крестясь, отходят от меня; ты забыла, что я отлучён, что я тот Толстой, о котором можно... да что, сестра!..».
Пришла весть, что в доме знают о месте его нахождения, и Толстой решил бежать далее. Он бежал ото всех: ему хотелось вырваться из того облака, которое он сам создал и которое его окружало. Но тут, очевидно, Бог сжалился и прекратил его страдания. В дороге он заболел воспалением лёгких. Пришлось сойти с поезда и остановиться на станции Астапово Рязанской железной дороги.
Прибывшие в Астапово «толстовцы» прекратили доступ к писателю всех, кто не разделял основы их учения. Толстой умер без покаяния. «Хотя он и Лев был, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана», – сказал о нем старец Варсонофий, который приехал на станцию Астапово, но не был допущен к умирающему писателю. А сам факт его пребывания в Астапове толстовцы скрыли от Льва Николаевича. Даже Софье Андреевне под благовидным предлогом не разрешали свидания с умирающим мужем.
Давний антагонист Толстого И.С. Тургенев в повести «Переписка» говорил: «Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр её, потом отделяются, отчуждаются от неё и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас и из нас же самих образуется… как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой…».
От порождённого им самим удушливого облака освободиться Толстому не удалось.
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук















_иерей.jpg)