
Относительность, возведенная в абсолют, сама становится абсолютом. Напрасно полагают, что постмодерн несовместим ни с каким единством («большим нарративом», «длинной» идеологией»). У него есть заветное — хотя обычно и не разглашаемое — объединяющее начало: разрушение духовно-ценностной вертикали, вожделенная мировоззренческая и организационная горизонталь. На современном жаргоне это называется сетью.
Большинство аналитиков согласны, что сетевые структуры существовали всегда, только назывались другими словами. При предельно широком подходе сюда можно отнести открытые и тайные общества вроде мирового масонства, теневые бизнес-структуры («ротари-клуб» и т. п.), криминальные группировки (мафия, «воры в законе»), и ещё множество иных человеческих объединений, вплоть до «голубых» и «розовых» интерклубов.
Подобного рода негосударственные или противогосударственные союзы на протяжении веков возникали, развивались и умирали, но никогда прежде они не выделялись в отдельный класс социокультурных объектов, для опознания которых в качестве самостоятельной реальности необходим специальный термин-знак.
В известном смысле, такова генеральная линия западной цивилизации — во всяком случае, цивилизации европейской. Начиная с эпохи Возрождения, социокультурное пространство Европы определяется давлением людей денег на людей идеи. Последующая за Ренессансом протестантская Реформация оказалась ничем иным, как буржуазно-индивидуалистическим бунтом против сакральной власти – тут одинаково потрудились и Кальвин, и Кромвель. Выразительный пример победы сети над традиционной монархией являет собой французская революция ХVIII века, с её просветительско-масонской идеологией и террористической практикой. По сути, это был типичный сетевой заговор, в котором часть (третье сословие) одержало верх над целым — Францией, ещё хранившей память о Жанне дАрк.
Что касается ХIХ столетия, то всё оно прошло под знаком возрастающей агрессии сетей против миропорядка Священного Союза, от коронованного революционного генерала Бонапарта с его буржуазным кодексом, до февральской (масонской) революции 1917 года в России, свергнувшей последнюю великую христианскую корону в мире.
Относительно интернационал-коммунизма отметим только, что первый съезд РСДРП в Минске собрал всего 9 делегатов — это ли не пример тайного могущества сети в новейшей истории?
Вершиной сетевой политики, на мой взгляд, является разрушение СССР — сверхдержавы середины ХХ века, сокрушившей фашизм, вышедшей в космос, но оказавшейся совершенно беззащитной перед скрытой работой внутренних сетевых сообществ (собственной «закулисы», как сказал бы Иван Ильин).
Сегодня налицо расцвет электронных сетевых проектов. В мировоззренческом плане, конечно, дело идёт о едином культурно-политическо-экономическом суперпроекте. Такова, например, финансовая империя Д.Сороса, оперирующая «чистыми» дензнаками — типично постмодернистская практика означающего без означаемых.
Мощную поддержку такого рода практикам со стороны концептуальной власти оказывают международные информационные сети вроде глобального телевидения или интернета, проецирующие свои семантические ризомы («кусты», «грибницы», лишенные центральной точки отсчёта) на ровные бескачественные смысловые плоскости, где люди и вещи уже не имеют естественного «своего места», а лишь отражаются (играют) друг в друге, благодаря чему и получают единственный шанс к бытию.
Сеть как жизнь и жизнь как сеть.
Сеть уловления душ.
«Мир ловил меня, но не поймал» (Григорий Сковорода).
Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор, научный руководитель Российского института истории искусств







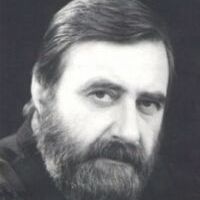
























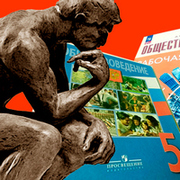

1.
Общаясь с людьми с людьми на работе, или становясь невольным свидетелем разговора случайных незнакомых людей, понимаешь - некий бессмысленный смысл захватил всё. Безрассудные рассуждения, несуществующие картинки, нереальная реальность.Наполненная пустота . Мертвая жизнь....