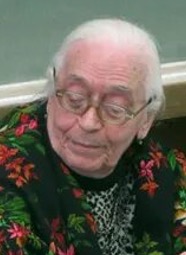

Начну с утверждения, высказанного Лосевым в очерке «Русская философия» (1918 г.), т. е. более столетия тому назад: «Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным, богочеловеческим Логосом».
А ведь это означает, что истинную причину нынешнего противостояния России и Запада следует усматривать в изначальной несовместимости идей, саморазвитие которых обусловило особенности многовекового формирования двух цивилизаций. Именно таким видится положение вещей с позиции исторического идеализма.
Правда, в названном очерке об этой позиции самогó Лосева не было ни слова. И лишь через целых шестнадцать лет, вместивших множество драматических событий собственной жизни, он достаточно подробно изложил её в развёрнутом Предисловии к курсу «Истории эстетических учений», сумев не только обойтись при этом без единого упоминания о сугубо религиозных корнях исторического идеализма, но ещё и придать своей трактовке характер дискуссии с марксистами. Общую же значимость этого Предисловия, текст которого, представленный Азой Алибековной в 1993 году к публикации в журнале «Путь», предваряли её собственные «Замечания», она выразила следующим образом:
«Нигде в трудах А.Ф. Лосева не найдём мы такой блестящей самохарактеристики, как та, что представлена автором в данном Предисловии. Это ключ к пониманию Лосева-преподавателя, лектора, писателя, философа с его научными принципами, методами, выраженными до предела откровенно».
Предложение читателям Международного философского журнала воспользоваться «ключом к пониманию» Лосева свидетельствует о явно оптимистичном настрое автора «Замечаний» на тот момент. Но спустя всего каких-то три-четыре года он совершенно улетучился, о чём свидетельствует концовка её книги о Лосеве, изданной в серии ЖЗЛ в 1997 году.
Именно это и обусловило вполне определённую целенаправленность моего пространного обращения к Азе Алибековне к её 75-летию, текст которого редакция РНЛ нашла возможным опубликовать 16 сентября, за что я искренне благодарен. Отдельные выдержки из него, пройдя проверку временем, лишь усиливают свою значимость.
Между тем общая разочарованность хранительницы лосевского наследия продолжала возрастать, о чём как раз и свидетельствует концовка интервью журналу «Фома», приведённая мной в предыдущей публикации, посвящённой её памяти.
Мне, однако, поначалу было трудно прийти к мысли, что такой настрой Азы Алибековны может быть в какой-то мере связан непосредственно с её восприятием реального положения дел, связанных с освоением лосевского наследия. Ведь и активная работа Научного семинара «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы», возглавляемого Виктором Петровичем Троицким, которому она безгранично доверяла, была у всех на виду; и лосевские труды продолжали издаваться, если и не в нарастающем темпе, то всё же достаточно интенсивно.
Оставалось, правда, ещё одно направление сугубо стратегического характера, согласно которому всем лосевским трудам необходимо было найти место в системе сложившихся наук. Причём, я никак не предполагал, что Аза Алибековна полностью согласилась с реализацией этого направления. А ведь это означало, что все мои соображения, адресованные ей, будучи, по существу, предельно правдивыми, вроде того, что приведено ниже, в сложившихся условиях становились совершенно бесполезными:
«Всякая попытка трактовать Лосева в его ранних трудах, отделяя познание от веры, философию от религии, заведомо обречена на неудачу. Именно такого Лосева Вы и открыли всё ещё пребывающему в смятении общественному сознанию. И многим по разным причинам это не по душе».
Выходит, появление упоминаемого мной в предыдущей публикации одиозного опуса профессора Доброхотова, низводившего значимость работы Лосева, завершавшей его ранние труды, до нуля, становилось вполне закономерным результатом следования избранной стратегии.
Причём автор использовал попутно рекламируемую им генологию, которую Лосев бы, наверняка, определил как очередное проявление новоевропейского духа, для решительной атаки на его «Сáмое самó» вполне обдуманно. Между прочим, о неизбежности появления чего-то подобного я также ранее Азе Алибековне сообщал:
«”Самое само” подрывает устои нынешней, вконец обнищавшей философии, разрушая, естественно, душевный комфорт её верных служителей. Они с этим не только не согласятся, но скорее всего будут стоять насмерть».
А ведь интуитивное восприятие неисчерпаемости познавательного потенциала, содержащегося именно в работе «Сáмое самó» побудило Азу Алибековну сделать его общим заголовком вышедшего в 1999 году в издательстве «ЭКСМО ПРЕСС» объёмистого (в целых 1000 страниц) сборника ранних трудов А.Ф. Лосева. Причём в её вступительном слове к нему нашлось место и для характеристики самогó этого названного, кстати, «замечательным» сочинения, фрагмент которой я привожу:
«Здесь заключены зёрна лосевского представления о всеединстве и целостности, в котором каждая отдельная часть несёт в себе сущность целого, создавая живой организм, а отнюдь не механическое соединение частей. Этот организм и есть та общность, сердцевиной которой является “самость”, “сáмое самó”. “Кто знает сущность, сáмое самó вещей, тот знает всё”, – пишет Лосев».
А теперь попытайтесь представить, как сочетается с изложенным выше текстом, выявляемое А.Л. Доброхотовым «место А.Ф. Лосева в генологической традиции», и каково было Азе Алибековне всего через восемь лет обнаружить при подготовке очередного выходившего под её редакцией в издательстве Олега Абышко сборника трудов Лосева, включавшего «Сáмое самó», доброхотовское «предисловие» к нему! Причём, следует учесть, что, спустя ещё девять лет, повторилось то же самое.
Между тем осуществляемая стратегия, будучи, на поверку, по отношению именно к Лосеву, целиком надуманной, и вправду сработала! О том, что нынешняя наша «гуттаперчевая» философия приняла в своё лоно доброхотовскую трактовку, свидетельствует защищённая в 2019 году кандидатская диссертация по специальности «История философии» на тему: «Генология А.Ф. Лосева: историко-методологический анализ».
Изложенного выше, мне думается, вполне достаточно для выявления истинных причин разочарования, сопровождавшего Азу Алибековну на заключительном этапе её беспримерного жизненного пути. И настоящую публикацию, посвящённую её светлой памяти, считал бы вполне уместным сопроводить текстом своего письменного обращения к Сергею Шаргунову после его беседы с Азой Алибековной в «Открытой студии» в конце 2016 года:
Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Видео Вашей недавней беседы с Азой Алибековной Тахо-Годи в «Открытой студии» я просматривал с особым интересом и вниманием, ведь почти два десятилетия (с конца 80-х) меня с ней связывало сотрудничество в деле популяризации лосевского наследия, хотя взгляды наши на его судьбу и были диаметрально противоположны. Оба издания её книги об Алексее Фёдоровиче, выходившие в серии ЖЗЛ в 1998 и 2007 годах, заканчиваются утверждением, что «Лосев слишком глубок, труден, объёмен» для нашего времени, и «приоткрыть тайны» лосевских книг, «разгадать их символы и мифы» под силу лишь будущим поколениям. Из этого следует, что все мои предыдущие попытки убедить Азу Алибековну в острой необходимости его идей именно нынешней России, оказались безуспешными, хотя изложению моего собственного «видения» Лосева в публикациях и докладах от имени возглавляемого ею КПО «Лосевские беседы» она ни разу не воспрепятствовала. А когда я попытался обобщить первоначальный опыт своего постижения мира Лосева в книге «Алексей Лосев и разгадка двадцатого века», представив Азе Алибековне рукопись для общего ознакомления, она взяла на себя труд не просто прочесть около трёхсот страниц машинописного текста и сделать письменно десятка полтора замечаний, но и попыталась затем «пристроить» рукопись в одно из православных издательств. Правда, эта затея успехом не увенчалась (возможно, из-за непривычного для издателя сочетания в ней «божественного» с «мирским»); кончилось тем, что я передал её на хранение в «Дом Лосева», где она пребывает и поныне в форме «электронного ресурса».
Для меня труды Лосева 20-х – 30-х гг., издаваемые лишь в 90-х, одни повторно, другие – впервые, по мере моего знакомства с ними, становились подлинным руководством к действию: в них я обретал надёжный фундамент для своих предыдущих многолетних самостоятельных исследований в естественнонаучной сфере, которого мне катастрофически недоставало. А побывав на вершине его прозрений (я имею в виду увидевшую впервые свет в 1994 году работу «Самое само» с изложенными в ней основами учения о выразительно-смысловой символической реальности), пришёл к твёрдому убеждению, что эффективность от инвестирования содержащегося в этой работе интеллектуального капитала в науку и образование такова, что Кудрину и Кузьминову со всем возглавляемым им "воинством шкодливой элиты" и не снилось. К тому же у России появляется возможность наконец-то определиться с общенациональной исторической целью и даже ликвидировать многовековое противостояние «божественного» и «мирского» в общественном сознании.
Рискну высказать, походя, предположение, что появлявшееся у Вас при общении с Азой Алибековной ощущение о пребывании её в реальности, где «вообще отменена современность», по-своему, свидетельствует, что сама она, привычно погружаясь в мир античности, и вправду оказывается всякий раз в осознанной и обжитой Лосевым реальности, по-видимому, нисколько об этом не подозревая: он же, десятки лет вводя в неё прилежную ученицу, так и не поддался искушению раскрыть ей секреты своей, несомненно, «крамольной» по тем временам теории, оставляя её в безопасном неведении. Последнее подтверждается ею самой: когда, обнаружив однажды в столе Алексея Фёдоровича незнакомую голубую папку, она спросила у него: «Что это?», он ответил кратко: «А, это самое само», многозначительно подняв кверху указательный палец.
Ещё бы! – добавлю от себя: ведь одним лишь соединением двух определительных местоимений Лосев сумел гениально выразить тайну нерушимой суверенности и безграничной самоосуществлённости (все-могущества) Абсолютной Личности, недоступные личности человеческой. Тем не менее, следуя Лосеву, удаётся всё же выявить общее для них качество; осмысление этого позволило мне представить на суд Азы Алибековны собственное определение: «Личность – это тайна сАмого самогО, явленная в неисчерпаемости “Я“». Отсутствие с её стороны каких-либо возражений позволило мне без особых сомнений использовать данное определение в своих публикациях.
Что же касается возможности проникновения в эту самую выразительно-смысловую символическую реальность с целью её освоения, то для этого, по Лосеву, как позже выяснилось, требуется всего лишь неукоснительное соблюдение символического образа мышления. Правда, за этой «малостью» стоит не что иное, нежели перемена мысли [греч. μετάνοια] (в православной аскезе этому понятию соответствует покаяние, как отказ от прошлых заблуждений). Весьма подходит к данному моменту и обращение апостола Павла к римлянам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.2,12). Впрочем, на случай возникновения у Вас, человека сугубо светского, желания удовлетворить свою, пусть всего лишь профессиональную любознательность по поводу вышеизложенного, беру на себя смелость предложить целых четыре публикации на Ваш выбор (см. приложения); одна из них адресовалась студенческой аудитории середины 90-х; другая, спустя десять лет, – читателям «ЛГ»; ещё одна была рассчитана на внимание академических кругов (2008); наконец, последняя специально подготовлена для объявленного фондом свт. Марка Эфесского конкурса (2011).
Далее, мне придётся поставить Вас в известность о весьма неприятном, по-видимому, для нас обоих моменте, связанном непосредственно с беседой. Дело в том, что Аза Алибековна не является автором цитаты, озвученной Вами на 73-й минуте беседы: Вы всего лишь повторили дословно концовку моего комментария от 3 января 2015 года к помещённой в электронной версии журнала «Фома» беседе его корреспондента с Азой Алибековной к её 92-летию, в чём весьма просто убедиться. Кстати, фрагмент, посвящённый тайне нашей истории, завершающийся именно этой «цитатой», я использовал в своих публикациях неоднократно: Вы, к примеру, сможете обнаружить его в трёх из вышеупомянутых.
И если прочитанная Вами фраза всё же оказалась в публикации, подписанной А.А. Тахо-Годи, это означает всего лишь, что некто, облечённый доверием Вашей собеседницы, безжалостно её «подставил», использовав, что называется, вслепую: сама она к подобным «доброхотам» нетерпима и однажды (я тому свидетель) просто велела заклеить бумажной полоской свою фамилию под заголовком статьи в каждом экземпляре уже вышедшего из типографии сборника. Впрочем, не исключено, что эта досадная накладка могла произойти из-за небрежности исполнителя Вашего поручения (если, конечно, таковое было) о подборе подходящей цитаты в ходе подготовки к беседе.
Как бы то ни было, Аза Алибековна ни за что не стала бы что-либо советовать президенту, оставаясь верной завету своего учителя, которым однажды поделилась со мной: «Алексей Фёдорович велел мне никогда не ввязываться ни в какие политические дела» (впрочем, из текстового варианта Вашей беседы упоминание президента уже было изъято). И даже, воспринимая Вас вовсе не как успешного политика, а лишь как приятного ей во всех отношениях собеседника, она, тем не менее, проявляла в некоторых ответах, насколько мне удалось заметить, предельную взвешенность.
Если от ответа на вопрос: «А что для Вас мистическая тайна России?» Ваша собеседница вообще уклонилась, – он был, конечно же, не по адресу, то зато на следующий: «И что для Вас Россия?» она, сделав, после паузы, уточнение: «Это же Родина», ответила достаточно пространно, применив собственное заключение: «Родина бывает права, когда наказывает» даже к судьбе Лосева, отождествив, тем самым, понятия «Родина» и «власть».
И хотя её вывод не имел ничего общего с предельно ясной трактовкой этой проблемы самим Лосевым (кстати, прекрасно ей известной), он, зато, нисколько не противоречил смыслу цитируемого Путиным в своём недавнем Послании ФС лосевского текста. Впрочем, я готов утверждать, что о неразрывности для Лосева-философа понятий «Родина» и «жертва» был отлично осведомлён и спичрайтер, мастерски избежав в подобранной им цитате философских обобщений автора, что в действительности обернулось полуправдой, о чём сам Путин, несомненно, и не подозревал, призывая бережно относиться к истории.
В итоге, вся эта «операция» с упоминанием Лосева, спланированная, уверен, без какого-либо участия Путина, представляется мне пробной попыткой сделать имя самобытного русского мыслителя причастным к навязанному России четверть века тому назад курсу, основой которого является повсеместное господство напрочь исключающих какую бы то ни было жертвенность рыночных отношений, где всё, в том числе человеческая жизнь, обретает измеряемую в твёрдой валюте цену.
Между тем непрекращающееся брожение умов, духовная смута, охватывающие Россию, всего лишь следствия продолжающегося игнорирования правящей властью исторического заключения Первого Всемирного Русского Народного Собора, состоявшегося ещё в 1993 году: «Никогда не возродится Россия, если не будет воссоздано присущее нашему народу мироощущение и национальное самосознание». А ведь именно в промыслительно начавших издаваться в том же году трудах Лосева полнота этого мироощущения и самосознания находила своё выражение в его «высшем синтезе», соединяющем науку, религию, философию, искусство и нравственный опыт в целостное мировосприятие. И если Россия всё ещё не в состоянии достичь благотворного для неё динамического равновесия, преодолев интеллектуально-духовный разброд (экономические проблемы здесь оказываются второстепенными), то это как раз и обусловлено тем, что лосевские прозрения всё ещё не стали достоянием общественного сознания – необходимым средством просветления ума, предшествующего требуемому просветлению общественной воли.
А поскольку Лосев всё же был упомянут недавно «первым лицом», то это уже само по себе представляет, как мне думается, вполне весомый повод для начала активного освоения лосевского наследия, включая, конечно, и достигнутые результаты его использования. К тому же наступивший год по целому ряду причин чреват для России событиями, течение которых способно приобрести революционный характер, грозя развитием социального хаоса, напоминающим распространение пожара. В этом случае интенсивное насыщение общественного сознания главными лосевскими идеями в доступном изложении, при нынешних возможностях распространения информации становится, по сути, революцией умов, то есть, если продолжить предыдущую ассоциацию, представляет не что иное, как «встречный пал», способный свести возникший пожар на нет. Что касается меня, то считаю наличие информации, имеющейся в моём распоряжении, вполне достаточным для начала этого процесса, имея в виду готовые к публикации в электронной форме книги:
«Алексей Лосев и разгадка двадцатого века» (о ней уже шла речь выше);
«Из мира Эйнштейна в мир Лосева» (состоит из 19-и опубликованных в журнале Президиума РАН «Энергия» в период 2006-2014гг. моих бесед с корреспондентом журнала);
«Алексей Лосев: восславить Бога в разуме, в живом уме» (состоит из двух с лишним десятков моих публикаций, большая часть которых размещена на портале Русской народной линии в период 2010-2015 гг.).
Если Вас заинтересовали изложенные выше соображения, и они окажутся не только информацией к размышлению, но и побудительным моментом для дальнейших действий, буду рад по мере собственных возможностей содействовать их выполнению. Правда, возможности эти ограничены как моим восьмидесятилетним возрастом, так и соответствующей ему степенью активности в Интернете: я обхожусь и без собственного сайта, и без какого бы то ни было участия в социальных сетях, довольствуясь наличием лишь электронной почты; впрочем, при моём ПК имеется ещё и Skype.
С «Домом Лосева» я оборвал все связи более десятка лет тому назад, после того, как мне было заявлено одним из обитающих в нём весьма ответственных лиц: «Есть мнение о вашем стремлении возвеличить свою личность за счёт великого русского мыслителя». Свою миссию я в течение многих лет усматриваю в необходимости успеть имеющиеся в моём распоряжении знания сделать общественным достоянием – на сегодняшний день она всё ещё остаётся невыполненной.
С уважением,
Гальперин Семен Вениаминович, независимый исследователь







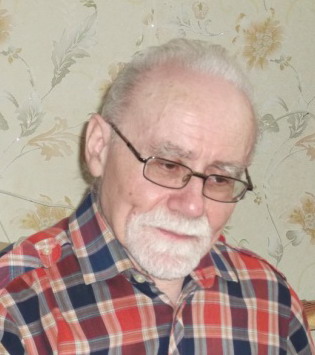

















.jpg)

2. Ответ на 1, annaiv:
Спасибо, конечно, за «перевод» и за искреннюю попытку разъяснить истинное положение дел с нынешним освоением лосевского наследия.
Что касается «установки», т.е. принятой «Домом Лосева» стратегии такого освоения, то её ущербность выявить совершенно нетрудно. Позиция Лосева относительно самобытной русской философии, как и его отношение к западной, были недвусмысленно выражены в его очерке с таким названием. Именно это и должно было стать начальным пунктом освоения раннего («доопального») периода его творчества, конечным в котором оказалось «Сáмое самó», хотя и оставшееся незавершённым.
Вместо этого о первом просто забыли, как будто его вообще не существовало, а последнее отдали на откуп проповеднику взглядов начисто противоречащих лосевскому мировосприятию.
Между тем именно его использования в целях всестороннего успешного развития Русской цивилизации недостаёт уже сейчас. Если это дойдёт до ЛПР (лиц, принимающих решение), то гадать о том, что станет с лосевским наследием через 50 лет просто не понадобится.
1. Перевод
-------------
Вижу Ваше недопонимание, позвольте перевести. Они Вам сказали "Это наша корова, и мы ее доим". Там очень давно у них такая установка. Надо сказать, доят они ее так себе, судя по уровню их продукции. Но на хлеб с маслом, то бишь на статьи и степени хватает. Им достаточно, в других категориях они не мыслят. Ребята отлично встроились в современную жизнь, район держат крепко. Настоящее изучение творчества А.В.Лосева теперь начнется только лет через 50. Уже после них.