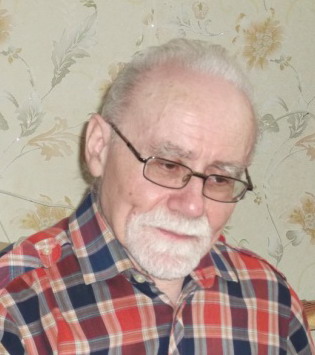Комментарии к интервью А.А. Тахо-Годи журналу «Фома»
(декабрь 2014 – январь 2015 гг.)
От автора. Поскольку Православная Церковь 22 октября чтит память преп. Андроника и Афанасии, предлагаю вниманию редакции подборку моих комментариев к интервью А.А.Тахо-Годи журналу «Фома», опубликованных в конце 2014 - начале 2015 гг., первый из которых посвящён непосредственно созданию четой Лосевых монастыря в миру; остальные так или иначе связаны либо с непосредственно с деятельностью самого Алексея Лосева (монаха Андроника), либо к событиям всего лишь десятилетней давности, так или иначе имеющим прямое отношение к идеям, вдохновлявшим его на эту деятельность.
***
Тон Деспотин:
Аза Алибековна Тахо-Годи, вдова монаха Андроника (А.Лосева)... У них, конечно же, был ДУХОВНЫЙ брак, не так ли?
С. Гальперин. Декабрь 24, 18:29.
Думается, в данном конкретном случае, учитывая предельно доверительный характер интервью, на вопрос автора комментария в целях расширения кругозора читательской аудитории вполне уместно дать достаточно развёрнутый ответ.
Дело в том, что, убедившись в течение 20-х гг. в невозможности жить церковно-свободно в условиях экспансии воинствующего материализма, отягощённой, вдобавок, внутрицерковной борьбой, Алексей Фёдорович со своей женой Валентиной Михайловной решают основать монастырь в миру, взяв за образец опыт христиан-супругов V-го века Андроника и Афанасии, которые после внезапной смерти любимых детей ушли в монастырь, разлучивщись на много лет, а затем, встретившись вновь, прожили до конца дней в духовном браке (день прпп. Андроника и Афанасии отмечается 22 октября).
3 июня 1929 года чета Лосевых принимает тайный постриг, совершенный их духовным наставником, афонским старцем, архимандритом о. Давидом. И вот какое посвящение обнаруживаем мы в увидевшей свет незадолго до ареста Лосева его «Диалектике мифа»: «Только ты, сестра и невеста, дева и мать, только ты, подвижница и монахиня, узнала суету мира и мудрость от-речения от женских немощей… Помнишь, там, в монастыре, эта узренная радость навеки и здесь, в миру, это наше томление…». А вот выдержка из его письма супруге в период пребывания обоих в лагерях Гулага: «Мы с тобой за много лет дружбы выработали новые и совершенно оригинальные формы жизни, то соединение науки, философии и духовного брака, на которое мало у кого хватило пороху и почти даже не снилось никакому мещанству из со-временных ученых, людей брачных и монахов. Соединение этих путей в один ясный и пламенный восторг, в котором совместилась тишина внутренних безмолвных созерцаний любви и мира с энергией научно-философского творчества, это то, что создал Лосев и никто другой, и это то, оригинальность, глубину и жизненность чего никто не сможет отнять у четы Лосевых». И после возвращения обоих в Москву монастырь в миру продолжает своё существование.
Однако по прошествии двух десятков лет Бог призовёт к Себе монахиню Афанасию, и дальнейшее послушание монах Андроник будет нести один, так и не посвятив в свою тайну даже беззаветно преданную ему «Азушку» (Азу Алибековну), которую Валентина Михайловна на смертном одре просила не оставлять его, быть всегда с ним, и которая не только сдержала данное ей слово, оформив вскоре свой брак с Алексеем Фёдоровичем, но и доныне продолжает бережно хранить обширное лосевское наследие. Что же касается проблем полноты его анализа и возможностей использования, то это требует отдельного комментария.
С. Гальперин. Декабрь 26, 17:09
Дополнение к ответу на вопрос: «Как Алексей Федорович решал для себя проблему сочетания знания и веры?»
Названную проблему он попытался решить не только для себя. Изложив дилемму «знание-вера» в предельно доступной форме (см. «Диалектика мифа», разд. IX, п.4 «Мифология и догматика веры и знания»), Лосев, далее, разрешает проблему («вещей обличение невидимых») в фундаментальном учении о выразительно-смысловой символической реальности (см. «Сáмое самό»), созданном им ещё в начале 30-х, но так и не увидевшим свет при жизни автора. Даже условие, необходимое и достаточное для следования ему, Лосев решился обнародовать лишь накануне своего 90-летия: «Сама действительность, и её усвоение, и её переделывание требуют от нас символического образа мышления». То есть, необходимо со всей ясностью осознать, что действительность по самόй своей природе рельефна (двупланова) – обладает внутренним и внешним уровнями бытия. Причём внешнее, будучи символом внутреннего, всегда его выражает, и между ними (вне какой бы то ни было зависимости от человеческого разума) существует неразрывное смысловое соединение.
Из приводимого ниже сопоставления со всей очевидностью следует, что Лосев, даже заменив Имя Божие одним лишь сочетанием двух определительных местоимений, не только сам остаётся в русле древней святоотеческой традиции, но и пытается сделать её достоянием нынешнего общественного сознания:
Прп. Максим Исповедник (VII в.): «Всё в мире есть тайна Божия и символ. Символ Слова, ибо Откровение Слова. Весь мир есть Откровение, – некая книга неписанного Откровения. Или, в другом сравнении, – весь мир есть одеяние Слова».
Алексей Лосев (ХХ в.): «Всё существующее (логика с её категориями, природа с её вещами и организмами, история с её людьми и их жизнью, космос со всей его судьбой) есть только символы сáмого самогό, или абсолютной самости, т.е. только одни символы абсолютной самости и существуют».
Нетрудно убедиться, что автор пытается здесь посредством скупых грамматических средств выразить тайну нерушимой суверенности и безграничной самоосуществлённости Абсолютной Личности – свойств, обуславливаемых Божественной природой Иисуса Христа в полном соответствии с Халкидонским догматом.
К сожалению, судьба лосевского учения, содержащего, по существу, православные начала научного мировоззрения, остаётся незавидной. Дружное молчание, которым оно было встречено в общественных кругах России всех уровней и толков, не исключая и богословские, длится по сей день. Это, несомненно, своего рода защитная реакция в ответ на требования перемены мысли, отказа от устоявшихся стереотипов, воспринимаемых и сознательно, и подсознательно как посягательство на интеллектуальный комфорт и душевное равновесие, более того, – на устойчивость сложившихся обществен-ных, да, пожалуй, и государственных институтов. Но ведь от этого никуда не деться – преодоление прельщений разума («ratio») в индивидуальном и общественном сознании, как бы далеко они ни зашли, является сегодня единственной возможностью остановить дальнейшее сползание не только христианского мира, но и человечества в целом, прямиком к вселенской катастрофе.
С. Гальперин Декабрь 31, 17:50
Драматизм судьбы лосевского наследия в значительной степени определён отношением к ней самόй Азы Алибековны. Дело в том, что оба издания её замечательной книги о Лосеве, вышедшие в серии ЖЗЛ (1997 – 2007 гг.), завершаются предложением оставить задачу «помочь книгам Лосева приблизиться к читателю, приоткрыть их тайны, разгадать их символы и мифы … новым поколениям XXI века». Но ведь заключающая беседу её реплика: «В голову насчёт будущего культуры приходят только пессимистические мысли» напрочь противоречит упованиям на людей этого будущего. Между тем обозначившийся парадокс как раз и порождён тем, что тревожащее Азу Алибековну нынешнее положение дел в России и безрадостные её прогнозы обусловлены отсутствием лосевских прозрений в нынешнем интеллектуально-духовном арсенале Русской цивилизации. В частности, предложенный им императив освоения выразительно-смысловой символической реальности не стал альтернативой соблазну виртуальной реальности, погружающей сегодня десятки и сотни миллионов людей в гибельное для человеческого духа марево.
Верность самόй Азы Алибековны лосевским идеям сомнению, естественно, не подлежит. Об этом свидетельствует, к примеру, своеобразно трактуемый ею в ходе беседы научный прогресс и связь его с ходом истории. У Лосева же мы находим чёткое и аргументированное освещение этой проблемы, вдобавок, предельно злободневное: «История не есть обязательно прогресс. Либерально-просветительское происхождение этого весьма условного учения – вполне несомненно. Когда личность пытается абсолютизировать себя вопреки объективному бытию, она, не будучи в состоянии вместить в себя фактически всю бесконечность объективности, воображает, что сможет охватить её не сразу, а постепенно. Эта становящаяся бесконечность истории такою личностью и переживается как прогресс. Но абсолютизирующая себя личность есть именно либеральная личность».
Истоками приведённых умозаключений является убеждённость Лосева в том, что развитие стран Европы с начала эпохи Возрождения сопровождалось переносом смысловой неисчерпаемости внешнего мира непосредственно в человеческое сознание. С завершением этого процесса, именуемого Лосевым «абсолютизацией человеческой личности», обрываются важнейшие связи её с внешним миром. Более того, она вынуждена теперь выполнять роль Абсолютной Личности, хотя способна, согласитесь, воспроизвести в собственных мыслях реальность, считая её объективной, всего лишь по образу и подобию собственного разума, оставаясь, на поверку, в плену своих иллюзий и амбиций. Вот и стал надёжным фундаментом эпохи Просвещения провозглашённый Френсисом Бэконом четыре века тому назад «союз опыта и рассудка». И ведь именно на него продолжает опираться один из главных идеологов физики ХХ века Вернер Гейзенберг, заявляя: «С прагматической точки зрения развитие науки есть непрерывный процесс приспособления нашего мышления к постоянно расширяющемуся полю опыта…».
Впрочем, приведённый фрагмент лишь в незначительной степени выражает неисчерпаемость лосевского историзма. А обусловленный существованием выразительно-смысловой символической реальности исторический идеализм Лосева, несомненно, заслуживает отдельного обсуждения ввиду непреходящей его актуальности.
С. Гальперин. Январь 03, 17:40
Ответ Владимира Легойды в его предновогоднем интервью РИА «Новости» на вопрос о выборе «единого, усреднённого, сглаженного варианта истории» в качестве основания построения будущего выглядит предельно примиряющим с учётом нынешнего разнобоя в трактовке исторического процесса: «Пусть продолжается академическая дискуссия, пусть будут разные теории, концепции, разные общественные позиции».
Между тем, будь историзм Лосева к настоящему времени достоянием православной общественности, ответ мог оказаться принципиально иным, да и вопрос о «сглаженном, усреднённом варианте истории» отпал бы сам собой. Характер самогό этого историзма определён исходной позицией Лосева, изложенной вскоре после принятия им тайного пострига: «В христианстве, вырастающем на культе абсолютной Личности, персоналистична и исторична всякая мелочь. И в особенности опыт мистического историзма ощущается христианским монашеством. Для монаха нет безразличных вещей. Монах всё переживает как историю, а именно как историю своего спасения и мирового спасения. Только монах есть универсалист в смысле всеобщего историзма, и только монах исповедует историзм, не будучи рабски привязан к тому, что толпа и улица считает “историей”».
Несмотря на то, что такая откровенность монаха Андроника навсегда останется для непосвящённых тайной, от своего «универсализма» он не откажется и в дальнейшем, невзирая на риск подвергнуться новым репрессиям: «…если угодно отнестись ко мне добросовестно, надо признать как непреложный факт: с именем Лосева неразрывно связано самое острое чувство истории. Всё, что было, есть и будет, всё, что вообще может быть, конкретным становится только в истории». Ну, а далее следует лишённое какой бы то ни было двусмысленности признание: «Для меня последняя конкретность это – саморазвивающаяся историческая идея, в которой есть её дух, смысл, сознание и есть её тело – социально-экономическая действительность».
Через несколько десятков лет в своей восьмитомной «Истории античной эстетики» Лосев с неопровержимой убедительностью докажет, что и мифология, и эстетика, и философия всей тысячелетней эпохи античности, как и социально-экономический уклад, выражают одно и то же – саморазвитие лишённого личностного начала космоцентризма. Впрочем, у него зато имеется собственное тело (σώμα) в буквальном смысле. Это тело осязают и видят люди античной эпохи не только как собственную плоть, но и в окружающей их реальности: в естественных вещах и произведениях искусства, в семейно-родовом организме и рабовладельческом полисе, в богах-стихиях и в скульптурной гармонии самого Космоса, который, однако, всего лишь «что», но не «кто»: понятие «личность» у них отсутствует, и смысл его, как показала, кстати, именно Аза Алибековна, ограничивается восприятием ими хорошо организованного и живого тела.
Что же касается смысловой стихии, то вся она исчерпывается абстракцией понятия «λόγоς»; Лосев называл его «словесным сгустком мысли», стало быть, неким средоточием смысла. Но ведь и в христианском мировосприятии таким же универсальным средоточием оказывается Λόγος; однако, это уже не («что») – отвлечённая абстракция понятия, а («Кто») – Иисус Христос; обладающая историческим преданием конкретная Абсолютная Личность, Сын Божий, единосущный со Своим Отцом. Именно логоцентризм (христоцентризм) становится вытесняющей космоцентризм античности саморазвивающейся исторической идеей. И если Лосев уклонялся от использования «идеалистической» терминологии, чтобы «не дразнить гусей», то наш с вами прямой долг называть вещи своими именами.
Так что, опираясь исключительно на лосевский историзм, нетрудно убедиться в том, что именно саморазвитие христоцентризма (логоцентризма) определило основные особенности тысячелетнего развития русской материальной и духовной культуры. Общинному (мирскому) сознанию, отражённому в культурных символах, способах ведения хозяйства, межличностных отношениях, соответствует сакральное: Божественная благодать взаимной любви (соборность), эсхатологические ожидания (надежда на всеобщее спасение), синергия (соработничество с Богом). И, конечно же, свобода здесь никак не связана со всесторонним предпринимательством, но исключительно с творчеством, которое носит характер продолжения миротворения; мир представляет собой не мастерскую, но Храм; личность никоим образом не сводится к индивидуальности – начало её сугубо мистическое. Так раскрывается тайна нашей истории. Она незримо участвует в судьбе Государства Российского, и уже давно пришла пора узнать о ней каждому его гражданину: от школьника до Президента.
С. Гальперин. Январь 11,17:48 (13 января комментарий был изъят)
Отправляя в редакцию предыдущий комментарий, я никак не предполагал, что упоминаемая в нём тайна тысячелетней истории России окажется стержнем интервью Святейшего Патриарха Кирилла программе «Вести» в нынешний праздник Рождества Христова. Предложенный им ранее участникам пленарного заседания XVIII Всемирного русского народного собора тезис о «великом синтезе», не только нашёл здесь своё развитие, но и приобрёл подлинно промыслительную значимость. Ведь именно сопоставления, в которых выражается ясное осмысление Его Святейшеством присущего самόй истории символизма: «вера – Древняя Русь; державность – Российская Империя, справедливость – революция, солидарность – советское время, достоинство – новая Россия», проявляют (если воспользоваться лосевской терминологией) «физиономически-выразительно» и «символически-бытийственно» наличие в сменяемости этапов одной-единственной исторической идеи. Более того, уделяемое в интервью особое внимание главным государственным символам сегодняшней России даёт возможность сохранить вполне конкретную направленность дальнейшего обсуждения.
Глубина осмысления православной веры в Древней Руси обнаруживается уже к середине XI века в «Слове о Законе и Благодати», которое, как считают историки, было произнесено первым митрополитом из русских Иларионом на хорах киевского Софийского собора перед Ярославом Мудрым и его окружением. Следует, однако, предположить, что, сама по себе идея христоцентризма (логоцентризма) смогла обрести в России словесное выражение в необходимой полноте лишь с переводом (начиная с XII века) на церковно-славянский трудов прп. Иоанна Дамаскина. Формируя византийское боговидение, он, конечно же, обращает внимание на то, что Иисус Христос по своей человеческой природе подобен людям в полноте определений человеческого естества, причём, следуя Халкидонскому догмату, подтверждает, что в Нём нет человеческой ипостаси, а есть лишь Божественная, то есть Он – Абсолютная Личность (Логос). Но если так, то, по утверждению святителя, само человечество во Христе «воипостасно» Логосу, следовательно, всё, приобретённое Спасителем по человечеству, сообщимо и соразделимо со всем единосущным Ему человеческим родом. А ведь это означает, что сама человеческая природа Христа создаёт вместе с Ним особую мистическую общность – Богочеловечество как целостный организм. Отсюда со всей непреложностью следует, что православный христоцентризм является по сути логоцентризмом, который никоим образом не может переродиться (здесь приходится забегать вперёд) в антропоцентризм (рациоцентризм), напрочь оторванный от Божественной природы Христа.
Саморазвитие именно этой исторической идеи сопровождало, естественно, и появление в период правления Ивана III, чьей женой стала племянница последнего византийского императора София Палеолог, в качестве государственного герба двуглавого орла, который символизировал в Византии симфонию державной (светской) и церковной (сакральной) властей. Впрочем, как показали дальнейшие события, о такой симфонии, тем более, с отменой Петром I патриаршества, в России не могло быть и речи. Так что петровский триколор в качестве российского торгового флага лишь подчёркивал приверженность первого императора России, «прорубившего окно в Европу», культивируемым западным христианством мирским ценностям. Впрочем, и осуществлённые незадолго до этого реформы патриарха Никона, в известной мере открывали путь к секуляризации (обмирщённости) сознания верующих.
Тем не менее, можно предположить, что в период самодержавного правления в России значимого ослабления саморазвития логоцентризма, скорее всего, не произошло, поскольку он оставался укоренённым в самόм жизненном укладе русского народа – бытовом православии, не говоря уже о монашеской среде. А появление в 30-х годах XIX в. триады «Самодержавие. Православие. Народность» в противовес столь популярному в просвещённой Европе девизу «свобода, равенство, братство» свидетельствует о попытках способствовать и на государственном уровне дальнейшему саморазвитию этой идеи.
Более сложные времена настали, когда плоды просвещения стали поступать в Россию «крупными партиями», – из семян их на чужой для них почве произросли неизвестные самой Европе мутанты: русский нигилизм, русский анархизм, русский коммунизм. И сама революция, что с непререкаемой убедительностью выразил в интервью Святейший Патриарх, была вызвана неугасимым стремлением ко всеобщей справедливости, присущим православному сознанию. Однако, направленный из его глубин императив, оказался адресованным богоборческим по самόй своей природе силам, которые не преминули тут же воспользоваться предоставленной возможностью. И приход безбожной власти, опирающейся на воинствующий атеизм, должен был, казалось, не только покончить с дальнейшим саморазвитием логоцентризма в России, но и уничтожить даже его следы. В действительности же этого не случилось.
В свете всё того же лосевского историзма нетрудно прийти к выводу, что социальная утопия, вызревшая в лоне европейского рациоцентризма, с её опорой на диктатуру пролетариата, обосновавшись в России, оказалась не в состоянии устранить саморазвитие логоцентризма, хотя и значительно исказила его. Произошло иное: большевистская идеология превратила здесь марксов культ класса в культ личности, но не абсолютизированной на европейский лад, а поистине обожествлённой – в культ вождя. Духовная обращённость к Богу, – основа православной соборности, – была сориентирована на вождя, превратившись во всенародную любовь к нему, а боязнь погубить бессмертную душу за грехи, направлявшая верующего к покаянию, сменилась всеобщим священным страхом, порождавшим внутреннюю цензуру в дополнение к государственной. Соцреализм в литературе и искусстве, выполняя прямой партийный заказ, усердно пытался сориентировать сложнейшую гамму человеческих чувств и помыслов на единую историческую цель – достижение торжества коммунистического идеала (модификация цели все той же абсолютизированной личности). Таким образом, нетрудно убедиться в сугубо религиозном характере идеологических посылов формирования мировосприятия в советский период (по крайней мере, в период сталинского правления), при полном отрицании каких бы то ни было вероучительных основ мировых религий и жестоких гонений на Православную Церковь, в первую очередь.
Однако, несмотря на всё это, именно томý, что Святейший Патриарх обозначил в своём интервью как с о л и д а р н о с т ь, увязав её с сохранением в качестве символа новой России мелодией сталинского гимна, и суждено было не дать прерваться процессу саморазвития всё той же исторической идеи, определяющей судьбу России на веки вечные. Впрочем, попытка раскрыть смысл предложенного Его Святейшеством понятия требует, с учётом лосевского историзма, отдельного обсуждения.
С. Гальперин. Январь 16, 12:38
Упоминание в интервью мелодии сталинского гимна возвращает нас к предвоенным и особенно военным годам, когда надеждой и опорой государственного строя становится чувство любви народа к своей Родине, и можно даже предположить, что в ту пору патриотизм (patria – «родина») начал слегка теснить коммунистический идеал господствующей идеологии. Детский сад и школа, художественная литература и публицистика, кино и театр, как, впрочем, и прямая пропаганда, становились средствами воспитания патриотизма. Правда, определялся он прежде всего как «советский», стало быть, религиозные источники его пытались скрыть любыми способами. Между тем, «копнув» здесь чуть глубже, нетрудно убедиться в том, что исторические корни «чувства родины» в сознании русского народа уходят в духовную общность, воплощённую в Богочеловечестве и выражаемую в особом родстве («братья и сестры во Христе»). Говоря о неприменимости «общего аршина» к России, Фёдор Иванович Тютчев, прекрасно знакомый с «аршином европейским», был, конечно же, прав: здесь не годились представления об индивидуальной свободе в протестантском смысле, то есть означающие рационально осмысливаемую свободу выбора, – этому противопоставляется изначально присущее человеку природное свойство – воля, любые ограничения которой должны быть для него внутренне оправданны: ради чего (во имя чего) принимать их. Формально же навязываемые извне порядки и правила, при всей их рациональной целесообразности, вызывают внутреннее сопротивление и по возможности игнорируются. Диапазон проявления воли огромен: от лишённого каких бы то ни было сдерживающих начал стремления к самоутверждению до отвергающей какую-либо упорядоченность жажды разрушения, не исключая, подчас, саморазрушения. Инициировала она и братоубийственные войны, когда кровное родство князей лишь поддерживало взаимную враждебность. Причём, происходило это на территории Руси уже после принятия ею христианства, пополняя сонм как святых мучеников, так и обреченных на вечную погибель грешников.
Тем не менее именно здесь православная вера сумела со временем укротить необузданность воли, закрепив родство не по крови, а по духу. В вере русский человек не просто смирял свою волю – он проявлял самоотверженность в борьбе с врагом ради родной Матери-земли и вместе с тем во имя Бога, становясь при этом неотъемлемой частицей телесно-духовной целостности – народа; всё, что оказалось включённым в круг его родства, было названо им Родиной. Европейские языки к смыслу этого понятия глухи. Вызревшее именно в России чувство Родины – это иррациональное ощущение личной сопричастности со своим родным общим; оно не имеет ни малейшего отношения к столь чтимому в странах западнохристианского мира чувству гражданственности.
Алексей Фёдорович Лосев выразил это чувство в строках, написанных осенью 1941 года в подмосковном Кратове (его квартира в доме на Воздвиженке была уничтожена вражеской бомбой): «Родина – всемогущая и родная для человека стихия, когда он чувствует себя не просто в физическом родстве с нею, а в духовном и социальном… Личная жизнь осмысливается как родовая жизнь, индивидуальная воля – как общая воля. Всё отдельное, личное, особенное утверждается лишь на лоне общего целого, нужного, сурового и неотвратимого, но своего любимого, родного – на материнском лоне своей Родины. Такая жизнь отдельного человека во имя Родины есть жертва. В жертве сразу даны как человеческое ничтожество, слабость, так и человеческое достоинство, сила. Принесённая жертва оправдана любовью к Родине, потому что нет любви без самоотверженности и самоотречения. Всякое страдание и труд на пользу Родины, всякое лишение и тягость, переносимые во славу Родины, осмысливаются лишь в меру жертвенности».
Без какой-либо натяжки можно утверждать, что имя Родины становится для человека священным, восстанавливая, тем самым, единство мирского и сакрального. Всё это и явилось особенностью становления государства Российского, если хотите, тайной России, совершенно недоступной «чужеземным мудрецам». И хотя, случалось, тайну эту использовали государственные деятели, далёкие не только от ортодоксальной веры, но и убеждённые богоборцы, она остаётся прямым свидетельством продолжения саморазвития логоцентризма в России.
С этой позиции нельзя не признать глубокую символичность смены «Интернационала» в решающее для существования страны время сталинским гимном, в котором находила признание сплачивающая значимость Великой Руси и обозначалась ясная цель победы над посягнувшими на её свободу подлыми захватчиками. К тому же и обветшавший пролетарский лозунг с его глобалистскими задачами («весь мир насилья мы разрушим») вытеснялся из общегосударственной сферы, поскольку статус «Интернационала» с этих пор снижался лишь до уровня гимна партийного. И то, что сейчас, возвращаясь после многих десятилетий «на круги своя», Россия сохраняет мелодию сталинского гимна в качестве государственной символики, свидетельствует прежде всего о продолжении саморазвития её исторической идеи.
С. Гальперин. Январь 17, 18:16
Невозможно не согласиться со значимостью приводимых Его Святейшеством в рождественском интервью примеров, свидетельствующих об общности интересов и энтузиазме, проявляемых в советский период, будь-то освоение целины или деятельность комсомольских молодёжных отрядов, как и с итоговой констатацией им наличия «многого другого, о чём воздыхают сегодня люди старшего и “среднестаршего” возраста». Мне, при моих семидесяти восьми с половиной, приходится, конечно, принять последнее лично на свой счёт. Однако я, со своей стороны, готов ещё и попытаться, во-первых, выявить во «многом другом» именно то, что позволило сохраниться рождённой в лоне Православия исторической идее в период правления отвергающей его власти, и во-вторых, назвать истинную подоплёку того, что послужило причиной самогό «воздыхания».
Прежде всего следует, мне думается, обратить внимание на то, что в социальном заказе, или, если быть более точным, императиве, адресованном власти, позиционирующей себя в качестве общенародной, не могли не найти отражение сострадательность и милосердие, неотъемлемые от образа мысли русского народа, его стремления к справедливости, поскольку первоисточником их служила убеждённость в присущей Господу Иисусу Христу милости к сирым и убогим, слабым и обездоленным, чей удел – страдание. Отсюда следовало, что в законодательных актах, экономической политике государства должна была учитываться необходимость соблюдения ряда социальных гарантий, явно или неявно предусматриваемых таким заказом-императивом. Но ведь именно это в той или иной степени оказалось воплощённым в сложившихся в советский период системах здравоохранения, образования, социального обеспечения, культурных и спортивных учреждений и пр., – монолитном здании, выстроенном на фундаменте общенародной собственности и … безжалостно разрушенным за последнюю без малого четверть века всего лишь для того, чтобы расчистить путь «рыночной экономике». Как же не «воздыхать» обо всём этом в существующих на сегодняшний день условиях?
И ведь полная непререкаемость содержится в рубленых фразах опубликованного ещё в 1999 году манифеста «Правый поворот»: «Нам нет нужды решать вопрос о том, насколько рыночной должна быть экономика в России. Нам нужно просто добиться того, чтобы нашу экономику не уродовали никакие социалистические затеи, а рыночной она окажется автоматически и автоматически же потребует формирования прочного фундамента частной собственности». Но ведь это, в свою очередь, означает, что автор манифеста, – министр экономического развития в нынешнем правительстве РФ, – напрочь лишён способности осознавать соответствие «социалистических затей» расположению души народа России к справедливости, имеющему религиозную природу. И ведь «автоматически рыночной» экономика в России так и не стала, да и «вручную» сделать её таковой не удастся, как раз потому, что суждено ей быть всего лишь внешним выражением саморазвития присущей России исторической идеи, которой изначально чужд примат рыночных отношений.
Что же касается «рыночной экономики», то не составляет особого труда обнаружить её сугубо религиозные истоки, обратившись к пониманию основ всё той же справедливости «отцами-основателями» – верными адептами кальвинизма, положившими начало формированию американского национального сознания: преисполненные веры в Божественное предопределение, они исходили из того, что милости Бога удостаиваются лишь активные люди, занятые богоугодным делом, то есть предпринимательством; бедность же, сама по себе, вне зависимости от её причин, – признак утраты этой милости. И ведь не что иное, нежели их несгибаемая вера оказалась исторической предпосылкой нынешних претензий США на лидерство, а точнее, на мессианство. Правда, на пути, некогда избранном «праотцами», дело божье в усло-виях всеохватного духа прагматизма вскоре превратилось в чисто человеческое – бизнес, а богоугодная энергия предпринимательства – в двигатель механизма рыночной экономики. Но Россия-то здесь причём? Ведь «правый поворот», который её до сих пор пытаются заставить осуществить, – всего лишь бездумное, или питаемое ложными посылками (что в данном случае одно и то же) горе-теоретиков продолжение попыток вытеснения изначально присущего православной России саморазвития христоцентризма (логоцентризма), совершенно чуждым её природе антропоцентризмом (рациоцентризмом).
Упоминаемое Его Святейшеством в рождественском интервью «достоинство» действительно выражено в словах гимна новой России. Но самим обществом оно будет обретено лишь после того, как на смену бесплодным поискам «общенациональной идеи», соответствующей нынешним временам, придёт восприятие общественным сознанием того, что «хранимая Богом родная земля» уже много веков остаётся ареалом саморазвития одной-единственной исторической идеи, заповеданной ей Господом. Свидетельством осознанности этого Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом служит следующее его умозаключение: «Я глубоко убеждён, что совокупность наших символов замечательно отражает идею того, что мы должны взять из истории, чтобы не разрушить единую ткань исторического процесса, вне которого не может формироваться ни личность, ни общество, ни государство».