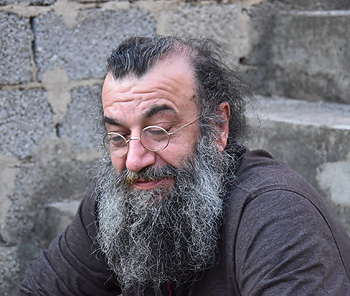
По обыкновению своему «ревнители» не смогли найти серьезных богословских доводов для обоснования своих эмоциональных (подчас истерических) обвинений, руководствуясь своими личными представлениями о благочестии, принимаемыми за верность Преданию Церкви.
Иной была реакция ряда богословов, в целом согласных с принятыми санитарно-эпидемиологическими мерами. Они указали на ряд прежде принятых Церковью документов, сходным образом регламентирующих причащение в периоды эпидемий и обращали внимание на то, что «Инструкция» опирается на «Настольную книгу для священно-церковно-служителей» С.В. Булгакова и «Пидалион с толкованиями преподобного Никодима Святогорца». Однако не все они смогли остаться в рамках православного вероучения, когда речь зашла о возможности заражения от Тела и Крови.
Например, проф. А.И. Осипов пытается обосновать идею возможности заражения от Тела и Крови в полемике с «распространенным представлением, что во время Литургии Хлеб и Вино превращаются в натуральное Тело Христа, и потому никаких вирусов в Святых Дарах быть не может»[2]. Проф. Осипов полагает, что Церковь учит иначе: хлеб и вино не превращаются, но только соединяются с Божеством, и это соединение позволяет говорить о них, как Теле и Крови Христовых. Данное учение (признанное неправославным и названное в Исповедании Иерусалимского Собора 1672 года[3] учением о «вохлеблении»[4]) прямо подпадает под анафему Константинопольского Собора 1691 года, учащего, вослед Иерусалимскому Собору:
«поскольку святая и кафолическая Христова Церковь со времен святых Апостолов и впоследствии вплоть до нашего [времени] согласно преданию Спасителя нашего Христа и Бога веровала и [ныне] разумеет о святейшем таинстве святой Евхаристии, что в нем Господь наш Иисус Христос присутствует истинно и реально (ἀληθῶς καὶ πραγµατικῶς), то очевидно, что по освящении хлеба и вина хлеб претворяется или прелагается в самое истинное и от Девы рожденное Тело Христа, а вино – в самую истинную и на кресте излиянную Кровь Того же Самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и Бога. И более не остается сущности хлеба и вина, но под видимыми образами (ἐν τοῖς φαινοµένοις εἴδεσι) хлеба и вина суть истинно и реально самые Тело и Кровь Господа. Кроме того, в каждой частице освященных хлеба и вина находится не [какая-либо] часть Тела и Крови Христовых, но весь целиком Владыка Христос по существу (κατ᾽ οὐσίαν), то есть с душою и Божеством, или совершенный Бог и совершенный человек. Ведь то же самое Тело Христово находится и на небе, и в таинстве Евхаристии, не так, что Оно сходит с неба, но так, что сами хлеб и вино прелагаются в само то Тело и Кровь существенно (οὐσιωδῶς), и Владычные Тело и Кровь истинно и реально присутствуют в Таинстве незримо».[5]
Собор анафематствует тех, «кто дерзнут преступить это церковное и соборное решение»[6], и говорит:
«да будут [они] отлучены от Святой, Единосущной, Животворящей и Живоначальной Троицы, единого по природе Бога. И да будут они прокляты, и не будет им прощения и искупления после смерти и в нынешнем веке, и в будущем, и участь их да будет вместе с предателем Иудой и с появившимися от начала ересиархами, смутившими Церковь Христову, и с распявшими Господа, и будут повинны огню геенны, отеческим и соборным проклятьям подверженные и вечной анафеме подсудные».[7]
Очевидно, что православным следует избегать учений, подвергнутых «соборному проклятию». Соответственно и взгляд проф. Осипова принят быть не может.
Иную позицию занимает архимандрит Кирилл (Говорун). В заметке «COVID-19 и христианский (ли?) дуализм»[8] он начинает с утверждения: «воскресшее тело Христа, которым мы причащаемся, было онтологически таким же телом, что и наше».[9] Далее он ссылается на свт. Афанасия Александрийского, учившего, что «Слово, поскольку Оно не могло умереть — ибо Оно бессмертно — приняло на себя тело, способное умереть» (О воплощении, 20). Из этого архим. Говорун делает вывод, что
наши человеческие тела, как и тело Христа, «в полной мере участвуют в общей человеческой природе, те же микроорганизмы, которые живут в нашем теле, жили и в Христовом теле. Нет оснований не считать, что они продолжили в нем жить даже после Его воскресения. Его отличие от нашего тела лишь в том, что эти микроорганизмы не могли его убить».[10]
Однако заметим, что если мы не видим оснований для какого-нибудь утверждения, это еще не означает, будто их нет. Архим. Говорун, очевидно, не вполне отчетливо понимает учение Церкви о Евхаристическом Теле Спасителя. Это становится совершенно ясно, когда он для подтверждения своей мысли ссылается на возможность Телу Христову заплесневеть. Автору, по-видимому, вовсе не известно, что «всегда у Господа одно Тело, а не многие во многих местах»[11], и, таким образом, говоря о случаях плесневения Св. Даров, он должен допустить, что при этом и на небесах плесневеет Тело Христа, «седяща одесную Отца»!
Чтобы нам избежать подобных нелепых и даже кощунственных выводов, следует обратиться к истинному пониманию совершающегося в Таинстве Евхаристии, какому учит Церковь. В догматических текстах Соборов, имеющих общецерковный авторитет: Константинопольского 1662 г., Иерусалимского 1672 г., Константинопольского 1691 г., Константинопольского 1723 г. — прямо выражено традиционное учение Православной Церкви: после совершения пресуществления должно различать в Чаше Само Тело и Саму Кровь Спасителя, и те виды, акциденции хлеба и вина, которыми Они от нас сокрыты. В Чаше сохраняются все физические свойства хлеба и вина, но сущность их делается иной, что, во избежание еретических толкований Таинства, было выражено Соборами XVII–XVIII веков (и принято всей Православной Церковью) термином «пресуществление». Сохранение физических свойств, то есть акциденций хлеба и вина, и является причиной того, что со Св. Дарами может происходить свойственное хлебу и вину: хлеб — плесневеть, вино — пьянить. Однако это не свойства Тела и Крови! Церковь говорит, что все, происходящее со Св. Дарами, «бывает только с акциденциями хлеба и вина»[12], но не с акциденциями Тела и Крови! Добавим к сказанному и несколько слов о странном толковании архим. Говоруном понятия «тление». Тело Христово, пребывающее одесную Отца нетленно не только в смысле безгрешности и бессмертия, но и в том, что оно не подвержено всем тем неукоризненным страстям, которым Спаситель попускал в Себе по воплощении. В контексте темы уместно напомнить слова свт. Димитрия Ростовского:
«если случится, что Святые Тайны, по небрежению или случайно, упадут, сгорят, сгниют, замерзнут, загрязнятся и проч., то этому подвергается не Тело Христово, а внешний вид хлеба и вина. Сия же бесстрастная жертва никаким образом не причастна сему. Да не будет так! Ибо однажды только плоть Христова пострадала за нас, по Воскресении же не подлежит страданиям».[13]
Поэтому утверждать, будто Само Евхаристическое Тело Христово может каким-либо образом быть «инфицировано» — утверждать противное учению Церкви.
Однако возможно предположить теоретическую вероятность того, что Господь попустит видам хлеба и вина проявить свойства хлеба и вина, как это случается с ними, когда хлеб плесневеет. Если на хлебе может завестись плесень, то может попасть и вирус от слюны причастника. Это зависит от воли Божией.
Как от воли Божией зависит, заболеет ли человек. И в связи с этим скажем еще об одном аспекте проблемы, напомнив слова св. ап. Павла:
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11. 26–30).
Говоря о теоретической вероятности, мы свидетельствуем, что доверяем Богу в любом случае, принимаем волю Его, какова бы она ни была.
Думается, что в возмущении предположением о возможной опасности заразиться от Чаши не последнюю роль играет маловерие. Но не в том смысле, что человек не верит в возможность Господу попустить заразиться. Нет, проблема — в не слишком серьезном отношении к словам св. ап. Павла. Вроде бы да, причащаться небезопасно, но... Но ничего, Господь милостив. И незаметно для нас (авторы не исключают себя из числа объединенных местоимением «мы») опасность причастившемуся недостойно заболеть и умереть, а то и быть наказанным «карой вечною» (прп. Иоанн Дамаскин) начинает представляться какой-то не слишком реальной; мы перестаем бояться.
А вот в ситуации, когда нечто воспринимается реальной опасностью (например, заболеть коронавирусом) мысль о небезопасности Причастия вызывает у многих просто бурю чувств. Как же так, мы же причащаемся во исцеление души и тела! Как может быть, чтобы Христос попустил нам заболеть, причащаясь Его животворящего Тела??? Здесь — реальный страх, который многие (бессознательно) пытаются заглушить уверенностью в гарантированную безопасность Причастия. Но Причастие не гарантирует нам здравия и долголетия, как не гарантирует и избавления от вечных мук!
Если всерьез поверить в это, то и представление об опасности, причастившись, заболеть коронавирусом, или даже умереть от него, не будет казаться чем-то особенным и кощунственным. Безусловность бактерицидных и противовирусных свойств Чаши не гарантирована ничем, как не гарантирована ничем безусловная безопасность Причастия вообще. Условие есть. И потому, независимо от эпидемической обстановки, мы должны приступать к Чаше со страхом и трепетом. У нас есть надежда, но нет безусловной гарантии. Единственная гарантия, которую нам дает Бог — это что «пречистое тело и кровь Господня раздаются и входят в уста и утробы причащающихся, как благочестивых, так и нечестивых»[14]. Но вот условие: Тело и Кровь «благочестивым и достойно принимающим доставляют отпущение грехов и жизнь вечную, а нечестивым и недостойным уготовляют осуждение и вечное наказание»[15]. Только от нас зависит, будет ли нам Причастие во исцеление души и тела, или приведет к болезни (что нам, грешным, может сослужить и пользу!), а то и — к осуждению и вечному наказанию (что гораздо страшнее болезни и смерти тела!).
Если мы всерьез отнесемся к отсутствию гарантий безопасности вообще, то более трезво и разумно отнесемся и к представлению об отсутствии гарантий безопасности во время эпидемии или пандемии. Причастие всегда небезопасно!
Не спокойная уверенность должна быть нашим чувством при причащении, но надежда: «радуяся вкупе и трепеща».
[1] См.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html
[2] https://alexey-osipov.ru/books-and-publications/stati/o-prichashchenii-v-usloviyakh-rasprostraneniya-koronavirusa/
[3] Текст Иерусалимского собора 1672 г. был подтвержден и повторен Константинопольским Собором 1723 года в «Послании патриархов восточно-кафолической Церкви о православной вере».
[4] Исповедание, 17
[5] М.М. Бернацкий. Константинопольский Собор 1691 г. и его рецепция в Русской Православной Церкви (к вопросу о каноническом статусе термина «пресуществление»). // Богословские труды, сборник 41. — М., 2007 — 591 с. С. 138–139.
[6] Там же. С. 143
[7] Там же.
[8] https://publicorthodoxy.org/ru/2020/03/23/covid-19-/
[9] Там же. С. 2–3.
[10] Там же.
[11] Исповедание, 17
[12] Исповедание, 17
[13] Сочинения святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго. Том пятый. Издание четвертое. М., 1835 г. С. 131–132.
[14] Исповедание, 17
[15] Там же.
Впервые опубликовано в журнале Благодатный Огонь










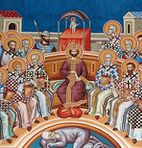













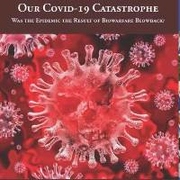


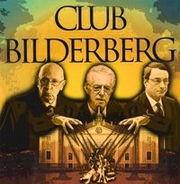







3. Ответ на 2, Daniil :
2.
По поводу этих доводов см. видео о. Георгия Максимова.
Отмечу, что толкования прп. Никодима на 28 правило 6 ВС - это как раз позиция ревнителя, настаивающего на том, что не нужно прибегать к различным ухищрениям в практике Причастия, таким, как смешение винограда с Причастием.
Что касается «Настольной книги» С.В. Булгакова, то и он, скорее, ближе к ревнителям. Он пишет о необходимости посещения священником больных во время эпидемии:
«Голос чувства самосохранения должен смолкнуть пред требованиями долга и пред возбуждениями любви христианской, какою должен быть одушевлён пастырь Церкви в своей деятельности по отношению к пасомым. Конечно, не следует пренебрегать опасностью и, так сказать, напрашиваться на неё; при посещении заразительных больных можно и нужно принимать в руководство врачебные советы и пользоваться всеми средствами, какие предписывает благоразумие, чтобы по возможности предохранить себя от заразы.750 Но, приняв меры предосторожности, с бодрым духом пастырь должен спешить и к заразительному больному, когда пригласят его преподать больному религиозное утешение в святых таинствах Церкви.751 Должна ободрять и подкреплять его в подобных случаях надежда на Бога и Его всесильную помощь, охраняющую нас на всех путях наших. Ему более, чем кому-либо, должно быть известно, что Господь хранит верных служителей Своих, в тяжёлые времена самоотвержено исполняющих долг любви христианской. Во время эпидемий весьма часто бывает, что подвергаются ей не столько те, которые служат другим больным, сколько те, которые сторонятся от всех и избегают всякого общения с людьми, могущими передать им заразу».
Какой же богословский довод у ревнителей? - Вера в то, что Дары пречистые. Именно вера. У кого-то она сильнее, у кого-то слабее. С этой точки зрения печально заключительное признание автора: «Причастие всегда небезопасно! Не спокойная уверенность должна быть нашим чувством при причащении…»
Этой тревоге и противостоит спокойная церковная вера, у которой есть твёрдое основание, что Тело и Кровь Спасителя - абсолютная святыня, не требующая никаких «условий». И не замечал я, чтобы носители этой веры заявляли какие-то «истерические обвинения», скорее, снисхождение к немощным в вере.
И совсем не правомерное толкование автора, распространяющее благоговейный страх перед Причастием (1Кор. 11: 26-30) на страх заразиться.
И ещё один церковно-исторический аргумент: «Когда в 1960-е гг. в Сербии свирепствовала эпидемия оспы и государство запретило священникам причащать верующих одной и той же лжицей, епископ Павел отказался исполнять эту директиву, будучи полон веры, испытанной двухтысячелетним опытом Церкви, что никто не может заразиться, причащаясь Святых Христовых Таин». Ларше Ж.-К. Патриарх Павел. М., 2015. С. 80.
С уважением, иерей Даниил Горячев
1. Прочитал