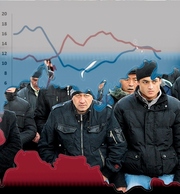3 апреля 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения одного из лучших, пронзительных лириков России (1937 - 2004 гг.) Алексея Леонидовича Решетова, который со слов одной очень хорошей писательницы всегда имел «Божью тропку» в своём творчестве. А если брать установку истинного отношения к творчеству от Валерия Хатюшина, то надо «...почувствовать в органическом слиянии эстетического и релегиозного чувства, за которой творчество уступает место морализаторству и назидательности». А сказать проще: когда обыкновенная «душевность уступает место духовности». Без этого подлинного творчества нет, ибо мастерство и талант ещё не делают истинным деянием поэзию, пока не осенит её Божья десница, пока поэт неотвратимо и без остатка не пойдёт навстречу духу Господнему. И мы имеем возможность наблюдать как поэт, может быть, впервые предстаёт перед святым миром...
Когда во храме стою у порога
И колокол душу мою бередит,
Единственный сын Человека и Бога
Глядит на меня испытующе строго,
А Дева Мария печально глядит.
Алексей Решетов
Золотые врата
Когда уходит большой поэт, то, действительно ли, он уходит? Может только и начинает жить?.. Много лет назад я написал об этом стихотворение, четверостишие из которого процитирую: "Ни в кого поэты не играют, /когда раньше срока умирают/ на бегу, в житейской круговерти, /чтоб пожить спокойней после смерти". Вот и екатеринбургский поэт Олег Дозморов, не сказать, чтобы строгих классических правил поэт, после ухода поэта А.Решетова, вдруг, заговорил чистейшим классическим дискантом: «Классический стих - дитя классической гармонии формы и содержания, чистоты и равновесия чувства, мысли и духовного движения. Гармония в двадцатом веке, конечно, не такая. Меньше чистоты, зато и рафинированности меньше. Но она есть, и стихи Решетова это важное событие подтверждают. Событие, на мой взгляд, заключается в самом обнаружении на рубеже веков той самой, утерянной, казалось чистоты и музыкальности. Обнаружение нового эстетического. И предела или новой эстетической возможности, как угодно».
Далеко мы, видимо, зашли по дороге не в ту сторону, где уже за новое считается, как принято говорить, давно забытое старое. Олег Дозморов даже статью свою назвал «Обретение нормы» /журнал «Урал», №6, 2004 г./, поскольку норму снова надо возрождать, не иначе, считает автор статьи. И еще из Дозморова, из той же: «Сегодня Решетов видится одним из тех, кто стал воплощением нравственной и эстетической нормы. Примером, доказательством и возможностью очень важного нравственного и художественного равновесия, без которого не - мыслимо искусство».
Слава Богу! Мы наконец начинаем понимать, что такие поэты, как А.Решетов всегда были на вес золота, поскольку их «эстетические и нравственные нормы» всегда вечны и незыблемы. Легче было бы их совсем не нарушать, не уходить от них...
Алексей Решетов - один из лучших представителей современной русской поэзии. Лет двадцать с лишним тому назад вышла в свет «антология двенадцати», как прозвали ее читатели. А называлась она «Страницы современной лирики» / 80г. Москва, изд. «Детская литература»/. Составитель Вадим Кожинов - один из самых значительных критиков и литературоведов отечественной литературы.
А тогда в литературном процессе участвовало 4-5 тысяч профессиональных писателей, из которых не одна тысяча поэтов. Но было отобрано только двенадцать лучших из лучших русских поэтов 60-70 годов. Так их как Николай Рубцов, Анатолий Передреев. Станислав Куняев, Алексей Прасолов, Василий Казанцев. Юрий Кузнецов, Алексей Решетов... Особенность этой антологии в том, что она не поступила в продажу, хотя и была издана большим тиражом, а была распределена для всех, именно для всех - с тем расчётом и издавалась - российских школ. То есть это была хрестоматийная книга в полном смысле этого слова! Случай редчайший в практике изданий.
С годами Решетов, как поэт, ничего не растерял и ничего не утратил. Я читал его новые стихи в пермских газетах и альманахах, в журнале « Урал» и видел, что это всегда узнаваемый Решетов! Не теряющий веры в своё поэтическое назначение. Его стихи остались поэзией, а не какими-то декламациями на современные темы, что заметно было на творчестве даже самых лучших поэтов с началом смутных времён. Решетов так же неожиданен, доверчив и откровенен. Это редкий лирик с чувством меры и достоинства. А если говорить о форме, то вряд ли на Урале найдется ещё такой мастер пластических миниатюр. Одним словом, Решетов - известный в России поэт.
Новые стихи Решетова в поэтической периодике Прикамья всегда были долгожданной страницей. Они всегда открывали читателю новую потаённую сторону души поэта. Души бескомпромиссной, откровенной, с доверительными, но уверенными психологическими жестами благородства. Решетов - один из немногих в сегодняшней поэзии поэтов, в котором так непринужденно живут классические традиции Пушкина и Есенина, как свидетельство живого отношений к миру в детском и юношеском порыве искренности, когда не потеряно лицо самого поэта. И не главную суть его стихов составляет откровенная преемственность, а лучше сказать - читательская преданность:
Каких я вин заморских не пил,
Каких не нашивал оков -
-Стучит, стучит мне в сердце пепел
Твоих златых черновиков.
«Ах, Пушкин, Пушкин, милый Пушкин»
Не главной является преемственность и такого рода:
Ты лёгким светом вся озарена.
Ты вовсе не такая, как другие.
Направление поэтической мысли «ты вовсе не такая, как другие» - уйти, оттолкнуться от есенинской мысли: «ты такая простая, как все», хотя при явной мыслимо-поэтической антитезе. В основном же Решетов «взял» от Есенина его лирическую смелость в изображении жизни, органичность, соразмерность, пластичность стиха, жертвенность по отношению к Родине, к женщине. Взял - не значит, что утратил сам. В то же время поэт, чья солдатская лямка традиций, перекинутая через крыло мечты и поиска, никогда не боялся остаться один на один со своей поэтической вселенной:
Мой герб - на фоне облаков
Четыре перышка Икара.
Традиции же в решетовской интерпретации - изумительные микромиры, по-своему любовно обжитые, прочувствованные, выверенные жизнью и искусством:
Я снова русской осенью дышу,
Брожу под серым солнышком осенним,
Сухой цветок отыскиваю в сене
И просто так держу его, держу.
Вспомним Пушкина - «Цветок засохший безуханный», но и решетовское продолжение:
Я говорю: отыскивай, смотри,
Пока не в тягость палка и котомка,
Пока вкусна печёная картошка
С ещё сырым колесиком внутри.
Эти две строфы одного стихотворения - наглядный пример внешне простой и внутренне сложной поэтической ситуации: традиция, поиск, непосредственное отношение к жизни.
В этом счастливом сочетании существует большинство стихов Алексея Решетова, заставляя нас поражаться какими-то кроткими и короткими,(в смысле близкими) сердечными связями поэта с истиной, правдой и красотой.
Я помню:
с тихою улыбкой
Скрипач, что на войне ослеп,
Водил смычком над тёмной скрипкой,
Как будто резал черный хлеб.
Музыка - чёрный хлеб искусства - голодным душам ( и не только душам) в самый раз! Жажда хлеба и настоящего искусства - кредо послевоенной мальчишеской эстетики, которая перерастёт потом в пушкинскую категорию чувства - «Я вас любил так искренно, так нежно». В этой возвышенной категории существуют почти все любовные стихи Решетова. Они существуют на тех нравственных глубинах /откуда идёт и сам Пушкин/ где веками живёт убеждённость в непреходящих ценностях любви высокой и жертвенной:
Ты будешь жить
в морозе здешних зим -
Я буду добрым солнышком твоим.
Но порой в стихах Решетова заметно желание омыть душу просто и горько, освобождая поэта от камерности /тут он близок Есенину/, отнюдь не выбивая его из высоких эстетических традиций:
В эту ночь я стакан за стаканом
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном...
Ясно, что эти «стакан за стаканом» полны более эстетического наполнения, чем алкогольного. И вообще Решетову свойственно соединять земное и возвышенное при удивительной органичности, казалось бы, несовместимого:
Любимая, стой, не клянись, всё равно
Кого-то из нас утомит постоянство.
Но я тебя брошу, как птицу в пространство
А ты меня бросишь, как камень на дно.
Но это же земля и небо любви! И трудно найти аналогии подобным стихам. А такие стихи, как «Они расчесывали косы», "Как жили женщины в бараке», «Кофточка застенчивого цвета», «Светолюбивы женщины» - можно но праву назвать одними из лучших стихов в лирике семидесятых годов отечественной лирической поэзии...
Когда я говорю о традициях, то подразумеваю, что не может быть профессионального поэта, работающего не в традициях. Вопрос: в каких традициях? Даже самые крутые авангардисты всегда проходят косяками и школами. Без своих традиций - они тоже никто. Их традиции писать - для просвещённого, элитарного читателя. Иногда - наоборот: для массового, не требовательного, любящего шоковые удары по голове. Но Бог им судья. Не о них речь. Не будет серьезный поэт закрываться от читателя или непристойно открываться. Задачей всех серьёзных поэтов было - открыться, поскольку мир поэта и без того сложен. Поэту надо освободиться от груза нажитых впечатлений, а значит писать более открыто.
ДЕЛЬФИНЫ
Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь!
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.
О, разыгравшиеся дети,
Вас не обидят корабли,
И вашей кровью красить сети
Отвыкнут жители земли.
И вы поэты, как дельфины,
Не избегайте с нами встреч -
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.
Прежде всего, это поэзия на уровне бодлеровского «Альбатроса». Скорей всего, что выше. В другом случае, это позиция открытости поэзии, против камуфляжей всякого рода. Но когда поэт открыт, любителей «красить сети» его кровью всегда очень много. Это и Данэсы, и Мартыновы, и Бухарины с Троцкими, и много обыкновенных завистников, недоброжелателей, и просто невежд. «Дельфины» оказываются на одной сейсмической волне, к примеру, со стихами Пушкина о сложности жизни поэта, в обществе, когда его открытость не понятна даже близким ему человеком.
Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мёртвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
По-решетовски - на языке «дельфинов». Но в доброте к не понявшим его любимым Решетов пошел дальше традиций Пушкина:
Ты молода, мой друг, а я поэт,
И стало быть, мне много тысяч лет.
Это удивительно простительные стихи; «ты молода» - этим всё сказано. Никакого интеллектуального высокомерия, никакой мужской обиды. Величайший такт души. Ведь, если брать стихи того же Пушкина, Лермонтова, Боратынского - то этого почти не найдём. Все они высказывались более жестко на оскорблённое, как они считали, мужское самолюбие, за исключением немногого - «как дай вам Бог любимой быть другим».
Не только в эмпирическом аспекте, а заодно и просто в моральном, но и в техническом плане Пушкин «отставал» от Решетова. В книге воспоминаний «Друзья расскажут» есть у Александра Старовойтова интересная цитата из стихов Решетова сравнительного анализа стихов Пушкина и Решетова)
Я только тень при божественном свете,
Я только мышка на бриге твоём.
Но поминать нас грядущего дети
Будут, хоть изредка, вместе, вдвоём.
Смирение и вызов знаменуют эти стихи...и не случайно. Читаю дальше у Старовойтова: «Сразу замечу, что я проанализировал 594 стихотворения (т.е. Все, кроме поэм, сказок и «Евгения Онегина», конечно же) Александра Сергеевича и 383 Алексея (это не все стихотворения, но, как в дальнейшем убедится читатель, вполне достаточно).
Показатель первый: использование цветовых эпитетов.
Думаю, не надо доказывать, что большой мастер использует таковые не бездумно и не всегда называет снег белым, а не каким-либо другим. У мастера цветочные эпитеты - не только результат наблюдательности и умения заложить цвет и его оттенки в словесную формулу. Часто они становятся метафорой, или, как заметил Борис Пастернак, «скорописью духа».
Для начала - палитра поэтов. У Пушкина она состоит из 24 цветов и оттенков (впрочем, оттенок встречается лишь однажды - зелёно -бледный). У Решетова несравненно богаче - 53 цвета и оттенка. (Замечу, что такой палитры нет ни у Блока, ни у Есенина, ни у многих других великих русских поэтов. Этим могут похвастаться только прозаики: Тургеньев, Катаев, Шолохов, Бунин...)Каково? Я уже не говорю о том, что додуматься до кофточки ЗАСТЕНЧИВОГО цвета Пушкин, мне кажется, вообще не мог».
И далее пишет Старовойтов: «Итак, показатель второй: сколько и каких растений радуют глаз в стихотворных строчках названных поэтов. У Пушкина я насчитал только таковых лишь 19.»... «Флористическое панно»
Решетова несравненно богаче - для его создания он использует 69(!) растений. Любимые: берёза, осина, сосна.
Березниковцы рябиновый сад имени Решетова уже заложили, пора бы пермякам посадить берёзовую рощу.»
Вот и я говорю, что многие нежные чувства у реалиста Пушкина по отношению к женщине, что у романтика Решетова, мы не найдём...
Но Пушкин высок и широк и глобально историчен. Он, действительно, мог что-то на дороге не увидеть, стремясь в необозримую даль, Решетов по - старательски слишком земной труженик и лирик до мозга костей...
И, по-моему, Алексей Решетов имел ещё одну традиционную привязку - это Осип Мандельштам. Поэт, который, как и Решетов, с детства впитал классические традиции русской поэзии, всегда был им верен, и погиб, по сути дела, за «русский шовинизм», как доказал это Вадим Кожинов /ж. «Наш современник», 10,1997г./. Ведь даже форма четверостиший и восьмистиший / не сонетов, допустим, тоже короткой и более классической формы/ сразу заметна в стихах Решетова. Это форма, к которой часто прибегал Мандельштам. И, что ни говори, ни про одного поэта взрослому читателю нельзя сказать, что его нашли в капусте или, что его принёс аист: всех их можно вычислить по генетическому коду отечественной поэзии.
В концептуально-мировозренческом плане параллельные прямые Решетова и Мандельштама пересеклись, на мой взгляд, только однажды: «Золотые врата, золотые врата / Пропустите в далёкое детство меня».- Решетов. « Только детские книги читать /Только детские думы лелеять»,- Мандельштам. Любой поэт без детства - ничто. Их даже можно квалифицировать по количеству содержания детства в их стихах. Но, парадокс, не- жнейший поэт Сергей Есенин даже в детстве писал вполне «взрослые» стихи от лица как бы взрослого поэта: « Там, где капустные грядки», «Хороша была Танюша» и др... Но как бы он посмотрел на своё детство в сорокалетнем возрасте - мы этого никогда не узнаем. Взрослые сорокалетние поэты Решетов и Мандельштам детству в поэзии отдали главную роль. Не столь детству, сколь непосредственности. Непосредственность, доверчивость, любознательность с радостью творческого нового утра, с переменным не планированием неудач и всяких житейских помех - иногда довольно серьёзных. И так с утра до вечера, но в миру поэт всегда незнакомец - это и есть его ипостась , будь ему хоть семь лет, хоть семьдесят! Взрослый ребёнок всегда непонятен и даже презираем невеждами...
Но Решетова и Мандельштама сближает и другое. Это присутствие семантическо - фразовой однородности резких тонов, к чему оба поэта прибегали где-то в начале, в середине своего творчества, что не являлось главным; инструментом в их поэзии. В принципе ...Мандельштаму были ближе такие классические пассажи, как, "в природе длительность, как в метрике Гомера», однако, резких, угловатых, парадоксальных признаков его метрики не заметить нельзя: «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный строй». «Флейты свищут, клянутся и злятся»;« Чтобы в уши, глаза и глазницы /Флорентийская била тоска», «Заблудился я в небе - что делать?»...У Решетова: « Я-то знаю, чьи мы-то потомки - Разрази Чарльза Дарвина гром»;« И рука, как безумный старик и свеча, как звезда из-за тучи», «Я, как волк появился в апреле», «И свинцовою тучей / Продырявлен висок».. «Израненное знамя, охрипшая труба», «Мы бредём, спотыкаясь о корни»... Но семантика и только семантика роднит эти словообразования, хотя можно бы сказать, что духовную атмосферу трагедийности создала та самая государственная машина тех лет, которая в последствии погубила Мандельштама и в те же годы и в тех же, собственно, местах /на востоке/ погубила отца Алексея Решетова. А потом прошлась молотками по всей его семье. Но что характерно. Ни у того, ни у другого поэта не возникло ненависти, непосредственно, к стране, что наблюдалось у многих в их положении. Известно, что в Чердыни Мандельштам был в ссылке и даже выбрасывался из окна второго этажа больницы.
Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов недосмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме,
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок.
И я в уме.
1935г.
Чердынь у Мандельштама «голуба», несмотря на то, что ссыльное место: городок не при чём - он красив по-древнерусски. Даже «долгополые шинели», т.е. -конвоиры, которые везли Мандельштама на пароходе - ему нравятся, он им даже позавидовал и придумал несвойственную роль.
«Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеют в шинелях с наганами племя пушкиневедов».
1935 г.
Я к губам подношу эту зелень -
Эту клейкую клятву листов -
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, клёнов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
1937г.
Последний год жизни поэта...
Тема Родины у Решетова не столь сложна, как у Мандельштама. (Но есть ли такая тема у больших поэтов? По-моему у них всё неразрывно). Его творчество, впитав в себя лучшие соки традиции, /в том числе и соки Мандельштама/, возросло удивительным древом добра, любви, дружбы, насквозь пронизанными солнцем отечества. Тема осознания себя в обществе, или, как говорят, гражданская тема приходит к Решетову сквозь детские молочные сны: «Ты знаешь, что такое рань», «Пегасу хочется в ночное», «Скажите, вы любите крыши»... Поэт по-русски немногословен, когда говорит о трудной године Родины.
Как стойко держались берёзы
В суровые дни в январе,
А нынче - весенние слёзы
Бегут и бегут по коре.
Негромко порой звучат стихи Решетова, но западают в самую душу. О днях Победы, где были слёзы, тосты, салюты /все громкие события/ поэт выделяет одну скромную деталь, которую запечатлело его детство, и она /тихая, скромная/ становится глобальной:
Какие стояли денёчки,
Когда без вина веселя,
Пластинкой о синем платочке
Вращалась родная земле
Тема великой скорби тоже удаётся поэту: чуткая душа не может не заскорбеть, если скорбит отечество - «Горите, флаги красные, горите», «Стихи о военном детстве», «Ищите без вести пропащих»...
Вот и сегодня, когда сбиты с толку - многие соотечественники, Решетов в стихотворении «Россия» пишет:
Не верю породе крысиной,
Сбегающей прочь с корабля.
Я верю - бессмертна Россия.
И небо её, и земля.
И опять эти не взрослые, но отнюдь и не детские стихи:
Дерево возле пивного ларька,
Ты мне любимой моей показалось.
Образно говоря, это детство пенсионера! У Решетова была постоянная потребность сверять свои творческие интересы с естественной потребностью вновь очутиться «в начале», с утратой чего, по мнению его, поэт перестаёт быть поэтом. Вечный девиз его таков:
Золотые врата, мелодично звеня,
Пропустите в далёкое детство меня.
Таким и помнится чаще всего поэт Алексей Решетов.
Статью можно на этом и закончить, но есть неотвратимый факт - отношение к поэту Решетову академической среды - профессиональных людей, филологов, профессоров... Разве можно без них обойтись. Ведь академический Решетов, надо полагать, только и может состояться, как классик, кем и должен остаться потомкам: все статьи по газетам и журналам - вещь преходящая...
Владимир Абашев, профессор - филолог Пермского университета в статье - послесловия «Алексей Решетов: мир, лицо, слово» к его «Избранному» (г. Пермь, 2005г.) пишет:
«Все внешние приметы литературной известности у Алексея Решетова вроде бы имелись. Издавались книги, стихи входили в антологии, праздновались юбилеи, присуждались премии. Но что сегодня можно прочесть о Решетове? Две дюжины газетных, в большинстве своём проходных рецензий, несколько предисловий к сборникам, одна-две статьи, редкие упоминания в обзорах столичных журналов - вот и вся библиография. Стихи Решетова так и не удостоились обсуждения по существу, имя его не вписано в контекст русской поэзии последних десятилетий. Как и многие поэты провинциальной России Алексей Решетов остался замкнутым в локальном контексте. Между тем его драматически напряженный и художественно сосредоточенный поэтический мир имеет далеко не местное значение. Это крупное явление русской поэзии последних десятилетий. Явление, оставшееся непрочитанным, не узнанным.
И виной тому не столько географическая отдалённость от столиц, сколько ощутимое, хотя и не вполне проявленное противоречие, даже противостояние решетовского мира своему поколению и времени - тому яркому, противоречивому, насыщенному поисками и открытиями периоду, который мы называем шестидесятыми годами».
В шестидесятые годы в литературу тащили не столько свободу слова, сколько лжеавангарда и хрущёвской и послехрущёвской храбрятины...
Но вот издаётся в 2007 году, то есть после этой статьи Владимира Абашева, книга Воспоминаний о Решетове «Друзья расскажут» (далеко не всех друзей, но избирательно по-хорошему) - очень заметная, во всех отношениях интеллектуальная книга - случайные люди сюда не попали: только истинные друзья, душевные без всякого постороннего духа люди, родственники... И всё-таки надо сказать, что какая бы честность, душевность, интеллект, образованность, знания, великая начитанность и пр...пр...здесь под этой обложкой не собрались ...всё это не заменит академического отношения к творчеству поэта.
Академический Решетов - это ствол дерева, а все рецензии, очерки, воспоминания... ветви от этого ствола, которые дополняют ствол - их тоже рубить нельзя... Но рубить их никто и не собирался. Просто надо приготовиться к более профессиональному и необходимому разговору, который провёл Владимир Абашев, профессор-филолог, а я, читатель, попросту, постарался его правильно понять.
Прежде всего Абашев отмечает то, что поэты военного и сразу послевоенного времени - Соколов, Ваншенкин, Винокуров, и - потом Рубцов, Кузнецов... оказались ближе, чем поэты уже шестидесятых годов, которых «...больше волновало общественное, национальное, историческое, Решетова тянуло к экзистенциальной проблематике человеческого бытия» - пишет Владимир Абашев. И как ни странно послевоенное экзистенциальное бытие, зачастую «барачное» с привкусом близкого полуарестантского и полудиссидентского, естественно, быта поэтом переживалось потаённо и глубоко, и не однозначно, где огромная доля добрых и честных людей, противостоящих ежедневному злу, бедных , крайне бедных, но сильных людей, родных и посторонних людей, сделали своё дело: заронили в детскую душу то противостояние, с которым он пройдёт через всю жизнь, защищая добро и правду и не только эстетического порядка. Решетов честен был до щепетильности в любых своих проявлениях.
Всю жизнь себя клял (не раз слышал) за то, что когда-то, будучи мастером участка, лишил премии какую-то работницу, а у той ...оказалось много несчастий в семье...
Поэтому было с чем начинать свой путь Решетову в поэзии, что Владимир Абашев связывает с «глубокой индивидуальностью»: «Пытаясь описать лирическое «я» Решетова, в первую очередь следует сказать, что это не клишированная маска, многие из которых как бы заранее известны опытному читателю и распознаются с первых строк стихотворения. Такие маски не выражают живую личность, это производные окостеневших жанрово - стилевых форм: поэт-гражданин, поэт-романтик, поэт-пророк, поэт-патриот и.т.п.».
Послевоенное «барачное» детство в стихах Решетова не с чьими не перепутаешь, к примеру. Тут нет обычной «босоногости»: здесь обнаженная, открытая до беспредела душа: «Коммунальный старый дом - двадцать два окошка./ За любым таким окном -/ Из холста дорожка». То есть милости просим, люди по этой «дорожке» ... «И прохожим не узнать, что зимой суровой/ В этот дом вносила мать/ Беженца грудного. (Не его ли самого? Символически - да!). «Стол заветный - на дрова! Хлеб пайковый - людям!...». Всё в этом доме исключительно по - людски. «За окошком вечер зимний./ Сорок третий год./ И стучит машинка»Зингер»-/Баба Оля шьёт». Но мирным картинкам то и дело не даёт тревожное сознание, хотя бы задним числом: «Играет щепками река. / А в небе серый гусь-салага/Летит, отстав от косяка. / Куда-то в сторону ГУЛАГа». Про «щепки» в «реке», то есть в жизни, мы знаем очень хорошо... Потому не просто образ в его стихах «Отец мой стал полярною землёй», а ещё и трагическая действительность. И всё -таки поэт ставит рядом с этими стихами и такие:
Горите, флаги красные, горите!
Я с детства помню слёзы ранних вдов,
Заиндивевший громкоговоритель
И снег в морщинах сбившихся платков.
Такова «персонефицированность» поэта Решетова... хотя и не забыть гонений ему своей семьи. Но есть и внешние особенности лица Решетова у Абашева: «В стихах Решетова этот образ создаётся из узнаваемых портретных деталей - таких, как серые глаза («мой серый взор стремится в синеву»), седина и трогательная телесная утлость («не писал своих героев, а впалой грудью защищал»), характерная пластика жестов».
Но о «внутреннем» облике от Владимира Абашева более интересно: «Это «я» психологически конкретно, его эмоциональные реакции и предпочтения ожидаемы - неизменная печаль, жалость ко всему малому, самоирония , детскость, которая сказывается не только в особой ностальгии по детскому раю («золотые врата, мелодично звеня, пропустите в далёкое детство меня»), но и в особой инфантильной точке зрения, необходимой в качестве художественного средства». Немножко странно звучит эта «инфантильность», хотя бы даже из детства: оно ведь достаточно самостоятельно, если даже не учитывать непосредственность. Детство поэта...Но есть ли вообще у поэта другое психологическое состояние, которое было бы серьёзней детства? Серьёзней - нет! Но поэт, живя среди людей по их законам и правилам просто вынужден переключаться - и на работу, и на семью, и даже на правила уличного движения... Иначе сомнёт и скрутит его обыденность и обязанности к ней. Гений, он всегда, в основном, ведёт себя скромно и непритязательно... И живёт, и работает по правилам общества и даже прикидывается, что тоже такой, как все! Но он всё равно всем зачастую надоел! И всем, так называемым, людям, его куда-то надо обязательно затолкать, а он, как назло, торчит из всех углов...И тут у людей лопается терпение! Они его психологически не переносят! И чаще всего - куда-нибудь отправляют... донимают советами уехать. Или создают такие условия... Да он и сам постоянно стремится куда-то...
И тут для поэта дорога пока одна - уйти в себя, в свои символы, принципы и мифы...
Как раз недоброжелательное зачастую общество недальновидных людей, которых всегда больше во много раз, и помогает уйти в свою творческую атмосферу!
Абашев пишет от слов Нины Берберовой: «Если человек не распознал своих мифов не раскрыл их - он ничего не объяснил ни себе, ни в самом себе, ни в мире, в котором жил». Конечно же это касается творческого человека. «Понимание поэзии Решетова будет поверхностным, если мы не поймём личный миф»- пишет дальше Абашев. Выходит, миф поэта - это его творческий код? Есть это у каждого настоящего поэта. Иногда даже и не осознанно. Но именно это - и есть главное, что создаёт личность, суверенность, значительность поэта!..
Абашев: «Среди всех символических самоиндификаций у Решетова выделяется одна: блудный сын. Это и есть личный символ, запечатлевший структуру решетовскго самосознания». Тут всё правильно, потому, что не бродяг, не скитальцев, не блудных сыновей - поэтов не бывает. Равносильно сказать, что Решетов тоже поэт, потому что скиталец по своим поэтическим мирам...Ведь только они одни могут сделать поэта самостоятельной творческой личностью. В чём ни каких сомнений не остаётся после прочтения этого четверостишия, которое цитирует и Абашев:
На берегу дороги дальней
Седой бродяга, блудный сын,
За голос матушки печальной
Я принимаю шум осин.
А «шум осин» почти везде: от него не уйти... Наскитавшись, что называется, до смерти, сын виноватиться перед матерью, что забыл, оставил её одну из-за своих земных и небесных дел...
Ты слышишь, мама, я пришел -
Твой милый мальчик, твой Алёша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.
Руками желтыми всплесни:
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.
Уж сколько зим - не знаю сам -
Скребётся вьюга по окошку.
А ты всё ходишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку...
«Желтые руки» матери - это грустная реальность, которой не мог пренебречь поэт, ведь он уже одинаково любит и жизнь, и смерть. И кладбище для него теперь тоже жизнь.... Такая лирика от «скитальца» по всем сердечным мирам,
где бы они не находились... на том свете, или на этом... не имеет цены...
Старость - вот она, с холодом лютым,
Отчего же в конце бытия
Всё дороже становятся люди,
Не персона, не шкура своя.
И до этой персонификации дошел поэт - и она тоже творческое лицо, а вместе с тем и житейское: «...словно все мы, как братья, похожи, / Словно все мы - один человек?». Для гениев нет разницы - простой ты человек или непростой, все Божьи люди, как говорится людьми верующими. Алексей был глубоко верующим человеком. И талант имел, как говорится, от Бога.
А Владимир Абашев останавливает наше внимание на: «трактовке своего личного мифа в стихотворении «Картина». То есть решетовского мифа.
До чего же печальна картина
«Возвращение блудного сына», -
Он гордыню свою превозмог.
Он теперь даже глаз не подымет,
Он питался дождём и полынью,
Он вернулся на отчий порог.
Но какие-то дальние зовы
Появляются в небе суровом
И зовут день и ночь без конца.
Вот и к свадьбе уже всё готово,
Вот и жить бы, как люди, толково,
А на мальчике нету лица!
Не тот, видимо, мальчик, не то у него лицо в этом миру...
Абашев: «Удивительно точно найдена интонация стихотворения. Его почти простодушный эмоциональный зачин - «До чего же печальна картина» - сразу же выводит монументальный сюжет из сферы сакрального и проецирует его в повседневность естественных переживаний, снимает возможную дистанцию между повседневным и символическим». И далее: «Блудный сын Решетова - это вечное странничество, вечная тревога и неуспокоенность, это сострадательная нежность и надежда на высшее прощение, это символ печали и стоицизма». «Такая формула мироощущения ставит под сомнение поверхностный оптимизм и идёт, конечно, вразрез с популярными формулами шестидесятых».
Казалось бы шестидесятые годы и были годами как раз «скитальцев» и «блудных сыновей» в поэзии, но окрас этих категорий у Решетова слишком разнился с общепринятым понятием об этом шестидесятников. Он любил все земные ценности, прежде всего, а они любили скандалы и было много ячества среди них...
«Человек нёс хлеб - и пел./ И судачили старухи,/ Дескать, вот, не утерпел,/ Нализался медовухи. А прохожий трезвым был. / Не шатался, пел как надо./ Просто он не позабыл, какова была блокада,..». И он сетует на себя за то, «Что замкнулся в бетонной коробке/ И плоды просвещенья вкусил./ А давно ли у божьей коровки/ Я
доверчиво хлеба просил?». «Мы в детстве были много откровенней: _ Что у тебя на завтрак? - Ничего. - А у меня хлеб с маслом и варенье. Возьми немного хлеба моего». Здесь никаким ячеством и не пахнет, а есть почти молитвенное отношение
к бедным людям и их обстоятельствам. Я не случайно остановился на стихах о хлебе: это самая насущная вещь на земле, рождённая на земле и самая частая на востребованное людьми! К тому же, хлеб в стихах - это, как правда искусства - не раз говорилось.
Наряду с земным хлебом Решетов никогда не упускал из виду небеса над землёй. Владимир Абашев это подчёркивает и ведёт парадигму соперничества поэта к теме небес, а так же к притяжения к земле, как земная любовь - она всегда и небесная: «Как я в детстве любил/ Небеса и безумца Икара! /.../ Притяженье земли /Повалило меня на лопатки»;
«Вертикальная звёздная даль/ Мою душу зовёт всё сильнее,/ Но чего-то земного ей жаль,/ Высота не всевластна над нею»; «Всю жизнь свою к родной земле взыскую, /Хотя мне очень хочется летать»; «Ангелы в белом пришли и ушли,/ ушу поэта не взять у земли». Абашев заостряет наше внимание на главной мысли: « Неизменно побеждает чувство матери сырой земли, и тяга земная в решетовской вселенной сильнее, постояннее, чем тяга полёта». А«Великая печаль» земли наводит меня на мысль и о той земле, о том стихотворении Решетова, где говорится о земле как о хранилище «золотых жил», и как о бывшем месте поле брани:
ЗЕМЛЯ
В ней золотые жилы не устали
Ждать, что за ними дерзкие придут.
В ней кости и зелёные медали
Солдат, которых девушки не ждут.
В ней все, в земле:
начало радуг, хлеба,
Тонюсенькой черёмухи, ручья.
И эту землю
на седьмое небо,
Живой и мёртвый не сменяю я.
Абашев пишет: В поэзии Решетова «мать сыра земля» выступает как формула живого и глубокого переживаемого архаического мифа. Непосредственно, стихийно, с богатством эмоциональных оттенков поэт чувствует в земле живое персонифицированное существо, порождающее всё живое, источник жизненной силы и энергии, чудесно объединяющий смерть и рождение. У Решетова это не интеллектуальная конструкция, а живое переживание». Приход, например, поэта к матери на кладбище. И далее пишет: «Глубина интуитивного решетовского проникновения в мифологию земли подлинна и неординарна. Это живой структурообразующий комплекс в его поэзии. Дело в том, что в русской национальной традиции архаический культ матери сырой земли сливается с культом Богородицы. Этот вот - богородичный - аспект культа земли Решетову был особенно близок:
Когда во храме стою у порога
И колокол душу мою бередит,
Единственный сын Человека и Бога
Глядит на меня испытующе строго,
А Дева Мария печально глядит.
Здесь не только «культ земли» одухотворённый образом Девы Марии. Это ещё и восхождение в то состояние, когда эстетическое и религиозное чувство органически воспроизводят состояние души поэта, о чём было сказано ранее автором со слов поэта Валерия Хатюшина.
Естественность и простота исключительно символического мира здесь путают все грани между искусством и реальной жизнью, к чему всегда и стремится поэзия, но даётся в руки она далеко не каждому поэту. Решетов заплатил за эту правду искусства многими жизненными жертвами, пропустив через свою душу не одну смерть родственников, друзей, и потерей страны в каком-то смысле...
Дальше Владимир Абашев останавливает наше внимание снова на том, что:«Художественный опыт Ррешетова чрезвычайно наглядно демонстрирует, что мифологизм и лирическая искренность, исповедальность не только совместимы, но и взаимосвязаны».
Литературная эстетика далеко не сразу становится личностно духовной ввиду общественных литературных стереотипов. Поэтому он и не сразу определился не только со своей стилистикой, но и с мировоззрением. После издания своего первого сборника «Нежность» поэт встречает Виктора Болотова, прошедшего суровую школу новосибирской поэзии с её фоняковским (от поэта Фонякова, руководившего литобъединением Новосибирска) аскетизмом и «гамбургским счётом» стиха, как внешнего, так и внутреннего порядка. Болотов сразу «разругал» его романтическую рафинированность некоторых стихов первого сборника, а также признаки «натурализма» от «лионозовцев», их «барачной» грубоватой манерой свободного обращения со словом...
Решетов потом не однажды с благодарностью вспоминал «ругань» Болотова, после которой он обратил внимание больше на традиционные решения Ваншенкина, Межирова, Винокурова, поэтов старшего, военного поколения, как пишет Владимир Владимир Абашев. И вступил в противоречие со своим поколением «шеседисятников», склонных по форме к «лианозовцам» или более крутому авангарду, или к внутреннему протесту культурно-социальных тем.
Абашев так же отмечает: «Что касается стилистики, то Решетов был бы вполне солидарен с Яном Сатуновским, что «метафора, гипербола, литота - второстепенные половые признаки поэзии» И мне бы сразу хотелось привести некоторые строки стихотворения Решетова абсолютно без этих «признаков», но с глубоким, подлинным поэтическим чувством.
Я жил далеко на Урале,
В почти недоступной дали.
То льдины у ног проплывали,
То сено на лодках везли.
То словно разрытая яма,
То будто поверхность стекла -
То злая, то добрая, Кама
Как совесть людская была.
Всего лишь два лёгких сравнения присутствуют здесь, как необходимость простейшей картины великой реки с простейшими нуждами, но и с великой, надо понимать, совестью поистине большой реки. Ещё и как символом жизни.
Здесь так же, как почти везде глубина и простая внешность готовы вступить в противоречие, но всё-таки это не то, что приводит Абашев: «Боже, до чего же мне надоели / Комнатные, книжные слова!» и потребности в «иной речи» приобщающей к тайнам глубин, к стихии первооснов бытия:
Родная речь, прямая речь...
Но есть ещё и речь иная.
Кому в сырую землю лечь
Приходит время - ей внимают.
Зашелестит кругом листва,
Или пчела прильнёт к могиле.
И ты услышишь те слова,
Которых мы не проходили.
То есть те слова, которые, может быть, еще не придуманы человечеством!
Но в самые трагические моменты человек всего ближе к тому, чтобы их произнести... Поэт, казалось тоже всегда близок к созданию «иной речи»,
но, видимо, как он сам признаётся, не ему суждено это сделать.
Абашев подсказал нам на эту мысль и цитирует строки его стихов:
«Какой мне чудится пейзаж! Какие рощи и поляны,/ А мой гранёный карандаш/
Как будто гробик шестигранный». А поиски утраченной или вообще не найденной «иной речи» продолжаются. И автором статьи приводится это стихотворение:
Опущу усталую главу:
Поздно для хорошего поэта
Я узрел подземную траву
И потоки косвенного света,
То, что рядом надоело брать,
Что подальше - всё никак не трону,
Только глажу новую тетрадь -
Белую, голодную ворону.
Абашев пишет: «Но на пути этого созерцания («подземная трава», «косвенный свет» - Г.М.) становится язык, привычное слово, не вмещающее новых граней созерцания». И далее: « В целом его словарь не выходит за рамки «среднего штиля», но функционально подобные элементы стиля «высокого», важны, поскольку обнаруживают хотя бы тенденцию стилистического движения».
« Я бреду спотыкаясь о корни слов старинных / Я их предпочёл...»
Не первый раз люди ищут в давно забытом старом -новое! Абашев напоминает о «прорывах» в направлении «иной речи» и иных, надо понимать миров: «вертикальная звездная даль», «перо, словно посох скрипучий, и рука, как безумный старик»...И всё же,- продолжает он,- «это лишь вариация внутри стилистической системы, которая в целом воспринимается как сковывающая его видение».
И далее следуем за мыслью Владимира Абашева, говорящего чуть ли не самое важное для поэта и для нас: « Конфликт «творческого созерцания» и «таланта» в творчестве Решетова имеет постоянно ярко выраженный социокультурный аспект.
Судьбы души моей сурова.
Без сожаленья, без стыда
Ей не давали молвить слова
Угрозой вечного, земного,
Отнюдь не Божьего суда.
- Смирись!- твердили ежечасно.-
Ты приживалка, ты раба!
Но всё впустую, всё напрасно...
Необъяснимая судьба...
В этих поздних стихах Решетов ясно формулирует то, что переживал изначально. Не упрощая проблемы, мы должны понимать, что судьба Решетова-художника глубоко драматична. И это не только его драма. Это драма нашей культуры, всех нас, ставших простыми-упрощёнными, потерявшими связь с грозными и грандиозными мирами богов и демонов».
«Богов» и «демонов», надо понимать, настоящих в лице политических и «социокультурных» сил. Таковы основные концептуальные ориентиры, которые определяют поистине академическую статью, открывающей нам глубинного, а не просто популярного поэта Решетова с его «иной речью», которая где-то и, действительно, состоялась у поэта, что объяснил нам профессор и мы тоже приобщились к ней.













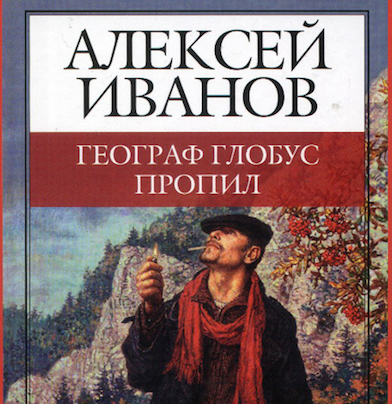












.jpg)