
С 2022 года мир из-за «лая НАТО» у границ РФ оказался в воронке гибридной прокси-войны США против России. Поскольку Ялтинско-Потсдамская система архитектоники безопасности оказалась не в состоянии предотвратить геноцид русских на Украине, Путин решился на Специальную военную операцию по отражению оттуда ползучей агрессии Евроатлантизма и на нейтрализацию этого пограничного с РФ форпоста НАТО. Укро-нацики и евро-вассалы США нынче ждут от своего заокеанского суверена военной поддержки «с суши, воздуха и моря», чтобы к 2029 году порешить Россию и растащить её по частям. Судя по длительной торгашеской пустоговорильне республиканской президентской администрации (попытки приморозить конфликт, не говоря уж о полном его завершении навсегда), эта война вокруг Украины – не только проект Байдена, но консенсуса американских элит, пролонгированный Трампом (но в другой роли – «хорошего парня», в функции мироносца). На встрече в Ватикане на просьбу Зеленского дать ему больше оружия, Трамп подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
Трамп явно ввязывает Россию в аналог Индо-Пакистанского этно-замирения (также частей одного народа) британцами в 1947 году – чтоб вечно попыхивал отложенный конфликт (как мучительный для героя Пушкина – Сильвио отложенный на шесть лет дуэльный выстрел). Соединёнными Штатами правит консенсус русофобских элит, всегда нацеленный на поддержание US-доминирования, упрочения миропорядка Pax Americana. Обе правящие партии США усматривают главные угрозы от РФ и КНР – «гибридных режимов, балансирующих между авторитаризмом и стратегическими альянсами с демократическими странами» (ШОС и BRIKS).
Но если миру удастся вырваться из гравитации американоцентризма в более справедливый – многополярный уклад, то на каких ценностях он будет базироваться? Судя по нахрапистому европейскому плану замораживания конфликта на Украине, ничего хорошего от такой «сделки» России не светит. Трамп сменой масок выбивает из охмуряемых России, Украины и Европы нужные США максимально возможные в сделке дивиденды. Его личины «подбадривающего» или «негодующего» в отношении то одного, то другого загнанного в прокрустово ложе «партнёра» виртуозно пользуются суетливой растерянностью дерзко принуждаемых к миру – «обрабатываемых клиентов». Эта видимая импровизация дельца от политики смахивает на изделие домашней заготовки, при тщательном расчёте методики применения и дозы словесного дурмана при зомбировании психомоторики жертвы вымогания (спецы могут жертву психотронной агрессии доводить до самоубийства, или к смене «самим клиентом» своего решения на диаметрально противоположное). Трампов ультиматум (не хотите делать как я говорю – брошу вас и займусь другим неотложным делом.
Так в «Дядюшкином сне» Достоевского старец-нахлебник грозит спекулятивно, ради нужного эффекта, покинуть гостеприимную усадьбу), априори пугая клиента, предуготованного к эйфории самого по себе «переговорного процесса» как такового. Аура клиента, бредящего детантом (или детантной преамбулой хотя бы), хорошеет уже от самой переговорной «пурги» – патронажа темы, без конкретизации смыслов якобы «с чистого листа»! Назовём этот феномен предвкушения охмурения ЭКСТАЗ ПОЛИТОРГАЗМА. Этой практикой управления через внушение обладал и Обама, применив её (технологию reset – перенацеливание, выглядящее «перезагрузкой отношений») по отношению к Кремлю при Медведеве – следствие чего ВС РФ пагубно всё ещё ощущают на себе (подробнее в моих мемуарах «Гармонизация мира луховно-цивилизационной обороной России», 2024).
Переговорные пляски Трампа напоминают политметодологический приём 1918 года – предъявление ультиматума Антантой Германии за 6 месяцев до германской капитуляции. Но ведь тогда немцы терпели поражение, а РФ на Украине сейчас наступает. Методом информационной дезинформации и манипулирования сознанием внушается себе и миру сложившийся на приукраинском ТВД устойчивый фактор «стратегической неопределённости», в перспективе якобы патовой ничейности в поединке цивилизаций. Отсюда цинизм позиции США – унять сверх-амбиции сторон конфликта и вырулить на положение «ни мира, ни войны». Не ради такой сомнительно-половинчатой цели идёт СВО. Ещё и умаслить Трампа надобно, чтобы он милостиво согласился признать Россию непроигравшей в конфликте стороной. Она не только тогда узаконит свою недопобеду, но и добьётся этого за столом переговоров с «просроченным Зелей». Явная стратегическая наживка – само собой разумеющаяся легализация исконно русского Крыма (в отношении других недавно присоединенных земель – признание лишь де-факто, а не де-юре, как Крыма, и то с вычетом вроде как совместного общего пользования – Запорожской АЭС). Атомная станция в деляческом раскладе становится «нужником» (местом общего пользования)! Это было бы дополнительной конфликтной зацепкой – заполучить в русском тылу второй Чернобыль. Такого рода антидипломатии – вакханалия поминок международного права после гангстерских торгов с выкручиванием рук клиентуре.
Смена такого неправедного мироуклада необходима. Она мотивирована и теоретической предпосылкой – затуханием-протуханием эры либертарианства. Ржав этот инструментарий западного доминирования – далеко не универсальная идея, признанная всеми государствами. «Мировой порядок на основе правил» (или бизнес-договорняк с всесильным рефери типа Трампа) действует преимущественно в своих интересах, игнорируя потребности и требования других стран. В этом аспекте приукраинский кризис обнажил глубокие противоречия, заложенные в самой архитектуре пост-Холодной войны. Украина стала ареной столкновения сих противоречий, где западные и восточные идеи мира столкнулись с реальной политической и экономической действительностью преобразующегося мироустройства.
Очевидно, что с концом этого кризиса грядёт пост-глобализм. В отличие от классического глобализма, как создания связанного мира через открытые рынки и международные институции, пост-глобализм подразумевает более закрытые, региональные или даже изолированные структуры. В этом контексте уровень СВО – конфликт ценностный – цивилизационных моделей: Богова и антиХристова миропроекции.
Как пишет философ Александр Дугин в «Четвертой политической теории» (2009), пост-глобализм представляет собой отказ от идеологии универсализма, присущего либеральной мысли. По его концепту, «великая евразийская цивилизация» олицетворяет собой именно этот антиглобалистский тренд, который противопоставляется западному миропорядку. Война на Украине потому есть попытка России освободить свою сферу влияния от западных институтов и норм, восстанавливая свои национальные и цивилизационные идентификационные границы.
Кризис на Украине привёл к новому геополитическому расколу, отличному от традиционного – Запад против Востока. Формируются цивилизационные блоки – вне жёсткого идеологического стержня, но действующие на основе принципа суверенитета и защиты интересов соратников по коалиции интересов (венгр Орбан и американец Трамп). Россия становится в новом раскладе сил центральным, стержневым элементом евразийского блока. Ибо конфликт на Украине срезонировал заметным укреплением российской идентичности и суверенитета как цивилизации, противопоставляющей себя западному проигравшему либерализму. По словам Путина, Россия «не может» быть частью западной системы, так как ее цивилизационные корни уходят в иные традиции и представления о мире. Его обращения к «особому пути» России и концепция Русского мира становятся центральными в российской внешней политике.
Примечательно, что в 2022 году Путин заявлял: «Мы никогда не будем такими, как Запад, потому что мы – цивилизация, которая имеет свою собственную душу» («Russia Beyond the Headlines», 2022). Эта идея выдвигает на первый план концепцию суверенного развития, не связанного с западными экономическими или политическими институциями.
А какой кажется Китаю «новая многополярность»? Кризис на Украине был воспринят в КНР как пример расхождения западной лицемерной риторики о международных правах и свободах с грубой силовой практикой при реализации своих интересов. Китай считает, что важнейшей целью глобальной политики является многополярность – мир, в котором есть место для различных моделей развития и цивилизаций, и где каждая страна может следовать своим интересам, не подвергаясь внешнему давлению.
Китайская внешняя политика, акцентирующая внимание на «мирном восхождении» и новом шёлковом пути, символизирует собой альтернативу западной системе, ориентированной на «правила» и «стихию рынка». Концепция Си Цзиньпина о «пост-американском мире», как прогнозирует эксперт по международным отношениям Грэм Эллиот, основана на идее глобального порядка, где существует баланс сил, но в котором Запад больше не является главным игроком.
В условиях глобализированного мира меняется сама концепция суверенитета и границ. Это видно на примерах конфликта Россия-Украина и междоусобиц в странах Глобального Юга. С окончанием Холодной войны суверенитет, как основа международных отношений, привязывался к обязательствам перед международным правом. Это сочетание на практике привело к появлению множества гибридных ситуаций, где международные нормы и права сталкивались с реальной политикой. Постглобалистские подходы к суверенитету предполагают «право вмешательства» в случае геноцида и массовых репрессий (инсинуация массовой резни в Буче). Однако практика вмешательства в дела суверенных государств, как в случае с Косово, Ираком и Ливией, часто ставит под сомнение такие интервенции, особенно когда они имеют явно политический или экономический мотив. В контексте Украины концепция суверенитета и неприкосновенности границ теряет свою классическую установку. Ибо Россия уверена, что её действия на Украине оправданы желанием защитить русскоязычные регионы и предотвратить угрозу, исходящую от расширяющегося НАТО. Это пример нового геополитического суверенизма (обретение буферной зоны между «ордой» и НАТО), оправдывающий вмешательство в дела сопредельных стран.
Суверенитет связан с правом на самозащиту. Доктрина «ответных мер» или «защиты национальных интересов» (у США они по всему миру) становится одним из оправданий для нарушения территориальной целостности. Как пишет Сергей Караганов, «мир пост-Холодной войны дал возможность США и НАТО использовать своё право на вмешательство, однако когда это касается России, Запад трактует все действия как агрессию». Международное право ломается двойными стандартами в законоприменительной практике. Ножницы интерпретаций между конфликтами Украина – РФ и вторжением США в Ирак. «Закон что дышло: как повернёшь – так и вышло». Всё зависит от трактовки принципов международной безопасности. Ведущий философ международного права Ричард Фолкс в «Human Rights and World Politics» (2009) пишет, что «в западной дипломатии всегда было два стандарта – один для западных стран, другой для всего остального мира». Он утверждает, что такие различия подрывают основы справедливости в международных отношениях и затрудняют поиск универсальных решений для мирного разрешения конфликтов.
С точки зрения морали и этики, где проходит граница между правом на самоопределение и правом на интервенцию? А, может быть, мораль и международное право – вообще несовместимы? Ведь справедливость в международных отношениях всегда была относительной. По Джону Ролсу («Теория справедливости», 1971), принципы справедливости должны быть универсальными и не зависеть от политической конъюнктуры. Однако практика международных отношений показывает, что применение этих принципов является крайне вариативным.
Мораль, таким образом, становится оружием, используемым для оправдания собственных интересов и действий на мировой арене. Однако этот процесс ведет к укреплению цифровых барьеров, информационных войн и цифрового суверенитета, где каждый акт интервенции в дела другого государства рассматривается с точки зрения собственных политических и экономических интересов, а не с позиции универсальных моральных норм.
В условиях приукраинского кризиса мировой порядок многополярниет, и роль региональных альянсов и блоков значительно возрастает благодаря таким глобальным игрокам, как BRICS и ШОС. Как говорит китайский эксперт по международным отношениям Чжэн Юн, «мы не можем позволить западной системе доминировать на всех фронтах; нужно учитывать интересы всех стран, особенно тех, которые не входят в западные альянсы» («China and the World», 2022). Китайцы лишь недавно ступили на открыто внезападную стезю (примат ЕС-интересов по сравнению с предыдущей US-симпатией). Так тихой сапой восстанавливается мировой порядок, который, хотелось бы верить, будет более справедливым, децентрализованным, многополярным.
Другая внезападная организация ШОС – отражает растущую значимость Евразии как нового центра силы в глобальной политике. В рамках ШОС Китай и Россия формируют тесные экономические и военные связи, укрепляя взаимные интересы в сфере безопасности и политической стабилизации региона. В условиях украинского кризиса ШОС значительно усиливает свою позицию как альтернативу западному мировому порядку.
Страны-участники ШОС, такие как Индия, Казахстан, Узбекистан и другие, активно работают над углублением региональных связей, ориентируясь на принципы экономической взаимозависимости и долгосрочной стабильности. Эти страны, несмотря на свою политическую и культурную разницу, объединены общей идеей суверенитета и противостояния внешнему вмешательству.
Особенно важной становится китайская инициатива «Один пояс, один путь», которая направлена на создание глобальной инфраструктуры и формирование экономических коридоров, связывающих Китай с Европой и Африкой. Через эту инициативу Китай стремится укрепить свою роль как ведущего игрока в международных отношениях, что имеет важное значение для формирования новой многополярной системы.
Одним из важнейших аспектов, который оказывает глубокое влияние на мировой порядок после украинского кризиса, являются технологии и их роль в международных отношениях. Глобальная экономика и политические системы становятся все более зависимыми от технологий, особенно в контексте новых вызовов, таких как киберугрозы, информационные войны и искусственный интеллект.
В условиях кризиса, когда традиционные методы ведения войны становятся недостаточными, киберпространство особенно значимо. Усиливается влияние киберугроз на экономику и безопасность стран. Кибератаки на инфраструктуру, на системы связи и энергоснабжения подчеркивают важность новой безопасности, которая должна учитывать угрозы, исходящие не только от физических сил, но и от цифровых технологий противоборства.
Как подчеркивает эксперт по кибербезопасности Кеннет Лик в своём исследовании «The Cybersecurity Threat Landscape» (2023), киберугрозы становятся одной из важнейших составляющих стратегии национальной безопасности, а также предметом геополитических интересов. «Война в киберпространстве – это не просто борьба за контроль над данными, но и способ формировать политическое и экономическое влияние на глобальной арене».
В условиях международной напряжённости страны все чаще используют цифровую дипломатию и киберсанкции, чтобы влиять на противников без применения (или вдобавок применению) прямой военной силы. Примером тому служат карательные санкционнные меры, предпринятые ЕС и США в отношении России в связи с проведением СВО.
Каким же будет миропорядок после украинского кризиса? Будет ли это мир, основанный на многополярности, где несколько великих держав разделят сферы влияния? Или же мир снова окажется в состоянии Холодной войны (антикоммунистический этап сменится на постукраинский), в котором глобальные альянсы будут противостоять друг другу, исходя из идеологических и стратегических различий?
Многополярность неизбежна. Диктата обанкротившегося монополиста прав и свобод чурается весь остальной мир. Большинство стран стремится к автономии и независимости в принятии решений, что приводит к усилению региональных и альянсовых блоков vs англосаксонскому пятивековому доминированию. Многополярный мир – это не только конкуренция лидеров, но и экономико-политических ресурсов. Есть, конечно, риск, что в глобализационной взаимозависимости государств многополярность станет полифонией голосов, но не реально действенной системой стабильности. Таким образом, украинский кризис стал важным моментом в переосмыслении глобального порядка, который всё больше становится многополярным, разнообразным и динамичным. Технологические изменения, новые альянсы и изменения в концепции суверенитета создают новые вызовы, которые будут формировать будущее мировой политики на протяжении ближайших десятилетий.
Помимо экономических, политических и технологических факторов, не менее важным элементом, который будет формировать будущий миропорядок, являются культурные и идеологические аспекты. Это особенно актуально в свете украинского кризиса, где сталкиваются не только политические и экономические интересы, но и глубокие культурные и цивилизационные различия, которые оказывают влияние на восприятие конфликтов и дипломатических решений.
Теория «конфликта цивилизаций» получила новое дыхание в условиях глобальной политической напряженности. Автор этой концепции Хантингтон утверждал, что основные конфликты будущего будут происходить не на основе идеологических или экономических разногласий, а вдоль культурных и цивилизационных линий.
Кризис в Украине ярко демонстрирует идею, что мир не только политически, но и культурно разделён. Украина, находясь на стыке западной и восточной культур, оказалась в центре борьбы (пусть корявой) за свою идентичность. С одной стороны, это страна, стремящаяся интегрироваться в европейские структуры («кружевные трусики ЕС») и вобравшая в себя некоторые черты европейской культуры. С другой стороны, её глубокие связи с Россией и русскоязычным миром (особенно на востоке страны) также представляют собой важный культурный фактор, что делает её политическое будущее крайне сложным.
Сложность заключается в том, что даже при том, что Украина стремится стать частью европейской цивилизации (ну возьмите меня хотя бы в ЕС!), значительная часть её населения и политической элиты ориентирована на Русский мир. Для России украинский кризис стал не только геополитической, но и культурной войной. Россия бьётся на Украине за достойное житие (властями отобрано даже самовыражение на родном русском языке!) русскоязычных граждан и сохранение культурной идентичности. Тогда как Запад свои экспансионистские намерения выдаёт за якобы защиту европейских ценностей – под фиговым листом причитания – «демократии, прав человека» и т.п. масонского набора «свободы-равенства-братства»…
Мировой порядок будущего связан также с восприятием «западных ценностей». Преодолеют ли они свой деградационный трек-крен? Западная модель в современном декадентском обезображивании классически ценностного мира сама вызовообразующа и не только для «авторитарных режимов, таких как Россия и Китай». Однако, как подтверждает практика, собственный путь национального развития отдельно взятых стран, основанный на государственном контроле и сильной центральной власти, является более эффективным и народолюбимым в условиях глобальных системных вызовов.
«Либерасты» сталкиваются с растущими вызовами со стороны «внеимпериалистических», антиглобалистских движений и традиционалистских верований. В ответ на глобальные угрозы от потрёпанного американоцентризма, усиливается многополярность, при которой ни одна идеология не доминирует, а различные цивилизации могут развиваться по своим собственным моделям, транслируя в мир цивилизационную привлекательность своей особости и находя созвучное у других народов.
Украинский кризис ускорил экономическую глобализацию. Распад глобальных торговых цепочек, ответные санкции и экономические блокировки, введённые против России, усилили тенденцию к экономической дезинтеграции. Страны начали искать альтернативные источники энергии, а международные компании пересматривают свои цепочки поставок и глобальные стратегии. Вместо свободного движения капитала и товаров мы видим рост экономических барьеров и усиление экономических национализмов. Глобализация регионализируется – теплится отдельными торговыми соглашениями. Но тенденция антиглобалистская – более справедливые и стабильные экономические отношения побеждают миропорядок «либеральной сволочи» (словечко Достоевского) и их эгоцентричной свободы – от Бога, Креста и совести.
Грядёт многоцветная и многогранно-человеческая симфония народов. Будущее мировой политики и экономики зависит от того, как страны будут адаптироваться к этим новым условиям. Сколь прочным будет многополярный мир, где нет одного доминирующего центра, а существует несколько устойчивых и конкурентоспособных региональных и глобальных акторов? Или мы увидим всплеск холодной войны, в которой идеологические и культурные разделения будут определять исход мировых конфликтов? Неопределённость будущего мироустройства – это, возможно, главное наследие отлагаемого украинского синдрома беды, который стал не только точкой столкновения политических интересов, но и символом глубоких изменений, которые ждут мир в ближайшие десятилетия.
Евгений Александрович Вертлиб / Dr. Eugene A. Vertlieb, писатель, журналист, академик РАЕН, Париж












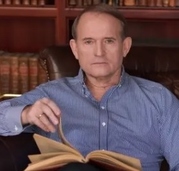


_2.jpg)















1.
У постглобализма , как и у дугинской политической теории , уже нет времени . Конец близок - это видно по нашей Родине. ВРЕМЕНИ НЕТ. А мечтатели "живут" теориями, и думают, что живут. Мало того - орут все громче! Например, ноосферники. Или кинжально- орешниковые).
Смешные .