
«О Наполеоне любимом с детства…»
Пишущие о Марине Цветаевой как-то старательно обходят вопрос о её образовании. Упоминается, что сменяла гимназии, что выдаётся не за её неуживчивость, вздорность и обыкновенную юношескую строптивость, а чуть ли не за признак свободы и масштаба личности. Сама она объясняла это тем, что «там» ей делать было нечего. Надо полагать потому, что была «выше» всего этого. Ну, а образование какое получила? Её знакомые поэты учились в университетах, заканчивали их, получали системное образование, прежде чем определиться в своих пристрастиях и заявить о себе. Нам скажут, что для поэта это необязательно, что он силой своего таланта постигает то, что не даёт никакое образование. Конечно, так, и всё же, всё же. Известно, что и выдающиеся писатели, бывало, не имели первоначального системного образования. Но зато потом, самообразованием они постигали все им необходимое. К примеру, как ни относись к М. Горькому за его революционную приверженность, но нельзя не поразиться обширностью его познаний, масштабом литературной работы.
Этого не видно в жизни Марины Цветаевой. С самого детства случайная начитанность. Да и потом, позже – какая-то поразительная скудость и избирательность знакомства с литературой для писателя несвойственная. Понятно, что так складывалась её жизнь, что она постоянно, почти всегда находилась вне литературной среды, вне культурной атмосферы, о чём горько жаловалась в письмах. Но, кажется, в этом особой потребности у неё и не было. Сообщает в письме, что живёт всегда «без книг»… Такое её положение, безусловно, стало одной из причин того, что на первый план у неё стало выходить личное восприятие тех или иных фактов и исторических личностей, без достаточной осведомлённости о них. То есть, все стала подгонять «под себя» под свой уровень, что было замечено читателями, её современниками изначально. А потому, чаще приходится говорить не о её личном понимании того или иного явления, но о причинах её непонимания их…
Может показаться каким-то странным и случайным это увлечение юной Марины Цветаевой, да и позже, Наполеоном и его сыном, наследником престола Наполеоном Франсуа-Шарль-Жозеф Боннопартом. Внешне всё действительно было случайным. Роясь в исторических трудах, она открыла для себя личность, которая показалась ей достойной беспредельного обожания и подражания. Это был Наполеон.
Примечательно то, что в этой её любви к Наполеону отмечают, как правило, степень увлечения её самоотверженного и самозабвенного, и – в качестве одобрения и похвалы, обходя сущностный и этический смысл. Сестра Анастасия Ивановна писала в «Воспоминаниях» о том, как Марина была увлечена Наполеонами: «Любимейший из героев, Наполеон II воплощался силой любви и таланта, труда и восхищённого сердца, – в тетрадь… был её кумиром. Она выписывала из Парижа, через магазин Готье на Кузнецком, всё, что можно было достать по биографии Наполеона, – тома, тома, тома. Стены её комнатки были увешаны его портретами… Любовь к ним была раной из которой сочилась кровь… Поглощённость Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не жила своей жизнью».
Наконец, в киоте вместо икон поставила портрет своего кумира – неудачного завоевателя России: «Вплоть до киота, в котором Богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву» (М. Цветаева. «Живое о живом»). Пожалуй, только иностранный автор увидел в этом не только самозабвенное, фанатическое увлечение, но и кощунство: «Для Марины не имело значения то, что когда-то он пошёл войной на Россию и именно из-за него пали на полях сражений многие тысячи её соотечественников, для неё это был сверхчеловек, заслуживающий того, чтобы все народы мира опустились пред ним на колени…Марина дошла до того, что заменила в красном углу, предназначенное для святых образов, древнюю почитаемую в доме икону изображением – о какое кощунство! – великого завоевателя – корсиканца. Обнаружив это святотатство, отец возмутился и разгневался. Но она стояла на своём и продемонстрировала явное пренебрежение отцовским негодованием с таким неистовством, какого даже от неё никто не мог ожидать: она схватила тяжёлый подсвечник и стала размахивать им как оружием. Для неё Наполеон стоил всех святых православного мартиролога» (Анри Труайя). Увидеть в такой влюблённости юного дарования лишь увлечение, достойное похвалы и восхищения, значит потакать не только русофобским, но и вообще человеконенавистническим идеям и представлениям. Откуда проистекают такие настроения – отдельная и сложная тема, но называется такое «увлечение» именно так.
Цветаева перевела «Орлёнка» Эдмона Ростана. Но узнав о том, что перевод уже сделан Т.Л. Щепкиной-Куперник, она свою рукопись уничтожила. А когда ей не было ещё и семнадцати, настояла и уехала во Францию для изучения французской средневековой литературы. Эта странная любовь не оставляла её и позже. Она писала А.А. Тесковой: «С 11 лет я люблю Наполеона, в нём (и его сыне) всё моё детство, и отрочество, и юность – и так шло и жило во мне, не ослабевая, и с этим умру. Не могу равнодушно видеть его имени».
Вот символ и образ, сопровождавший Цветаеву всю жизнь: Наполеон на фоне горящей Москвы. Не Наполеон, так что-то иное – революционеры, - но символ оставался прежним – горящий Кремль… Не знаю, приходила ли ей мысль о том, что если сгорит Кремль, Россия, то сгорит и она? Спрашивал ли её кто об этом?.. Впрочем, в той среде, в которой она жила, такие вопросы не задавались, не могли задаваться по определению, по причине преобладающей системы ценностей. Но в этом символическом, пока ещё ненастоящем огне уже угадывались грядущие трагедии. Уже отсвечивалась её дальнейшая судьба и участь…
Ясно почему ею так владел её кумир. Не в нём собственно было дело. «Идеал» Наполеона в русском интеллигентском сознании – это проявление идеала революции. И Франция в таком типе сознания была проявлением идеала революции. Образ Наполеона не имел тут литературного влияния и происхождения: «Но всякий русский во французской революции свою любовь найдёт, вся Наполениада» (М. Цветаева). Потом она напишет в стихах: «Я ли красному как жар киоту/ Не молилась до седьмого поту?». «Есть у меня моих Икон/ Ценней – сокровища».
Дело даже не в исторической точности, а в характере того «бонапартизма», который она исповедовала с детства, если он обернулся на российской почве «молодым диктатором» Керенским. Прямо-таки – «жених», «жаркий вихрь», «вселенский лоб»: «И кто-то, упав на парту,/ Не спит во сне./ Повеяло Бонапартом/ В моей стране». Что же она любила в Наполеоне, если такой никчёмный персонаж истории, фигляр стал в её представлении преемником грандиозной личности?..
Если Наполеон в воззрениях М. Цветаевой не имел литературного происхождения, то остаётся происхождение историческое. А оно, пожалуй, с наибольшей исторической точностью и поэтической силой, выражено в стихотворении Ф. Тютчева «Наполеон»:
Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе.
Не одолел её твой гений самовластный!..
…Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему…
Надо полагать это бессознательно привлекало и пленяло юную М. Цветаеву. Это вызвало столь страстную её любовь к нему с детства и на всю жизнь…
Наполеон в воззрениях М. Цветаевой – это уже не только собственно историческая личность, но – знак, говорящий о типе мышления человека, о его мировоззрении, исповедуемых им ценностях, о способе его самоутверждения. Это – не идеал, а – «авторитет», «по примеру которого» предпринимается попытка самоутверждения. Ведь Раскольников в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского совершает преступление, убийство старухи вовсе не ради денег, не из-за грошей, а потому, что хотел быть как Наполеон, стать Наполеоном: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил», – говорит он. Действия же Наполеона и Раскольникова суть одно и то же, отличающееся лишь масштабами: «Разгром Тулона и залезание под кровать к старушонке за красною укладкою – одно и то же» (Д. Мережковский). И тут перед человеком обнажается рубеж, за которым якобы обретается своё «я» и «свобода»: «тварь я дрожащая» или тоже «право имею». Переступает этот рубеж, поступает «по примеру авторитета», то есть совершает преступление, значит тоже «право имеет» и обретает своё «я» и «свободу». Не переступает – остаётся «тварью дрожащей». Отсюда – быть не как все. Для этого надо быть не как все. Отсюда и цветаевский бунт «противу всех». Так все казалось просто и логично. На деле же этот способ обретения своего «я» и «свободы» обманчив, оказывается таковым, что «человек о человеческом говорит как не человек, а существо из другого мира» (Д. Мережковский). Это уже – не возвращение к природе, а окончательный разрыв и с ней, и с духовной сущностью человека, с его выделенностью из природы. Это – гибель, так как человек порывает и с природой, землей, и с небом, нигде не оказываясь… Поэтому М. Цветаевой Ф. Достоевский и «не понадобился». Она оказалась всего лишь его персонажем, свидетельствующем о природе преступления, о его анатомии. Она олицетворяет преступление. При этом, как и Раскольников – желая людям добра: «Я хотел добра людям». В таком же положении постичь и осознать гибельность этого пути невозможно. Для этого надо быть «над», а не «внутри» действа, с высоты которого постигается, что революция, преступление – это не нравственный переворот, не свобода, а обретение иной, ещё большей несвободы…
Для кого Наполеон – эталон, кто хочет поступать «по его авторитету», тот совершает преступление, надеясь обрести своё «я» и «свободу». Но на таком революционном, преступном пути ни «я», ни «свобода» не обретаются… А потому «Наполеон интересен только дурным людям (базар, толпа)» (В. Розанов). Вот собственно трагедия М. Цветаевой, раскрывающаяся через её беспредельную любовь к Наполеону.
Да и потом, такое самозабвенное преклонение пред Наполеоном, в российском обществе не ново. Но не в действительно просвещённом обществе, а среди «обезьян просвещения», о чём писал А.С. Пушкин в «Рославлеве»: «Подражание французскому тону времён Людовика ХV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. … Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко».
Оставалось оно таким во все времена. Остаётся таковым и теперь.
Удивительно, что юная Марина Цветаева в русской драматической истории, переполненной поистине замечательными личностями, не находила и не нашла себе кумира. Не нашла, впрочем, и в зрелом возрасте, не нашла совсем. Ну хотя бы таких как царевич Дмитрий, зарезанный 15 мая 1591 года в Угличе. Или молодой царь, вызывавший восхищение окружающих, Фёдор Борисович Годунов, зверски убитый по приказу Лжедмитрия. Вопрос о русской истории в этой среде, в этом типе сознания не стоял вообще, словно её и не было совсем… И это не было только её личным восприятием, но – той среды, в которой она жила. В её же мире оно приобретало и вовсе какие-то гипертрофированные формы.
Правда, Цветаева обращалась к этому периоду средневековой смуты, к годуновскому времени. Комната историка Д.И. Иловайского, как помним, – с годуновскими сводами: «Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить». Но находит там, в этой эпохе совсем другие идеалы – Лжедмитрия: «Всех мощей преценнее мне – пепел Гришки!», Куда уж более определённый выбор и «кумиров», и веры, и ценностей. Обращается к его облику не раз. И особенно в стихотворении «Марина», – упрекает Марину Мнишек за то, что не стала Лжедмитрию «голубкой орлиной», «не покрыла телом его труп», «не отёрла пота его». Словом, «надменная дочь», ненастоящая, Лжемарина. А настоящей Мариной «голубкой орлиной» Лжедмитрию является она.
Правда, «голубя углицкого», царевича Дмитрия она вспоминает в стихах. Но уже тогда, когда пришлось обращаться к «церковной России» помолиться уже за другого, очередного царевича, отдаваемого на заклание, «за царевича младого Алексия», «царскосельского ягнёнка»…
Но почему всё-таки полуподвальная комната историка с «годуновскими» сводами? Здесь – прямо-таки политическая расстановка сил. Здесь уже отступает на задний план и история, и эстетика. Историк Д.И. Иловайский таким образом выставляется противником Лжедмитрию, а значит и её, Марины, неслучайно же её назвали в честь Марины Мнишек: «Есть у меня на память о нём, (об историке Иловайском – П.Т.), с собой его книга о моей соимениннице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать» (М. Цветаева). Так дедушка Иловайский оказывается уже не одного роду-племени со своей сводной внучкой. Да что там, они оказываются в разных не только идеологических, но политических и военных лагерях. И это подчёркивается образом самозванца Лжедмитрия (Гришки Отрёпьева):
Кремль! Черна чернотой твоей!
Но не скрою, что всех мощей
Преценнее мне – пепел Гришки!
Как же внучке могла нравиться дедушкина газета «Кремль», если само слово это для неё – источник «черноты» и тьмы?.. Эту явную антирусскую направленность уже невозможно назвать только социальным протестом, как это часто бывает. И уж точно нельзя назвать личным видением и переосмысливание истории.
О «чёрной» площади Кремля с Иваном Великим, который «как виселица прям и дик», писал, кстати, и Осип Мандельштам. Так что это у Цветаевой тоже не личное поэтическое видение, а определённое умонастроение, распространённое в кругах «прогрессивной» либеральной общественности. С явным уже не антиправительственным, антиофициальным, а – русофобским подтекстом. Было такое странное легкомысленное и безответственное поветрие в умах и душах определённой части «передовых» людей российского образованного общества.
Поразительно то, что Марина Цветаева сообщает в своём очерке «Дом у старого Пимена» о том, что мать её назвала в честь авантюристки Марины Мнишек, незавидная участь которой хорошо известна. Более того, уподобляет себя ей в стихотворении «Марина». Даже противопоставляет себя ей, как более «настоящую» Марину. С каким чувством можно уподобить себя такому персонажу истории? С чувством гордости? Не знаю. Но само это уподобление – довольно странно в русской жизни, истории и литературе. Интересно, какой реакции на такое признание она ждала от читателей? Впрочем, это, видимо, для неё было не важно, так как в её творческом методе важен сам процесс творчества, который превыше всего. Но она даже, кажется, гордится тем, что названа в честь Марины Мнишек. И поскольку трудно представить, чтобы этот исторический персонаж вызывал симпатию и тем более восхищение, остаётся одно: всё антироссийское и антирусское в её представлении имело положительное значение, так как служило целям более важным, чем Россия…
Марина Цветаева много размышляла о соотношении исторического и поэтического, о поэтическом переосмысливании истории. Она соотносит «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачева» А.С. Пушкина, резонно удивляясь тому, что повесть написана два года спустя после истории. Значит «последнее слово о Пугачёве в нас всегда за поэтом». Вопрос: «Какой же Пугачев настоящий?» - просто неуместен, так как поэтическое и историческое не находятся в альтернативном положении. И тому и тому есть место в нашем сознании. Поэтическое осмысление – это вовсе не произвол, где можно «самого малодушного из героев сделать образцом великодушия». Нет, не можно! Пушкин изобразил народного героя таким, каким он был, каким был и остался в народном сознании.
А вот характеристика Пугачева, данная самой Мариной Цветаевой, поразительна: «Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни – по свидетельству всего народа – глядя на соборы, часто крестился. Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру». Точнее было бы сказать, что он был не раскольником, а старовером. Раскольниками были как раз те, кто обвинял их в расколе. Староверы – это те, кто устоял в правой вере. И в церковь ходили, свою старообрядческую, и веру хранили. Здесь Цветаева спутала «раскольников», как их называли, с еретиками или сектантами, которые в церковь не ходили. Да и понятно, ведь столько времени, два с половиной века, официальная синодальная Церковь учила христиан как состязаться с раскольниками, то есть правоверными христианами. А это ведь – главное для понимания облика Пугачёва. Пугачёв был правоверным христианином, а потому, крестясь, никому «отдавать» свою старую веру не мог. Наоборот, его крестное знамение перед казнью, перед смертью, свидетельствует о крепости его веры.
Особенно несправедлива Марина Цветаева к Екатерине Великой: «Основная черта Екатерины – удивительная пресность», словом – «белорыбица». В самом деле, никаких бунтов не устраивала, а наоборот, подавляла их. Какая «пресность»: «Ни одного большого ни одного своего слова после неё не осталось». Что касается слова, то императрица его как раз оставила. Не говоря уже о её делах.19 апреля 1783 года Екатерина II провозгласила манифест о бескровном присоединении Крыма (Тавриды) и Кубанской области к России. Прекратила на Чёрном море пиратство и работорговлю, сделала безопасным море для всей Европы. Вклад же её в историю – и организаторский, и личный поистине бесценен.
Со второй половины XVIII века в России неоднократно предпринимались попытки возрождения распространённой формы организации исторических исследований. В 1768 году звание историографа получил князь М.М. Щербатов с разрешением пользоваться историческими документами. Его исторические труды были изданы в 1770-1792 годы: «Почти одновременно во Франции вышли труды Левека и Леклерка по русской истории, содержащие резкую критику российского самодержавия и крепостничества. Недовольная трудом Щербатова, разгневанная сочинениями Левека и Леклерка, Екатерина II по существу, сделала себя анонимным историографом. В течение 1782-1794 гг. она издала шесть частей своих «Записок касательно российской истории», привлекши к их подготовке широкий круг лиц». (В.П. Козлов. «Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве» М., «Наука», 1988).
Обратим внимание на то, что издавала она свою историю России анонимно, то есть, более заинтересованная делом, а не тем, как будет выглядеть в глазах подданных. Это говорит об этической высоте «белорыбицы». Екатерина II, по сути, возродила историческую науку в России. Собрала талантливых историков, предоставив им широкие полномочия обращения в архивы и монастыри. Было отыскано «Слово о полку Игореве», изданное впервые в 1800 году. И не только «Слово».
Всё это говорит о том, что характеристику Екатерины II и её эпохи Мариной Цветаевой никак нельзя назвать «переосмыслением» истории. Скорее всего – это обыкновенная неосведомлённость. Или же – преднамеренное искажение облика императрицы в согласии со своими «убеждениями». Между тем, широта интересов и глубина мышления Екатерины II были поразительными. Она с большим интересом отнеслась к находке «Слова о полку Игореве». До публикации древнерусской поэмы, для неё была снята копия в начале 1790-х годов, получившая в науке название Екатерининской. Этот список, сделанный для царицы, и до сих пор остаётся важным источником изучения «Слова».
Интересуется царица найденным верными черноморцами на берегах Кубани, Тмутараканским камнем до такой степени, что недоброжелатели стали упрекать её в том, что она сама этот камень выдумала для политических целей на юге России. Такой вот была «белорыбица», которой было дело и до российской истории, и до Крыма, и до «Слова о полку Игореве», и до какого-то там камня, который ещё неизвестно что и значит. Впрочем, уже в 1794 году А.И. Мусин-Пушкин выпускает отдельной книжкой исследование о Тмутараканском камне. Кажется, менее чем через два года после его находки.
С такой страстной любовью Марины Цветаевой к Франции и Наполеону при всей её странности, можно было бы и смириться, если бы наряду с этим столь явно не искажалась история России. Но совместить это для неё, видимо, было невозможным. Из тех немногих обращений к русской истории, которые есть в наследии Цветаевой, нет, пожалуй, ни одного, который не был бы искажён, причём, грубо и с каким-то даже вызовом. Или же – тенденциозно понят, и обязательно – с антироссийской направленностью. Словно это пишет не русский поэт, а «иностранец».
Говорить о переосмыслении и понимании Мариной Цветаевой А.С. Пушкина – «Мой Пушкин» – серьёзно, с точки зрения филологической и литературной не приходится. Слишком уж явна и в статьях, и в стихах идеологическая тенденциозность. Объяснение этого носило довольно велеречивый характер: «В отношении Цветаевой к Пушкину не было ничего от молитвенно-преклонённого почитания. Цветаева ощущает его не наставником, а соратником… Она твёрдой рукой стирала с него хрестоматийный глянец» (Вл. Орлов. В кн. Марина Цветаева, «Мой Пушкин», М., «Советский писатель», 1981). Так Цветаева «делает Пушкина орудием своей борьбы за обновление поэзии».
Пушкина надо постигать и объяснять. Обнажать его глубины. Делать его бунтарём и революционером – «Бич жандармов, бог студентов» - значит искажать его. «Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам – как бы они ни назывались и ни одевались», – писала она. Но это дело уже её, а не Пушкина. Снизвергать Пушкина с его высоты в эмпирических или политических целях значит умалять и искажать его. Он наоборот – антимятежен. Чего только стоит «Капитанская дочка». К Пушкину надо подниматься, а не спускать его с высоты. Увидеть в нём лишь бунтаря и революционера – это неоправданно никаким «личным» восприятием, виденьем. Это – не виденье, а неведенье. Оно ничем не лучше «хрестоматийного глянца». Оба хуже. Это вовсе не защита Пушкина.
Уверен, что такое переосмысление Цветаевой А.С. Пушкина будет непременно оспорено. Даже знаю, как именно. Как обыкновенно бывает: «Это суждение, находится «вне пространства научного анализа». Это, мол, - критика, литература, а надо оценивать с точки зрения научной… То есть, как только речь заходит о сущностной и нравственной стороне дела, тут же его пытаются перевести в область «поэтики», внешних, а то и формальных представлений. Оспаривает же Маслова М.И. в своей диссертации «Мотив родства и его философско-эстетическое воплощение в творчестве Марины Цветаевой» (Курск, 1999 г.) примечательное и глубокое суждение И.Лиснянской о «конфликте» Цветаевой и Ахматовой: «Эта тема – конфликт крупных художников – представлена И.Лиснянской в психологическом ракурсе. Автор обнаруживает неожиданную пропорцию: Пушкин/Мицкевич= Ахматова/Цветаева». При этом Цветаева, стремящаяся, на наш взгляд, осознать себя на месте Пушкина, в данном случае занимает место Мицкевича». Ахматова же, по этой логике, «ставит себя на место Пушкина» (И.Лиснянская, «Шкатулка с тройным дном», Калининград, 1995 г.).
Почему же такое сближение – «неожиданно»? Наоборот, оно естественно, так как Цветаевой ближе русофобия Мицкевича, чем патриотизм Пушкина, что неоспоримо следует из её стихов. Может быть, она искренне и хотела осознать себя на месте Пушкина, но это ей явно не удалось. Поэтому для неё – прежде всего «мой», а потом уже Пушкин, поэтому она и снизвергает его с высоты «под себя». Надо быть очень уж предвзятым читателем, чтобы не заметить этого…
Тот факт, что Пушкина не понимают, свидетельствует о людях, а не о поэте: «Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятник, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, а не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна» (А. Блок, «О назначении поэта»).
Вся его наука –
Мощь. Светло – гляжу.
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.
Разве Пушкинскую руку можно только «жать» или «лизать»? Словно это происходит в каком-то присутственном месте и перед нами – высокопоставленный чиновник. Блок в своём последнем стихотворении «Пушкинскому Дому» совсем иначе общался с Пушкиным.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай мне руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Блок вопрошает Пушкина дать ему руку в непогоду для помощи в «немой» борьбе, то есть незримой борьбе, брани духовной. И преклоняется пред ним:
Вот зачем в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
У Цветаевой же нет «молитвенно-преклонённого почитания». Вот новость – не почитать гения от непонимания его. Чем же тут восхищаться? Что же тут облекать в псевдонаучную риторику?
Цветаева, в конце концов, оправдывает сбрасывание Пушкина с «корабля современности», объясняя это велеречивыми доводами. Маяковский, мол, восстал «не против Пушкина, а против памятника». Увы, против Пушкина, который всегда, как и теперь, сбрасывается, так как мешает беззаконию… Находясь, что называется, на короткой ноге с Пушкиным, она, кажется, не подозревала о том, сколько далека от него…
«Тайная свобода» Блока и «тайная тоска» Цветаевой не пересекаются, ибо находятся в разных сферах души и сознания. Видимо, действительно, для кого Наполеон любимый с детства и на всю жизнь, в том не может пробудиться любовь к Пушкину. Он разве и любит, то только себя в Пушкине.
Она полагала, и это следует из её высказываний, что поэтический дар такой универсальный, что может творить любой произвол. Поэт, обладает таким свойством, что любой факт может выставить в любом свете и будет прав по самому своему таланту, а точнее – по произволу. Но это – ничем не оправданная самонадеянность. Поэт постигает истинный смысл факта, исходя из духовной природы человека и его самосознания, но никак не из произвола…
(Продолжение следует)







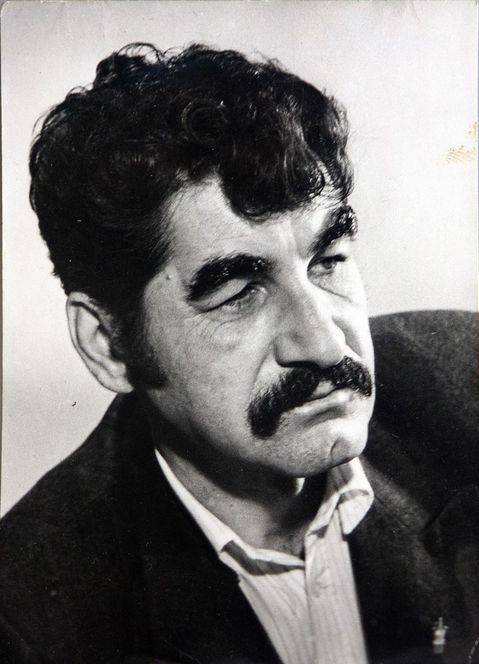











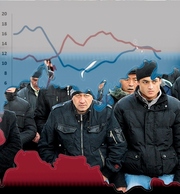




4. Человеку
3.
2.
1. Правдивые слова