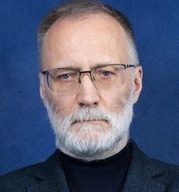5. ВЕРНОСТЬ ИДЕЯМ - КОНЕЧНО, ТЕМ, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ СТРОЙ И ЛИЧНУЮ РОЛЬ
С марксистской или с любой коммунистической точки зрения можно убедительно доказать, что ни один коммунистический вождь не был коммунистом. Не был им Ленин, а Маркс и Энгельс - с натяжкой. Какое отношение к коммунистическому интернационализму имеет отношение тот факт, что Ленин получал деньги от немецкого генерального штаба? И что он - так сказать, через день после захвата власти - заключил мир в Брест-Литовске с генералами Вильгельма? Энгельс - промышленник с аристократическими манерами; Маркс играл на бирже, а в очернении противников он - образец и предтеча сталинской школы.
О Сталине же достаточно будет лишь упомянуть, что он - по официальным данным - одних коммунистов истребил семьсот тысяч! Больше, чем все вместе взятые реакционеры с момента зарождения «научного социализма».
Между политической философией и ее осуществлением неизбежны расхождения - которые, по-видимому, тем глубже, чем более непримиримо политическая философия претендует на «научность»и непогрешимость.
Нечто схожее существовало в прединдустриальный период с религиями: князья церкви редко были примерами того, что проповедовали, а короли слишком часто укрепляли свои правоверные престолы опустошениями и резнёй. [1] Любое политическое учение - уже тем самым, что оно, в лучшем случае, только духовная, «логическая» редукция данных реальностей - может только лишь гомогенизировать сознание, служить моделью, ориентиром, мобилизовать определенные социальные группы. Живая жизнь слагается из разнообразных и непредсказуемых факторов. Поэтому и коммунистических вождей нельзя было бы обвинять в непоследовательности и непринципиальности больше, чем других - если бы эти вожди не были столь нетерпимы и не удушали бы насилием человеческую мысль и зарождение новых идей.
Если бы Тито подвергли анализу согласно коммунистической доктрине, то оказалось бы - скорее из-за его королевского образа жизни, чем из-за авторитарного образа правления, - что он один из наиболее непоследовательных, самых «некоммунистических» правителей. И несмотря на это - а на самом деле именно поэтому - он один из наиболее удачливых. Более того, хотя его имя будет упоминаться без сентиментальных вздохов даже многими коммунистами, оно также не будет вызывать и малой доли того ужаса и проклятий, как имя Сталина. Это моё убеждение - пусть обремененное моим прошлым и моим сотрудничеством с Тито - я основываю на анализе как коммунистических, так и других автократов.
...Не напрасно один из моих друзей остроумно заметил: коммунизм тем лучше, чем он хуже, чем он непоследовательней .
Однако из этого не следует выводить заключения, что Тито был иным - лучшим или худшим, чем другие коммунистические вожди, или что он был более лабильным, менее твердым в марксистско-ленинской идеологии. Он попросту хорошо ориентировался, если не сказать приспосабливался, к условиям. А условия менялись быстро и основательно, в особенности после ссоры с Советским Союзом в 1948 году...
Теперь уже известно, с какой жестокостью - с недостаточным индивидуальным разбором, или безо всякого разбора - расправлялись во время победы с контрреволюционными противниками . Известны разрушительные результаты начатой по идеологическим причинам «антисталинской» коллективизации - её проводили, чтобы доказать, что Сталин неправ, обвиняя югославскую компартию в проведении кулацкой политики.
Я уже не упоминаю насильственные и до сих пор ещё не изжитые «ждановские» методы в духовной области.
Согласно наклеиваемым официально и полуофициально ярлыкам, за эти методы ответственен лично я - даже через тридцать лет!
В той же степени, в какой мы после 1949 года ужасались сталинской клевете и нападкам, мы перед этим гордились похвалами Сталина. Когда крупный деятель польского Министерства иностранных дел - слишком молодой для такого поста, зато коммунист - летом 1946 года на автостраде Блед - Любляна рассказывал, как Сталин ругал польскую делегацию, (в которой был и он) за чрезмерную мягкость к политическим противникам и хвалил Тито («Тито молодец - он их всех ликвидировал!»), то я и товарищи из ЦК испытывали некое суровое и горделивое чувство. Все это я привожу ни в осуждение кому бы то ни было, ни в оправдание самому себе - я был когда как, в чём-то «хуже», в чем-то «лучше» других - а как исторический факт и урок на будущее. Политику невозможно ни понять, ни осуществлять вне полноты конкретных условий: те же самые люди в разных условиях и подверженные разным идеологическим воздействиям реагируют по-разному.
А то, что Тито - как и Сталин, и Мао Цзе дун - отходил от чистого коммунистического учения, скорее подтверждает, чем отрицает его твердую и неизменную приверженность марксизму и социализму, вернее - ленинскому варианту коммунизма.
Чем были для Тито идеология, марксизм-ленинизм? Что было для него существенным, неизменным и необходимым в идеологии? Уже из личного опыта и пропагандных писаний и высказываний о русской революции - сыгравших для него без сомнения решающую роль и бывших переломным пунктом в определении им своего политического пути - он должен был осознать, что революцию и новую власть невозможно осуществить и удержать без партии нового типа, партии, централизованной идеологически и организационно. После того, как он вернулся из русского плена, эта мысль подтвердилась на опыте, стала ясней и окрепла во время плутаний и неудач югославской партии. Тито по природе активист: фразерства, краснобайства, бесконечных заседаний он не выносил, они ему были чужды - конечно, кроме тех случаев, когда они были составной частью политической акции. Как партийный и профсоюзный активист, он замечал не только бесплодность, но и разрушительное действие фракций для партии, которая должна интегрировать сознание и борьбу класса и добиться своей, революционной диктатуры. До 1928 года он склонялся в партии к «левым». Но частично личный опыт, частично совместные обсуждения с молодыми практиками на низах партии, и уж во всяком случае меры, предпринятые Коминтерном против фракций («Открытое письмо членам коммунистической партии Югославии» в 1928 году) убедили его, что партия должна быть очищена от фракций и активно работать в массах. Это, кстати, вариант сталинского варианта партии ленинского типа: идеологическое единство партии - сталинское изобретение, которое со временем реализуется в монопольную власть партийного вождя над идеологией. Для Тито же идеологическое единство представляется уже данным, с беспрекословной преданностью ленинизму и советской партии - как образцу. Необходимо «только» очистить партию от фракций, самый же верный для этого метод - активность и монолитное руководство.
Представление о такой партии и о таком руководстве впоследствии приобретает вид неоспоримой, априорной истины. Пять лет, проведенных на каторге, мешают Тито организационно формировать и укреплять такую партию - кроме как в среде каторжников. Но зато, неожиданно, объявленная королем Александром 6 января 1929 года диктатура вызовет приток новых молодых кадров, неотягощенных фракционным прошлым - они примут ленинизм и ленинско-сталинский тип партии как готовую, проверенную и единственно возможную для революционной практики модель. Такую партийную атмосферу, партийную действительность застанет Тито при выходе из тюрьмы в 1934 году. А в Москве - террор «ради» идеологического единства и бесклассового общества. То, что было для югославов революционным идеалом, в Москве уже осуществилось в виде террора и привилегированного слоя. После того, как Тито примет из рук Коминтерна руководство КПЮ - в 1937 году, после ареста секретаря КПЮ Горкича и после пребывания в Москве - партия в стране уже «большевизирована», беспредельно предана Советскому Союзу и Сталину и находится под руководством «шестоянварских» бескомпромиссных активистских кадров. Когда в начале тридцатых годов в революционную борьбу и партию вступило мое поколение, то для него ленинизм, Коминтерн, Советский Союз, а в середине тридцатых годов и Сталин, и чистки, и показательные процессы - не ставились ни под малейшее сомнение. Правда, мы мало знали, больше верили. Но для активной деятельности это не имеет решающего значения, хотя и не является преимуществом.
Тито все это быстро схватывает и ориентируется на эти новые кадры - он и в этом один из немногих «стариков». Это та партия, которую он желал, за которую боролся и попал на каторгу - он добился, он заслужил руководства над нею. Руководства личного, диктаторского, которое в то время могла вручать и отнимать только Москва; он же мог лишь проиграть. Однако это было уже не в интересах Москвы, а он на опыте борьбы на родине и вероломства в Москве понял, что в каждой, а в особенности в коммунистической политике решающее значение имеет соотношение сил и интересов. Тот, за которым нет силы в его стране, не имеет возможности удержаться, в особенности в сфере действия советской идеологической тирании, вернее, ее тиранической власти.
Но не только по этой причине для Тито - идеология - марксизм-ленинизм, была и осталась до конца бесспорной, священной и неизменяемой. Для этой идеологии необходима не только такая, большевистская, коммунистическая партия, но необходим и вождь, или по крайней мере руководство, которое будет эту партию вести за собой и оберегать ее «идеологическую чистоту». Идеология и партия жизненно связаны и обуславливают одна другую таким образом, что первая не может и не смеет менять свои основы, а вторая должна беспрерывно находиться в состоянии борьбы за свою монопольную власть -до тех пор, пока не наступит то утопическое будущее, когда не станет ни классов, ни власти, ни политики.
Ясно, что подобная власть не может существовать без такой утопической идеологии. Тито это не только выучил и усвоил, но и впитал в себя всем своим сознанием - как условие и средство для своего личного возвышения и своей личной судьбы. Идеология, теория для Тито неотделимы от политики.
Правда, он не превращает идеологию в орудие власти - что характерно для советского руководства. Но он и не отделят власть от идеологии: идеология, «сознание», для Тито - лишь другая сторона власти.
Известная гибкость, «либеральность», которую он по временам допускал в теоретических диспутах, никогда не выходила за границу «конструктивной политики», не говоря уже о критике «диктатуры пролетариата» - партийной монополии власти. А поскольку ход борьбы, структура власти и взаимоотношения в партии гарантировали личную власть Тито - он рассматривал как угрозу для себя и своей роли любой намек на критику власти, на любую ревизию ленинских установок, касающихся этой власти. И реагировал соответствующим образом. Каждый раз, когда в период ссоры со Сталиным высказывались сомнения в социалистическом характере Советского Союза и предчувствовались аналогичные выводы в отношении Югославии, Тито не только протестовал, но и оскорблялся. Иногда мне казалось, что он выступает в роли первосвященника, гневающегося на ереси.
Основы идеологии - материализм, материалистическая диалектика, история, как классовая борьба, неизбежность социализма в мире, роль партии как авангарда при осуществлении бесклассового общества - все это должно было оставаться неизменным, так же как личный авторитет и положение Тито. Когда меня - в связи с разбирательством моего «дела» в январе 1954 года - вызвали на разговор с Тито, при котором присутствовали Ранкович и Кардель - то я, между прочим, сказал, что Энгельс ошибается, внося диалектику в природу. Тито с недоверием, и одновременно провоцируя, спросил: «Готов ли ты заявить это во всеуслышание?» Я ответил с пафосом: «С удовольствием, в любое время!» До этого, конечно, не дошло, потому что вскоре, на основании доклада Карделя, меня осудили за «ревизионизм»,а Тито мои взгляды оценил как появление в партии классового врага. Конфликт со Сталиным выявил возможность войн между коммунистическими странами - но не возможность изменения власти и идеологии в этих странах.
И вообще - возможно ли изменять, развивать марксизм-ленинизм, не подрывая основы вдохновленных им партии и власти?
Уже Бакунин, с интуицией анархического утописта заметил, что учение Маркса ведет к созданию чудовищной машины государственного угнетения. Оказалось, причём как раз на родине Бакунина, что эта машина, даже ещё более чудовищная, чем он себе представлял, осуществима. Не случайно, для Ленина в марксизме основное - учение о власти, о «диктатуре пролетариата». Верно ли это - не имеет большого значения, во всяком случае с политической точки зрения. Важно, что Ленин извлек из марксизма именно это, и осуществил в условиях России. Марксизм, который одновременно не был бы властью, духовной основой власти, существует сегодня только в западных университетах. В коммунистических странах марксизм существует лишь в его ленинском варианте - это кодекс поведения, наркотик страха, порабощающий сознание, непременная составная часть власти.
Титоизм, титовский марксизм по своей функции ничем не отличается от марксизма, или марксизмов в остальных коммунистических странах - он освящает и обосновывает власть. Его отличие лишь в его «югославстве», в упорствовании на государственной самостоятельности и на собственных моделях. Прагматический ленинизм Тито и карделевская мешанина из социал-демократического вербализма и ленинского партийного монополизма постепенно вводятся как югославский вариант марксистского авторитаризма: своя, независимая монопольная власть нуждается и в своей собственной непогрешимой идеологии.
Таким образом, основы идеологии, а с идеологией и власти, не только не ущербляются, но «развиваются» и «обогащаются». Ни по личным, ни по иным причинам Тито никогда не был против таких теоретических рассуждений, хотя принимал их апостериори, на основании опыта. После расхождения с Советским Союзом он быстро заметил, что диктаторская власть, особенно в небольшой малоразвитой стране, начинает стагнировать и/гнить, если перестает идеологически обслуживать свою базу.
Смелый и изобретательный в практических делах, при вынесении политических решений, Тито осторожен, сверхосторожен в принятии идей, не говоря уже об их «придумывании». Ни одна из больших идей югославского коммунизма не происходила первоначально от него.
Идея самоуправления в 1959 году родилась у меня, а разработали её Кидрич и Кардель. Сегодня сообразили, хотя я и не цепляюсь за эту славу, что самоуправление практиковалось уже во время революции! На самом же деле Тито вначале даже сопротивлялся идее самоуправления - пока до него не дошло в упрощенном, практическом виде: «Так ведь это то самое - фабрики рабочим!» Также и отход от партии большевистского, ленинского типа, что должно было выразиться в изменении названия партии («союз коммунистов» вместо прежней «коммунистической партии») и в относительно недогматических, неленинских решениях Шестого съезда в 1952 году, не произошел по инициативе Тито, хотя он с ним охотно согласился; несогласие выразил только один Ранкович. Но принятие десталинизации, деленинизации не помешало Тито - как раз в связи с моим «ревизионизмом» - возродить в партии «демократический централизм» и объявить меня нарушителем решений Шестого съезда. А во время повторного «либералистского» кризиса в 1972 году, он заявил, что он сам не согласен с решениями Шестого съезда. Последовательность на практике, практическая последовательность не свойственна Тито как раз потому, что он обладал качествами подлинного политика, принадлежавшего к ленинской идеологической партийной иерархии. Идея, вернее лозунг «Братство и единство!» все же в большой мере принадлежит Тито. Но и этот лозунг не оригинален - примерно такими лозунгами уже пользовались сторонники единой и неделимой Югославии при короле. И у Тито он - эмоциональное выражение партийного политического централизма. В войну, во время истреблений и кровавой вражды, когда появился этот лозунг, он воздействовал практически, «по титовски»: во время войны объединение на партийной и югославской основе, а после войны - укрепление федеративного союза и партийной власти. Идея объединения неприсоединившихся стран тоже не родилась в голове у Тито - она проистекла из многих югославских и иностранных источников, причем давно, уже в начале пятидесятых годов. Но Тито увидел возможности, которые идея неприсоединённости предоставляет на мировой арене Югославии и лично ему и стал самым активным проповедником и организатором движения неприсоединившихся: в полном соответствии со своими качествами и амбициями. И тот факт, что Югославия вовремя не разобралась в неэффективности, в нежизненности, в разъединенности движения неприсоединившихся и не заняла вовремя своё естественное, свое политическое место в Европе - нельзя объяснить ничем иным, как мировыми, идеологическими и другими амбициями Югославии, как каждой коммунистической страны, и ее упрямого, жаждущего славы вождя.
Изречения и фразы - такие, как «Чужого не хотим - своего не отдадим!», «Работать так, как будто сто лет будет мир, готовиться так, как будто завтра война!» и тому подобные, хотя и отлиты в бронзе и высечены на мраморе - не придуманы Тито, а взяты из общепринятой пропаганды - советской и иной. Простые и не вызывающие размышлений, они врезались в его сознание, чтобы вырываться на поверхность во время конфликтов или выработки политических точек зрения.
Стиль Тито, его язык обилует шаблонами, затверженными понятиями и выражениями, взятыми из марксизма и народного языка: «вставляют палки в наши колеса», «по одежке протягивать ножки», «историческая роль рабочего класса», «рабочий должен получить то, что принадлежит ему по праву» и тому подобное. Во время лее неполитических бесед - очень редких и незначительных - для Тито характерны сдерживаемая оживлённость, нешаблонный образ мышления и время от времени народные выражения.
Но хотя он не придумывал идеи, Тито был мастером их использования, усваивания и приспосабливания. Он, так сказать, спонтанно, умел дозировать идеологический тезис, брать его в количестве, необходимом для разъяснения определенного решения или призыва к действию. Когда ему было нужно, он замалчивал или опускал тот или иной основной идеологический тезис - чтобы впоследствии, когда потребуется, снова его оживить и утвердить: использование идей, людей и учреждений - непременные составные части политики и политической ловкости.
И не только это! Тито даже «малые» идеи - проекты или мысли, высказывавшиеся в ЦК или правительстве, забирал себе для какой-нибудь предстоящей речи или интервью. Авторы этих замыслов со временем начали считать такое положение «естественным», понимая роль, которую они ему предоставили и которую он себе присвоил: у кого вся власть, у того и все идеи.
6. В СОЗНАНИИ ВОЖДЯ, В ОСОБЕННОСТИ АВТОКРАТИЧЕСКОГО, СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО ВЛАСТЬ, ДВИЖЕНИЕ И НАРОД
В течение семнадцатилетней совместной работы с Тито у меня иногда мелькала мысль, что для него коммунистическая партия, и даже коммунизм и народ, в конце концов только средства для осуществления своего «Я». Что это дело захватило его всего, и он убежден лишь в одном: что оно, это дело, будет иным, более жизненным, чем тот порядок, который он застал. В этом он напоминал мне художника, хотя у него не было .склонности ни к одному искусству, а художников он признавал и награждал часто и охотно, если они укрепляли строй и его авторитет - и редко и неохотно по должности главы государства... Если философия или религия составляют духовный стержень политики, то искусство ей ближе всего по всеохватывающему творческому импульсу, порабощающему и подчиняющему себе личность политика.
Я запомнил, как Тито сказал иностранным журналистам, по поводу моей смены, что политическая смерть - самая страшная смерть. Разве это не подтверждение ёго точки зрения на политику как на призвание, более важное, чем жизнь и смерть? Разве не доказывает то же самое и моя «злопамятность», то, что я до сих пор помню это его заявление?
Хотя после расхождения с Тито, мое мнение о нем не претерпело значительных изменений, сегодня я дополнил бы его рассуждениями о прошлом и познаниями о политике, размышлениями о самом себе.
Коммунизм, партия, рабочий класс, трудовой народ в сознании Тито не идентичны между собой, однако они неотделимы один от другого. Разумеется и он утверждал, что все, что делается - делается для народа. Он в это и верил до какой-то степени, в зависимости от возможностей и задач. И в то, что все, что делается («на данном этапе») делается для коммунизма.
А партия, каково отношение Тито к ней, поскольку известно - из теории, - что она авангард, «самая сознательная сила» при построении социализма и коммунизма?
Тито на основании ленинской теории ясно понимал, что партия только средство - средство главное и обязательное, но все же «только» средство - в борьбе за «диктатуру пролетариата» и «построение бесклассового общества». «Диктатуру пролетариата» он понимал - с полным основанием, поскольку и эта власть может быть создана и удержана только иерархическим путем - как свою личную власть...
Поэтому он партию считал, объективно - ведущей силой, а субъективно - своей собственной, инструментом для осуществления своих планов и роста своей роли... Когда я, во время кризиса вокруг Триеста осенью 1953 года был у него в Белом дворце на Дединье, чтобы узнать его мнение о моих писаниях, уже критических по отношению к ленинской теории и «остаткам» ленинизма в Югославии, он сказал мне, явно колеблясь: «Ладно. Ты пишешь хорошо. Тебе надо было бы больше писать против буржуазии - она еще сильна, особенно в сознании. И о молодежи - молодежь, это самое важное. У нас обстановка для демократии еще не созрела - еще должна быть диктатура...»
Я же тогда считал, что буржуазия в Югославии, в большей части Югославии вообще еще не успела сформироваться в доминирующую и независимую силу, что она бесповоротно вытеснена с политической сцены: писать о ней в то время, как в стране существуют и все усиливаются ленинско-сталинские течения и формы - все равно, что стрелять по разбитому противнику, который не сможет уже оправиться, почти что стрелять в пустоту.
Я обратил внимание, что Тито все еще не преодолел, а может быть и не способен преодолеть то, что уже преодолено, что уже ушло в прошлое. Как видно, я в то время уже стал - сам того еще вовсе не сознавая - на свой собственный путь, на путь, который увел меня от него бесповоротно. Но больше всего меня поразило то, что желание Тито сохранить у нас диктатуру не относится лишь к сохранению строя - я и сам тогда не был склонен отказываться от «завоеваний революции», - а прежде всего к его личной, неизменной (впрочем, никем и не оспариваемой) роли в этом строе.
Тито явно понимал, что во время конфликта с Советским Союзом у нас произошли кое-какие изменения - не только в положении страны и в строе, но и в сознании коммунистов. Это видно из его речей того времени, в особенности же из выступления на Шестом партийном съезде 1952 года. Однако дальнейшее увеличение свобод, в особенности в идейной области, он ощущал как шаг в неизвестное, даже как опасность. Может быть не только для строя - и может быть даже не столько для строя! - сколько для своего личного положения и для своей «исторической роли». И он догадывался, он знал, что в этом вопросе - в обуздании «ревизионистских», демократических идей и тенденций - он будет иметь поддержку «догматических», предержащих и любящих власть кадров; поддержку ревностную и безоговорочную, поскольку эти кадры с полным основанием связали свою судьбу с ним и с его авторитарным положением. В то же самое время Тито понимал, что невозможно уже вернуться к тому образу правления, какой был до конфликта с Советским Союзом, когда ЦК ни формально, ни практически не функционировал - разве только как личный аппарат Тито. Надо было сохранить новые, возрожденные и реконструированные формы и установки. Но они теперь не должны были только называться «титовскими» - роль Тито должна была быть усилена, стать более ощутимой. Если бы не было конфликта с Советским Союзом, в котором решающую роль с югославской стороны играли еще живой военный и революционный патриотизм, самостоятельно созданная власть, а также решимость Тито сохранить «свое” государство и свою независимую роль в нем - порядок в Югославии был бы не лучше, а может быть и хуже, чем в Болгарии или Румынии.
Тито уже со времен войны располагал, через посредство людей, преданных ему лично, рычагами власти, независимыми или полузависимыми от партии - гвардией, тайной полицией, армией. Это произошло обычным путем - упрощенной, «необходимой» идентификацией Тито с ЦК и партией. Однако только партия могла придать вид законности его действиям.
Так это обстоит во всех коммунистических странах - и Сталин не мог освободиться от этого, даже тогда, когда он расстрелял большинство членов Центрального комитета, выбранного в 1934 году на Семнадцатом съезде. Об этой легитимности, об этом средстве Тито никогда не забывал, хотя после войны он больше внимания уделял не партии, а полиции и армии. Но после ссоры с Советским Союзом он снова обращается к партии с новым жаром и усиленной верой: во вне партии власть Тито никогда, даже до ссоры с Советским Союзом, не была абсолютно личной, она всегда была - иногда больше, иногда меньше - также и партийной.
Для Тито партия не только орудие революции и стройки. Как и для всех коммунистических вождей, партия для Тито была еще и чем-то другим. Впрочем, для него она имела большее значение, чем для большинства коммунистических вождей: в ней он видел эмоциональную и интеллектуальную опору, свою судьбу, цель своей жизни.
В полуофициальных историях - в Югославии все изображают неофициальным, но на все требуется одобрение свыше, - во всех бесконечных публикациях о Тито и о партии, Тито изображают не только как деятеля, консолидировавшего партию, но почти что как ее основателя, как ее творца! Без сомнения, роль Тито велика, если консолидацию связывать с отдельными лицами, а не с широким кругом революционеров и большим революционным движением, во главе которого Тито был поставлен в 1937 году. Однако его творческая роль в ней весьма скромная - если под творчеством не подразумевать руководство сверху.
Будучи секретарем партии, Тито перед войной большую часть времени находился заграницей и почти не посещал высшие национальные форумы. Например, он не присутствовал ни разу ни на одном заседании Краевого комитета Сербии, хотя в Белграде бывал много раз.
Бесспорно однако, что Тито внушал членам партии твердость и активность фанатически, почти мистически сливал свою личность, свои заботы, намерения и действия с партией, - как с партией конкретной, с живыми соратниками и с конкретными проблемами, так и с партией абстрактной, партией-идеей. Коммунистическое движение прагматически-утопично: верность его утопической цели доказывается «научно» и подкрепляется ежедневной практической деятельностью. Активность и предприимчивость Тито соответствовала цели, уже видимой среди распада старого порядка, и достижимой в революционном кипении. К тому же он излучал сияние доверенного лица Коминтерна - всемирного революционного демиурга, а тем самым и Сталина, этого воплощения марксистско-ленинской премудрости. Коммунисты видели в нем настоящего своего человека - несмотря на то, что его личная жизнь и интеллектуальный уровень не во всем соответствовали пуританским стандартам партийных литераторов. Мимо этих слабостей проходили молча или с беззлобными замечаниями, делая уступки во имя «высших целей» и ради самой высокой, самой мощной функции.
И если бы Тито можно было свести к одному-единственному качеству, то это качество было бы - партией, партийностью. Причем, не партия как целое, и не партийность, понятая упрощенно как преданность и дисциплинированность.
Тито в первую очередь - представитель и вождь среднего партийного слоя, хотя и не только это. В предреволюционный период этот слой состоит из недоучек-интеллектуалов или интеллектуалов, которые оставили свою профессию, из рабочих, как правило хороших, но недовольных своим положением, разных восторженных фанатиков, а иногда и карьеристов. С приходом партии к власти в этот слой хлынули - из всех социальных слоев - личности, жаждущие политических успехов и личных привилегий. Социальный состав этого слоя меняется, но не меняется его социальная функция. В дореволюционный период и революционный период он несет главную партийную нагрузку и ведет партийную борьбу, из него выходят партработники и руководители. И герои: коммунисты являются социально-идеологической группой, которая гибнет за свой статус. После прихода к власти, из этого слоя начинается привлечение политических профессионалов - партийных, государственных и иных.
И Тито и этот слой охотно принимают в партию интеллектуалов - пока те самоотверженно отдают себя без остатка «борьбе за идеалы рабочего класса», то есть, пока они подчиняются упомянутому среднему слою и растворяются в нем, пока не начинают «мудрствовать». Поэтому этот слой относится к интеллектуалам также и с подозрением, причем с большим подозрением к тем, которые думают («выдумывают») , и меньшим - к ученым-специалистам. Без интеллектуалов - даже и без «мудрствующих»и без «литераторов» - не обойдешься, однако известная осторожность по отношению к ним необходима. Осторожность эта исходит из самой идеологии. Ведь идеология эта - неизменна и окончательна, а из этого следует, что не должна меняться и власть.
Тито, как и другие партийные профессионалы, тоже не без подозрительности относился и к партийным и к беспартийным интеллектуалам. Однако он смотрел шире, вел себя с интеллектуалами более гибко, чем другие партийные руководители, даже более широко, чем партийные деятели-интеллектуалы. Они к слиянию с рабочим классом - на самом же деле с «миссией рабочего класса» - шли путем самоотречения или даже самоуничижения и самобичевания. Разве не партийные интеллектуалы после войны чаще всего вписывали в свои «кадровые анкеты» фразы о своем «мелкобуржуазном происхождении» и о том, что они страдают от «ощущения неполноценности»?..
Возможно, что широта и гибкость Тито во взаимоотношениях с интеллектуалами коренится в его болезненном отношении к своей собственной необразованности. Однако большое значение имели тут и политические причины. Современные общества и даже сама партия не могут ни только развиваться, но даже просто существовать без интеллектуалов: кто будет писать пропагандные статьи, кто руководить наукой, культурой и просвещением, строить города?
Кто, наконец, - вернее, в первую очередь - будет воздвигать памятники и возвеличивать революционных вождей и революцию? Одним словом: Тито обладал политическим умом. Для своего движения и своего строя - необыкновенным политическим умом, чего ни в коем случае нельзя сказать о многочисленных партийных профессионалах.
Средние кадры как в партийных комитетах, так и в администрации, составляют скелет и нервную систему власти. О чем бы Тито ни говорил, за что бы ни брался - он всегда думал именно об этих средних кадрах. И не только о них, а и об остальных, «титовских», высших партийных работниках.
Уже в самом начале, в 1949-1950 годах стали очевидны катастрофические последствия коллективизации (объединение в так называемые «рабочие задруги», югославский тип колхозов). Правда, в Югославии не дошло до выселения «кулаков» и до массового вымирания от голода. Ведь в Югославии нет ни Соловков, ни Воркуты, ни Колымы, а к тому же уже начали влиять более разумные недогматические взгляды, и начала поступать из США помощь в виде продуктов питания. Однако тюрьмы были переполнены, а спонтанное сопротивление крестьянства из года в год росло, доходя до самоуничтожения и приобретая формы национальной катастрофы.
Кардель и я в 1952 году предложили допустить свободный выход из рабочих задруг - фактически это означало бы их роспуск. Положение стало абсурдным: мы получали помощь от США, в меньшем объеме от Англии и Франции, хотя Югославия могла бы самостоятельно обеспечивать себя питанием. Больше того, при разумной, неидеологизированной политике сельско-хозяйственные товары могли бы стать значительной отраслью экспорта, что помогло бы уменьшить внешнеторговый дисбаланс.
Но Тито не согласился: «Мы только что начали, не можем же мы отказываться от социализма в деревне!» Его поддержали партийные «специалисты» по сельскому хозяйству (Стамболич: «Просто сердце разрывается при мысли, что можно разбазарить такие огромные богатства!») И весь вопрос был отложен на год - пока развал и сопротивление не приняли такие формы, что уже никто ничего не мог ни исправить, ни удушить. На собрании у Карделя, где надо было сформулировать решение о свободном выходе из колхозов (об этом уже пошли слухи, да и печать делала кое-какие намеки), встала проблема: что делать с многочисленными и уже высказывающими недовольство партийными кадрами, которые в колхозах и вокруг них уже заняли руководящие и хорошо оплачиваемые должности - как бригадиры и всякого рода партработники? И решение было найдено: максимальный размер единоличного участка был определен не в тридцать, как планировалось, а в десять гектар.
А на «излишках» земли были созданы государственные коллективные хозяйства, в которых и получили соответствующие места упомянутые выше партийные кадры. Это решение приобрело силу закона, который действует и сегодня. Вносятся «смелые» предложения: увеличить в горных областях личные участки до двадцати гектар, а Югославия все продолжает ввозить сельскохозяйственные продукты!
Ориентация Тито на средние кадры, спайка средних кадров с Тито со временем все увеличивалась, приобретала спонтанные органические формы. Массовые трогательные встречи, даже во время проездов Тито в охотничьи угодья, - результат не только организационных усилий и давления, но и воодушевления местного партаппарата, которое без труда передается «единодушным» и аполитизированным народным массам.
Так было не всегда. В первые годы после войны Тито и партийные верхи были более сплочены и были ближе к народу, к своим массам. Тогда военная титовская «забота о кадрах» продолжалась и проявлялась именно на верхах, по отношению к наивысшим деятелям. Тито не только не противился размещению партийных руководителей в брошенных и национализированных особняках, но поощрял это. Он проверял, хорошо ли снабжены закрытые распределители. Помню, как зимой 1945-1946 года нас растрогало его распоряжение выдать по пять тонн угля партработникам высшего союзного значения: ставки были действительно низкие, хотя мы и получали все почти что бесплатно - кроме угля, который был дорог. Отношения были еще идиллическими и простыми: никому даже и в голову не пришло, что приличней и справедливей было бы отрегулировать законным путем вообще все снабжение, в том числе и угольное.
Но в ходе централизации, когда политические решения стали приниматься все более закрыто, и все более изолированной становилась политическая жизнь, концентрировавшаяся вокруг Тито и верхушки, средние кадры начали терять инициативу, накопленную в революции, и стали превращаться в политический аппарат центра. Правда, политика находит себе лазейки и при автократических режимах. В самом центре, на самом верху около Тито по временам возникали разногласия и конфликты. Сначала вокруг ссоры с Советским Союзом, затем вокруг демократизации (мое дело) и наконец вокруг «наследства» (дело Ранковича). Тито понял - думаю, более четко в связи с моим делом, чем в связи с конфликтом с СССР - что опасности для него и для «его» системы возникают на верхах, и что в базу - в народ и в средние партийные кадры - они проникают только в том случае, когда наверху нет сплоченности. В недемократических однопартийных системах и не может быть по-другому - точно так же, как при феодальных дворах.
Это получило наиболее яркое подтверждение в массовом движении, возникшем в связи с национальным конфликтом среди коммунистов Хорватии.
Непоколебимо и неразрывно связанный с партией, в особенности же с теми течениями и кадрами, которые с помощью идеологии и власти стремятся к своему идеалу и привилегиям, - Тито не забывал и о своих отношениях с народом. В отличие от большинства коммунистических вождей, а в особенности Сталина, который своей недоступностью в Кремле подчеркивал таинственность своей премудрости и всемогущества, Тито часто митингует, посещает стройки и наслаждается восторженными массовыми встречами. Крики и аплодисменты, усыпанные цветами улицы, запруженные толпами площади его очаровывают, но не надолго. На все это он смотрит рационально, с точки зрения пользы: оценивает симпатии, подчеркивает искренность восторгов и торжественность встречи.
Именно потому, что он отождествляет партию с самим собой, он хочет стоять и над нею - чтобы обеспечить продолжительность этого торжества: партия должна следовать за тем, кто преданно ведет ее по «историческому» пути. В особенности, если путь этот ведет в «счастливое завтра», к преображению жизни народа. Здесь, конечно, возможны и ошибки и уклоны - в первую очередь некоторых руководящих товарищей. Тито видит себя и вождем, учителем народа - и ведет себя соответственно. Харизматичность - составная часть сознания и склада ума Тито.
Поэтому он культивирует и особые, личные отношения с народом - так же, как и с армией. Но во время войны, когда он останавливался в селах вместе с партизанскими отрядами, он вживался в несчастья и страдания крестьян, его потрясали поражения и воодушевляли победы. В 1944 году в Дрваре он много размышлял о будущем производстве гвоздей, так как гвозди - при восстановлении сожженных домов - самое важное. А в 1946 году, во время длительной засухи, он по вечерам выходил из своей виллы на Дединье, чтобы лично осмотреть небо: ведь метеорологи, бывает, и ошибаются...
Со временем, по мере того, как осложнялись и менялись дела, меняется у Тито и восприятие народа, и отношение к нему. Проблемы становились общеюгославскими, а некоторые и мировыми, слава и сила ослепляли и Тито, и партию, и народ. Сжившаяся с привилегиями, утвердившаяся у власти как привилегия всех привилегий, партия, по понятным причинам, возвышает над собой Тито.
А народ? Народ бедствует и изворачивается так же, как бедствовал и изворачивался всегда. Связи вождя и народа становятся все более бессодержательными, все более абстрактными, все более восторженными, пустыми и пестрыми.
Конкретной, крепкой и не сентиментальной остается связь Тито с партией - Тито со средними кадрами. В этой связи - залог успеха, силы и долговременности.
При всех кризисах Тито обращался к средним партийным кадрам и находил в них самую верную, самую надежную опору. Он всегда ощущал и знал, что эти кадры - больше, чем аппарат, партийный и государственный, что это новый слой, новая сила, «призванная историей», чтобы руководить и перестраивать.
А также находить и присваивать себе блага и привилегии. Тито никогда не препятствовал роскоши и расточительству партийных руководителей и не осуждал их за это - кроме как в особых, скандальных, противозаконных или вредящих политике случаях. Но не только потому, что сам был повинен в подобных «грехах», и не для того, чтобы кого-то подкупать таким образом, а главным образом потому, что считал это определенным видом естественного права, завоеванного партработниками.
Новые победоносные силы присваивают себе и господство - перекраивают законы, вводят свою мораль и свои обычаи. Так было, так должно быть и теперь - если мы не хотим поставить под угрозу власть, господство и «все то, за что мы боролись»...
7. «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРОЙ СЛУЖИТ»
(СТАЛИН)
В утверждении, что коммунистическому диктатору безразлично, какой страной управлять, есть доля правды - однако в нем не меньшая доля антикоммунистического догматизма.
Поскольку коммунизм, вне зависимости от национальной базы, основывается на власти - власти особой, которая «строит новое общество» - каждый подлинный коммунистический вождь будет в своей деятельности стремиться именно к такой власти. При рассуждениях о коммунизме и о коммунистических вождях сегодня это - общее место. В жизни же, в национальной реальности - каждый коммунизм чем-то отличается от другого. Так же и коммунистический вождь, в особенности диктатор, рождается и формируется в суровой национальной борьбе.
Коммунистическая идеология и коммунистическая власть - если судить отвлеченно - действительно таковы, что любому коммунистическому автомату должно было бы быть безразлично, где управлять. Но отвлеченной идеологии в чистом виде, которую во всех деталях можно было бы применить ко всем странам и при всех ситуациях, - такой идеологии не существует. Как только начинается «применение на практике» - то или иное положение теряет, или наоборот, приобретает в весе. Так и власть - универсальная цель и универсальное качество коммунизма и коммунистов - на практике в разных странах выглядит по-разному. И не только выглядит - она и на самом деле повсюду разная, вопреки своей монопольности и своей «конструктивной» роли. И вожди, диктаторы - конкретные люди. Авторханов остроумно замечает, что напрасно из Брежнева пытаются сделать диктатора, раз он сам не был способен сделать себя таковым.
И фашистские, и коммунистические диктаторы вожди движения, идеологического массового движения. Но из этого не следует, что фашизм и коммунизм и их вождей можно сравнивать. Сходства здесь внешние и формальные, поскольку у этих движений разные социальные корни и устремления, поскольку они защищают или «отстраивают» разные системы.
По внешнему декоруму и многим другим признакам коммунистические и фашистские вожди похожи друг на друга. Их души и разум, вероятно, обуревает одинаковое непреодолимое стремление лично выделиться, добиться личной власти. Но инструменты и способы осуществления этого стремления - различны. Коммунистические движения и коммунистические вожди вырастают на развалинах старых формаций и вечных мечтах человечества - их сила еще растет, их формы обновляются и крепнут. С коммунизмом в мир пришли новые формы и новые империи, коммунизм оставит глубокие следы и переживет некоторые коммунистические государства - даже Советский Союз.
Совсем другое - фашизм. Не входя здесь в различия между итальянским фашизмом и немецким нацизмом, скажем, что всем фашизмам присущи изменения политических взаимоотношений, с одновременным сохранением отношений социальных. Для фашизма характерны кошмар и неистовство, для коммунизма - принуждение и запрещение. Первый краткосрочен, второй - продолжителен.
После гибели больших фашистских государств, Италии и Германии, фашистские диктаторы исчезли или дегенерировали. Нынешние диктаторы в Латинской Америке, Африке и других местах - всего лишь возглавители подкупленного военно-полицейского аппарата. Они напрасно силятся «отстроить» идеологию и массовое движение, чтобы сохранить политические и экономические привилегии и устаревшую структуру общества.
У фашистского вождя идеология и цели - национальные: даже у Гитлера, в его будущем «арийском» мире основой должен был стать немецкий народ. Фашистские вожди мечтают о завоеваниях, их планируют и осуществляют. Смысл существования фашизма - в завоеваниях. Фашистский вождь стремится поработить других, но «естественной» считает только власть над своим собственным народом, поскольку он «тотальный» носитель его «воли» и «судьбы».
Коммунистические вожди все-таки иные: любой из них согласился бы управлять другой страной - это, конечно, не значит, что он смог, сумел бы ею управлять . Идеологические требования интернациональное сознание, тотальность и «совершенство» форм которых трансформируется в личные амбиции, приводят к тому, что каждый коммунистический вождь не только согласился бы управлять любой страной, он стремился бы и к расширению своего влияния на весь мир.
Однако желание, согласие - это еще не возможность и не способность, и даже не вера в способность и возможность. Каждый коммунизм, как только он становится более или менее независимым от советской империи, начинает считать себя «самым совершенным», но одновременно соразмеряется со своими национальными возможностями. Коммунизм - это международное сознание на национальной почве, а коммунистический вождь - национальный владыка на международной сцене. Нет сомнения, что нападки Советского Союза на Югославию в 1948 году стимулировали усиление югославских, титовских претензий на Балканах и в странах «народных демократий». И в Югославии не случайно именно после возникновения этого конфликта произошел поворот к национальным реальностям и возможностям. И не случайно Тито вскоре после возникновения конфликта с горечью и грустью сказал своим ближайшим товарищам: «Главное в том, что мы - малоразвитая страна! И пока это будет продолжаться...» Позже, когда самостоятельность окрепла, Югославия, вернее Тито, с помощью движения неприсоединившихся стран вышел на большую международную арену - уже вне коммунистического движения - и стал еще более неприятен для советской великодержавной экспансии.
Тито в Югославии наполовину иностранец. Но не только потому, что он был на австро-венгерской стороне во время войны, из которой возникла Югославия, и не потому, что он пробыл около семи лет в Советском Союзе, причем в судьбоносные моменты в жизни этой страны и своего собственного формирования - в разгаре революции, в разгаре чисток, в молодости и в зрелом возрасте. Он наполовину иностранец по происхождению и по направленности жизни - и в самой Хорватии. Загорье, загорцы и по самосознанию и по истории - весьма хорватская Хорватия. Но по языку и по психологии - это особый мир и особый народ. И язык у них особый, со своими литературными традициями - «кайкавский» островок посреди «штокавского» языкового моря. Люди трудолюбивые, занимающиеся отхожим промыслом, склонные к добродушным забавам, любящие вино и песни. Не столь важно, что сербские националисты откроют в Тито губителя сербских идей в духе австро-венгерских традиций, а хорватские националисты - выродка, который «продался сербам». Существенно то, что он, несмотря на свою принадлежность к малой и изолированной этническо-культурной базе, смог завладеть целой Югославией - многонациональной страной, в которой два самых больших народа, сербы и хорваты, почти отождествляют свою национальную сущность с государственностью.
Объяснить это нетрудно и об этом кое-что уже сказано в этой работе: общеюгославская, единая общеюгославская компартия, сохранение общего государства - как внутреннее содержание и цель революции, оборона и укрепление Югославии как независимой страны.
А какова во всем этом роль Тито и насколько она значительна? И об этом здесь кое-что уже сказано, чтобы указать на взаимоотношение - пусть несоизмеримое - между его личной ролью и революционным движением, вернее, объективным ходом истории.
Роль Тито, как и роль любого политика, измеряется вкладом в конкретную реальность - способностью видеть социальные и политические проблемы и разрешать их. Причем - хотя этот вопрос оставим пока в стороне - методы, которыми эти проблемы разрешаются, вероятнее важнее, чем конечный результат, достигнутый их разрешением: результаты революций, в особенности «идеологических» революций двадцатого века, нисколько не оправдывают ни надежд, возлагаемых на них, ни горячности, с которой они проводятся.
С момента, когда он принял руководство партией, впрочем, еще и раньше, Тито весь погрузился в конкретную жизнь Югославии, в югославскую реальность - которую он, естественно, воспринимал под партийным углом зрения и через партийную деятельность. Политические события - фашистские нашествия, война и капитулянство руководящих партий, рост мощи и роли Советского Союза, революционные условия во время оккупации - подтверждали оценки коммунистической партии, предоставляли ей возможности эти оценки осуществить, конкретизировать в виде организации и действий.
Но необходимо и неизбежно было делать это непрерывно, изо дня в день, изменяя, приспосабливая формы в нужный для этого момент. Изо всех югославских революционных вождей Тито, без сомнения, проявил в этом деле наибольшую изобретательность и предприимчивость. Он наиболее живо и непосредственно ощущал конкретное и возможное и вникал в них. Он отнюдь не был непогрешим - политическая реальность сама по себе «перевертень», трудно дающийся в руки. Да и могла ли она быть иной, при всех сопутствующих ей разнообразных и коварных силах и возможностях? Но Тито быстро, ловко преодолевал все промахи и блуждания, нащупывая и ловя возможное и конкретное. При всем этом он открыто не признавал ошибок - во всяком случае, если признавал их, то не полностью и уж, конечно, не в форме покаяния. Не признавал даже очевидных и крупных ошибок. В ошибках он, в основном, признавался самому себе - и молча, безо всяких угрызений и сомнений их исправлял. В 1951 или 1952 году я, как бы походя, предложил отменить комиссаров в армии.
По привычке или по врожденному свойству считать чужим и враждебным все - даже иронию,- что может повредить его авторитету и его точке зрения, он накинулся на меня: «Еще чего не хватало! Ей Богу, ты бы всю армию развалил!»
Комиссаров отменили через месяц или два. А когда он сообщал об этом на заседании Политбюро, то как бы невзначай глянул на меня и прибавил: «В общем, всегда лучше выслушать несколько мнений...»
Тито никогда до конца - а с ростом его личной власти все меньше - не был способен или не хотел определить свою долю в неуспехах и заблуждениях: только чужая реальность и чужие ошибки были ему понятны и только в них он вникал. Поэтому он легко и иногда ненамеренно, перекладывал свою вину на других или вел себя так, как будто не располагал абослютной властью: «я говорил, я указывал, меня не послушали, я не знал, меня обманули», - в таких выражениях он чаще всего возмущался по поводу крупных упущений или ошибок.
В разгаре идолопоклонства и блеска абсолютной власти у Тито - я это уже отмечал, в особенности перед расхождением с ним - ослабевала и гасла и такая, посредственная способность к самокритике.
Я считаю, что ослабевало - хотя и не такими темпами, как самокритичность - и ощущение конкретного и возможного: разве Югославия дошла бы до такого экономического тупика, до такой «неприсоединённости», до такой неэффективности аппарата? Совершенный мир, мир без критики и без альтернатив - это мир безмерных, непоправимых ошибок...
Югославия, Коммунистическая партия Югославии и ее деятельность - это была самая непосредственная, ежедневная и одновременно историческая реальность Тито. Но Югославия, хотя и была его миром, не была и не могла быть изолированным миром. Он это осознавал и всегда пытался перейти за югославские границы, навязать миру югославскую реальность и югославские проблемы. Крепко и непоколебимо держась за Югославию, он одновременно осознавал ее маломощность и стесненность. Обратная сторона этого сознания выражалась у него в хвастовстве: он хвастал достижениями, достигнутым авторитетом и силой - силой прежде всего. «Сила», «сильный» и схожие слова у Тито, вероятно, встречаются чаще, чем любые другие. Для политика конкретными и возможными являются основа и цель, орудие действия и оправдание действия. Но политик по призванию, - а Тито без сомнения таковым является, вне зависимости от того, какого мы мнения о его методах и достижениях, - никогда не удовлетворен конкретным, достигнутым. Он и не может быть им удовлетворен, потому что реальность изменчива, зла и опасна. Не был удовлетворен и Тито: его активность, его самостоятельность не знали ни самоуспокоения, ни границ. В начале пятидесятых годов Югославия - вследствие советской блокады, отсталости, а также заимствованного и своего собственного догматизма - была вынуждена принимать помощь от Запада и в первую очередь от США, а вследствие этого смягчать, если и не приспосабливать, свои внешнеполитические установки. Тито тогда в узком кругу говорил с огорчением и тоскою: «Без самостоятельной внешней политики нет и самостоятельности!»
Больше всего его угнетала экономическая помощь. Он считал, что помощь вооружением не так обязывает и меньше унижает, поскольку Югославия своим географическим положением и боевой готовностью обороняет не только себя. Поэтому он - более настойчиво в 1953 году, после смерти Сталина - требовал от членов ЦК, руководивших народным хозяйством: Югославия должна избавиться от западной помощи. Наибольшая часть помощи состояла из продуктов питания и освободиться от нее было бы весьма важно. Однако при политике коллективизации и принудительных закупок осуществить это было невозможно.
Но насколько бы ни были конкретны и ощутимы практические цели политической деятельности, сведение политического искусства только к ним может дезориентировать и привести к провалам. Для политической практики необходима политическая теория: без теории политика близорука, узка и лишена вдохновения. В этом недостатки и политики Тито.Он придерживался - временами четко, временами непоследовательно - изжившей себя ленинской теории и карделевской прагматической смеси ленинизма с социалдемократизмом. Самые большие и непоправимые ощибки были совершены после появления демократических течений в партии и примирения с советским руководством. Не разбираясь в теории, но понимая, что она необходима - Тито так и придерживался этой удобной теории Карделя, поскольку сотрудничество и с Востоком и с Западом укрепляло югославскую независимость и одновременно личную роль Тито.
Когда осенью 1953 года США и Британия решили передать итальянцам «Зону А» (Триест с окрестностями) , в Югославии вспыхнули демонстрации, а Тито заявил, что югославская армия войдет в «Зону А».
Но хотя Тито и выражал всеобщее раздражение, мне кажется, что в своих решениях он сознательно хотел продемонстрировать свою независимость от Запада: в это время в СССР как раз намечались послесталинские перемены.
В эти дни, как я уже упоминал, я был у него, чтобы выслушать его мнение о моих писаниях. Он отдавал по телефону распоряжения, думаю, что генералу Косте Надю, уточняя, чтобы тот использовал танки не американского производства, так как это неудобно, а советского.
Я спросил его: «Как же мы будем стрелять в итальянцев, если их поддерживают американцы и англичане? Что, мы и в них будем стрелять?» Он ответил: «Мы войдем, если войдут итальянцы, - а потом посмотрим...»
Вскоре на заседании секретарей ЦК у Тито, он, ощущая, что предпринятые меры неадекватны, слишком резки, разъяснял: «Если мы будем вести себя нерешительно - они потребуют и «Зону Б». Я этого боюсь!»
Думаю, что подобной опасности не существовало: США и Британия просто хотели отделаться от второстепенной нагрузки, которая к тому же отравляла югославско-итальянские отношения и мешала более широкой консолидации. США и Британия вскоре отказались от своего решения, шум утих,а уже в следующем, 1954 году в Лондоне было достигнуто соглашение, по которому «Зона А» отошла Италии, а «Зона Б» - Югославии. То есть произошло именно то, чего хотели добиться США и Британия своим односторонним решением за год до этого. Во время этих событий Тито принимал решения под влиянием эмоциональных факторов, может быть в первую очередь под их влиянием. В политике эти факторы - реальность, и еще какая! Однако влияли тут и идеологические предрассудки: как вера в переменчивость послесталинского «социализма» в СССР, так и вера в неизменяемость «капиталистического», итальянского, империализма.
Однако в другом случае - снова в связи с Триестом, но когда титовские «конкретно» и «возможно» не были отягощены теоретическим наследством и теоретическими предвидениями - Тито дал правильную оценку. «Не можем мы получить Триест!» -сказал он мне, думаю, в 1951 году, подметив, что и я в этом не уверен - причем как раз во время разгара одной из многочисленных кампаний вокруг Триеста.
При оценке дел и личностей политиков чаще и легче всего обманывают их высказывания! И не только потому, что политики - это племя, склонное посредством слов скрывать свои намерения и действия, - если бы они были иными, они не были бы настоящими политиками! Нет, сама политика вообще, даже при полной, самой искренней искренности содержит в себе умалчивание, преувеличение, недооценку, недоговоренность, болтливость - самые разнообразные, немыслимые и непредвидимые искажения правды. Потому что жизнь, а в особенности жизнь, сконцентрированная на политике, изменчива, многогранна и многостороння, потому что человек, в особенности же политик, чтобы удержаться и преуспеть, должен каждый раз наново угадывать единственный правильный путь и эффективный метод.
Поэтому более верный способ оценивать политиков не по тому, что они говорят, а по тому, как они это говорят. Потому что личность - ее возможности и стремления - раскрывается в методе. А «смысл», «содержание» во многом неоригинальны, и, кроме того, маскируют и создают неверное представление и о личности, и о ее подлинных намерениях.
Метод Тито отличался ясностью и простотой. Ясность и простота без пестроты, без ораторского мастерства. Однако - ясность и простота и тогда, когда он что-то таил в себе, и когда пребывал в нерешительности. Все - в особенности же средние партийные кадры - быстро соображали, чего он хочет, а чего не хочет, что нужно, а что не нужно. Это, помимо верного ощущения реальности, было сильной, может быть наиболее сильной стороной его духа. Практически были соединены - простота и ясность выражения и ощущение конкретного и возможного. Простота и ясность разъясняли и убеждали: то, что хочет осуществить Тито, то-есть партия, - реально и осуществимо, хотя нередко для этого нужны и усилия, и жертвы.
Каждый раз, когда мне приходилось слышать политиков (особенно сербских и хорватских партийных руководителей, расходившихся с партией в 1971-1972 году), запутанно, туманно и сложно выражающих свои мысли, я понимал, что это начало внутреннего надлома и поражения. Понимал, может быть отчасти, потому что я и сам дважды испытывал нечто подобное: выступая на Пленуме ЦК летом 1953 года на Брионах, когда Тито уговорил меня показать, что мы не едины; и тоже на Пленуме ЦК в январе 1954 года, когда я уже и сам - заклейменный и отстраненный от должности за «ревизионизм» - вел себя как коммунистический прагматик: частично отказывался от своих идей - потому что их значение и действие я связывал исключительно с коммунистической партией.
Конкретное и возможное, ясность и простота - для Тито в этом заключались идея и средство власти. Я бы сказал - чистой власти. Потому что Тито не столько владела, не столько притягивала, увлекала власть вообще, власть, которой подчиняется все и вся и которая во все вмешивается - сколько партия, тайная полиция, армия: отстраивание, поддержание на уровне, удерживание в своих руках, в руках «своих» людей партии, тайной полиции, армии.
Нельзя сказать, что Тито захватывала только «чистая власть» или «чистая политика», что его внимание концентрировалось только на трех упомянутых организациях. Кроме тех случаев, «когда это было необходимо», он даже не посвящал им основную часть своего рабочего времени. Но они постоянно находились в центре его интересов, сохранение их дееспособности, их усовершенствование были предпосылкой функционирования и укрепления системы в целом и роли Тито в частности. Ни одного решения, - а он выносил решения по всем важным, или казавшимся ему важным, вопросам - Тито не выносил без того, чтобы, может быть нехотя и молча, не оценить его с точки зрения «чистой политики», то есть деятельности и усовершенствования партии, тайной полиции, армии.
И в иных - некоммунистических - политических и социальных системах, пусть самых демократических, структура государственного аппарата и способ принятия решений примерно такие же. Отличаются же эти системы, говоря упрощенно, правом выбора и правом критики политического руководства - или отсутствием или ограниченностью этих прав. «Чистая политика» Тито и те, кто ее проводили, могли меняться, сменяться или подвергаться критике только в тех случаях, когда они не выполняли указаний Тито, или отставали, или сходили с пути, который он считал верным. А то, что в Югославии, в отличие от других коммунистических стран, живется более сносно, так это благодаря разным факторам и, между прочим - как бы абсурдно это ни казалось - той же «чистой политике» Тито, тому обстоятельству, что власть Тито скорее автократична, чем тоталитарна.
В его представлении все остальные отрасли - экономика, культура, спорт и другие - были по сравнению с «чистой политикой», «чистой властью» второстепенными. Именно поэтому они вырывались из тисков насилия и догмы и были лишь наполовину зависимы. Играли здесь также роль - абсурд, который могут породить только жизнь и политика! - безграничное стремление Тито к роскоши, его неаскетичность: это склоняло к «грехам» и других, это стирало социальные, а вместе с ними и другие различия.
Если Югославия была тесна для Тито, то и ей с ним было нелегко. Но вместо теоретических рассуждений скажем вместе со святым Августином: «лучше грешный человек, чем автомат».













_1.jpg)

 Заседание Священного Синода кв.jpg)