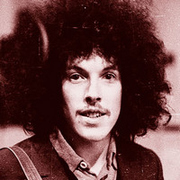3. ВОЖДЯ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ, ЕСЛИ ОН НЕ СОЗДАЁТ САМ СЕБЯ
Тито родился, как говорится, бунтовщиком, то есть как личность, которая перемену существующей обстановки соединяет, отождествляет с изменениями своего собственного положения. С самого начала он стремится к чему-то более высокому, чем к занятию своим ремеслом, к которому побуждало его крестьянское происхождение и бедность многодетной родительской семьи. Он часто меняет работу в Австрии и Германии; попав в австрийскую армию в 1913 году, он вскоре поступает - по собственному желанию, как я понял из разговоров с ним - в унтер-офицерскую школу. До этого, будучи рабочим, он записался в профсоюз, а тем самым и в социалистическую партию; но одновременно с этим у него начинают проявляться и национальные эмоции - хорватские и югославские. Но никакой особой активности он не проявлял, да и не мог проявить: социалисты были тогда в пеленках и не проявляли революционности. А югославские идеи существовали еще главным образом в головах идеологов и очень немногих профессиональных политиков.
В начале войны, во время марша на фронт - Тито, по всей вероятности, был в армии, действовавшей против Сербии, - он недолго, всего одни сутки, был под арестом в Петроварадине. Дидиеру он рассказывал: за то, что он в раздражении заговорил о своем намерении перебежать к русским. А недавно он заявил - и это зафиксировано на пленке - что был арестован по ошибке военных властей.
На фронте он был сначала в армии, действовавшей против сербов (и его биографы, и он сам этот факт до недавнего времени замалчивали); затем он был на Карпатском фронте - против русских.
Однако он к ним не перебегает. Наоборот, он отличается как начальник команды разведчиков. Он и потом рассказывал, что охотнее всего ходил в разведку. А недавно в Австрии опубликовано относящееся к тому времени представление Йосипа Броза к награде за смелость и находчивость на разведке и за то, что он приводил «языков». Да и после, когда он летом 1915 года был ранен и попал в плен к русским, он не пошел в сформированные из южных славян добровольческие части, а остался в лагере военнопленных, где его избили и посадили за то, что он, как представитель пленных, выступил против злоупотреблений русского лагерного начальства.
После февральской революции он бежит из лагеря в Петроград и участвует в июльских демонстрациях, которые в большевистской историографии считаются ошибочными. "Я думал, - рассказывал нам Тито, - что с революцией всё кончено..." Его ссылают на Урал, он бежит в Сибирь, где его застает Октябрьская революция .
В Сибири он познакомился со своей первой женой, Пелагеей Белоусовой. В России он в 1920 году вступает в партию. В том же году возвращается на родину. Период 1920-1924 годов "наименее активный" в политической жизни Тито. Но это и период распада и пассивности коммунистической партии Югославии - после ее запрещения и судов над ее лидерами. В эти годы у Тито рождается трое детей, из которых двое умирают. Но и этот период заканчивается увольнением Тито с работы в связи с его политической деятельностью. Наступают годы бродяжничества Тито по Югославии - он всюду лишается работы из-за политической активности. В Бакре его арестовывают и приговаривают к семи месяцам (в Загребе снижает наказание до пяти месяцев) . Активность Тито особенно проявляется в профсоюзх - иногда он бывал и в профсоюзном аппарате, на заработной плате. В начале 1928 года он попадает в руководство партийной организации Загреба, как один из сторонников - может быть самый деятельный, но, во всяком случае, не единственный, как сообщают официальные историки - так называемой "загребской линии", направленной как против "левой", так и против "правой" фракции. Но в августе его снова арестовывают и на так называемом "процессе бомбистов" приговаривают к пяти годам каторжных работ. На суде он заявил: "Я не признаю себя виновным,.. потому что компетентным считаю не этот суд, а только суд партии..."
Заявление это, без сомнения, подтверждает его смелость и преданность партии, хотя и является частью ритуального, предписанного партией поведения коммуниста перед лицом "классового суда". Это заявление, а также поведение Тито на суде, превращены теперь в нечто неповторимое и легендарное, хотя были и другие коммунисты, которые себя вели так же: писаная история справедлива лишь по отношению к своим хозяевам. Более того, в официальной историографии подчеркивается, что бомбы, найденные у Тито при обыске, были подложены ему полицией. Ведь неудобно признать, что нынешний прозорливый и непогрешимый вождь накапливал оружие в период, когда условия для вооруженной борьбы еще не созрели. Однако, как перед войной рассказывал Тито, в том числе и мне (правда, в то время он ещё не был нынешним вождем), он считал тогда, что условия для вооруженной борьбы и революции вот-вот наступят - причем таково было и мнение тогдашнего партийного руководства.
Королевская же полиция хотя и была бесцеремонной и жестокой, никому ничего не подкладывала; королевство Югославия было плохим, недемократическим государством, но в этом государстве законов придерживались больше, а суд был самостоятельней, чем в нынешнем.
Пять лет каторги Тито выдержал с достоинством - он мне, например, рассказывал, как он отказался выполнить приказ тюремщика, который хотел заставить его собирать окурки. О нем и о его поведении я слышал от коммунистов, побывавших на каторге, только похвалы. Уже тогда, в отборной коммунистической среде, Тито отличался живостью и твердостью, усердием при изучении марксизма, проницательностью.
Но также и скрытностью и недоверчивостью. После тюрьмы Тито в конце 1934 года по решению партии эмигрирует в Вену, а затем в Москву.
1935 год - в Москве это период чисток. Начинается новый, судьбоносный отрезок жизни революционера Йосипа Броза, который прошел уже через многие тяжелые испытания, но которому еще лишь предстоит понять, что хотя революционные институции и методы неотделимы от идеи, но они - важней ее, и даже важней самой революции...
Но эта работа - не биография Йосипа Броза Тито. Я хотел только показать существенную черту его личности: активное сопротивление существующей реальности, активная попытка создать новую,свою реальность. Йосип Броз начинает от нуля, как ничего собой не представляющий человек - но с самого начала не желает с этим мириться.
Фамилия Броз происходит от имени Амброз, Амброзий, Амвросий и упоминается уже в XV веке, но нет никаких признаков, что семья Тито в родстве с теми "первыми" Брозами. По семейному преданию Брозы, от которых произошел Тито, переселились в Загорье, вероятно в XVI веке, с далматинско-боснийской границы. А на эту границу они - по скупым фразам Тито - пришли из Черногории, из племени Куча. Родня Брозов - многочисленна - среди них были и образованные и видные люди в Загребе. Но ветвь Тито - крестьянская. Дом, в котором родился Тито 7 мая 1892 года, -один из лучших в Кумровце.Семья бедствовала скорее всего от многодетности - пятнадцать человек детей, из которых восемь рано умерло, - и не столь от малоземелья, сколько от доверчивости отца, Франьи, дававшего гарантии на чужие векселя. Восемь ютров (около четырех гектар) земли невдалеке от городского рынка - не так уж мало, хотя земля была и не очень плодородная. Мария, мать Тито - словенка из зажиточной крестьянской семьи. Детство Тито провел, главным образом, у деда по матери, и похож он был на мать. Никто из братьев и сестер Тито не отличался ни успехами, ни неудачами; своей карьерой он не обязан никому из близких, сам же он помог некоторым родственникам извлечь пользу из его карьеры. Тито с самого начала, с ранней молодости отказывается быть похожим на других - на братьев и сестер. Война, революция в России и коммунизм, вот реальность, мечты и опыт, формировавшие его личность. В другой, мирной и не тронутой идеологией обстановке, он был бы профсоюзным работником или предпринимателем, суровым отцом и своенравным мужем.
В коммунистической, мессианской "исторической роли рабочего класса" Тито находит и личное, своё, и жертвенное общественное призвание. Хотя в глубине души он и не ценил рабочих, он неотступно, непримиримо отстаивал рабочую - свою - "историческую роль". Когда он произносил: "рабочий класс", "рабочие", "люди труда", то всегда ощущалось, что он говорит о себе - о стремлении народных и социальных низов к сиянию власти и блаженству властвования. Тито в коммунизме нашел себя, а коммунизм в нём - одного из своих самых удачливых и своеобразных протагонистов. Я знал коммунистов идеологически непоколебимых, но не знал ни одного, кто бы так как Тито, до мельчайших оттенков, настаивал на том, что он - особый, неповторимый. Некоммунистическая , антикоммунистическая приверженность к роскоши, драгоценностям и помпезности - только одна сторона этих его стремлений - все усиливающихся, становящихся всё более навязчивыми и целеустремлёнными по мере увеличения его личной власти.
Но его исключительность - подлинная или разыгрываемая - не обходилась без банальности и вульгарности. Роскошь Тито, его погоня за модой, чрезвычайно характерны для выскочки, его монарший образ жизни и самодержавный метод правления старомодны и оскорбительны. Но он обращал на это внимание, только когда замечал, что дело идет об уменьшении его роли и престижа... Когда американский "Лайф" опубликовал в конце 1949 года его фотографии - с дачами, конями, салонами, собаками - Кардель и его круг, в который входил и я, были в Нью-Йорке на заседании Объединенных Наций. Мы заметили, что Тито изображен чем-то вроде латиноамериканского диктатора. В связи с её сопротивлением советской гегемонии популярность Югославии росла, ее руководству надо было показать себя в несоветском, более демократическом свете, и я (после возвращения в Белград мы собрались и в неофициальной обстановке сообщили о своей поездке) обратил внимание Тито на отрицательные стороны такой популярности, употребив то же выражение как, если не ошибаюсь, употребил Беблер в Нью-Йорке – «латиноамериканский диктатор». Тито покраснел и умолк. Но ничего не изменилось, разве что какое-то время он вел себя более осторожно с западными фоторепортёрами. А когда в 1950 или 1951 году обсуждалась ликвидация личных вилл, закрытых пансионов и санаториев для руководства, Тито сказал, что он откажется от своего особняка в Опатии, поскольку тут же вблизи находится его резиденция - и он им не пользуется.
Виллы и дворцы для него и дальше продолжали строить или же резервировать - в некоторых он, может, ни разу и не переночевал. А когда в 1953 году многим городам, фабрикам, улицам, коллективам были возвращены их старые названия (при переименовании после войны их назвали именами ещё живых функционеров и это было потом признано ошибочным ) Тито с этим согласился. Однако его имя, как «символическое» не попало под это "обратное" переименование. Нечто схожее произошло и с так называемой Эстафетой Тито. Когда развенчание "культа
личности" Сталина на XX съезде КПСС вызвало по аналогии подобную же реакцию в Югославии, то Тито предложил, чтобы эстафета проводилась не в честь дня его рождения, а в честь Дня молодости. Празднество стало таким образом ещё более массовым, "всенародным" - в соответствии с тем, как понимал Тито свою "харизматическую" роль и как, по его мнению, обезличенный и "монолитизированный" народ должен относиться к вождям.
Все, что было связано с его личностью, Тито ревниво охранял. Тот, кто прикасался к его привилегиям и его стилю жизни, рисковал попасть в его немилость, а иногда и быть обвиненным во враждебном уклоне и антипартийности.
Такое поведение соответствовало его внутреннему облику: Тито всегда и во всем оберегал своё достоинство, свою исключительность. Никогда, даже на войне, во время стоянок в лесу и на ночных маршах я не видел его в какой-нибудь неподобающей позе и не слыхал употребляющим нецензурные выражения; он был всегда выбритым и чистым, невзирая на тяготы войны и стремился, чтобы все ему принадлежащее - одежда, конь, оружие - были лучше, чем у других.
И товарищи, тогда его окружавшие, нежно о нём заботились, старались, чтобы ему было получше и поудобней. С усилением власти и его роли в этом процессе, изменялись и усиливались и его стремления к исключительности, и усердие приближенных: недемократическая власть превращала гордость и другие ненавязчивые качества в себялюбие и самоволие, а ближайших и вернейших соратников в олигархов и царедворцев.
Личности оставляют след на "своей" эпохе и на "своем" строе в зависимости от своих духовных и творческих сил. Но чем государственное устройство и народ самостоятельней, чем больше они отделены от вождей, тем свободнее они сами и их творческие силы. Отождествление вождя с народом и историей наносит урон всем - жизнь требует постоянного движения и всё новых просторов. Тито это не совсем понимал: он ставил себя выше народа и создавал себе не то имя, какое создавали ему народ и движение. Все это будет у него когда-то отнято, потому что оно ему не принадлежит. Но он останется исторической, политически талантливой и во многом творческой фигурой: хотя он и пытался неразрывно связать со своим именем исторические свершения, государство и народ - он не лишился разума и не пошёл по пути безумного насилия.
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ - ВЫСШИЙ, НАИВЫСШИЙ ВИД СМЕЛОСТИ
Во время войны бросалась в глаза забота Тито о жизни партработников - "кадров", а еще больше - о своей собственной жизни. Более того, эта забота как бы возрастала по мере роста его роли и личной власти.
Это не были просто эмоции: в этом была и ответственность перед партией и восстанием - что станет с ними, если он погибнет? Но еще больше присутствовало в этом стремление увенчаться славой и насладиться абсолютной властью, завершив начатое дело - как я уже подчеркивал, для него власть и революционные свершения были почти что идентичны.
Но как бы мы не объясняли его поведение во время войны, он, без сомнения, интенсивно и чутко ощущал опасности, грозящие армии, а не только лично ему,.. Во время так называемого Четвертого наступления, в окружении на Раме и Неретве, он - как я уже говорил - всё время менял приказы, к тому же непродуманные. Но одновременно он провел и опасную, жертвенную и смелую перегруппировку для спасения раненых и при этом не только разбил немцев на Вилича Гумне, но и освободил партизан от "немецкого комплекса" - от укоренившейся уверенностив превосходстве немецкой армии, Тито вел себя на Неретве как тигр в клетке, который нашел лаз, слабое место - конечно, там, где находились итальянцы и четники - сквозь которое, расширяя его, прорвался партизанский поток.
В начале Пятого наступления, в мае 1943 года, у него вырвалось: "Ещё никогда мы не были в такой опасности!" Эту опасность чувствовали и другие, но не так интенсивно, не так остро ощущали необходимость принять немедленные спасительные меры по обороне. А были тогда ситуации, в которых судьбоносную роль играли часы, а может быть и минуты (например, выход Второй пролетарской бригады на Вучево до того, как немцы успели закрыть выходы из ущелья реки Пивы, занятие Четвертой черногорской бригадой Любинского Гроба, сыгравший решающую роль прорыв -по собственной инициативе - Первой пролетарской бригады). Личная роль Тито, как командира, в этих боях незначительна, а может и вообще никакая. Но он внушил всем ощущение опасности, заставил действовать немедленно и двигаться в ином направлении.
Потому что Тито - личность мгновения, легко поддающаяся впечатлениям, действующая инстинктивно, иногда чересчур быстро реагирующая в неожиданной и тяжелой обстановке. Такая личность всегда недомеривает и недодумывает. Паника и смелость, верное и ошибочное в ее реакциях перемешиваются, сменяя друг друга.
Но была у Тито и другая сторона - он мог интенсивно, внимательно и собранно думать о больших и решительных шагах. Всё, что находится посередине - в промежутке между мгновенными, инстинктивными и осмысленными, далеко идущими решениями - нетипично для Тито. Это - не Тито, хотя и он, главным образом, действует и живет "посередине", в серых банальных буднях: жизнь и состоит главным образом из серых банальных будней. Как будто в Тито живут две личности! Но это только кажется: нервный и порывистый Тито как бы подготавливает, накаляет и очищает того, второго Тито - продуманно действующего и одновременно стихийно хитрого, лукавого и смелого в принятии решений: а стихийная хитрость и смелость при принятии решений и составляют мудрость и храбрость политического вождя.
И действительно, при принятии политических решений, решений, имеющих судьбоносное значение, Тито необыкновенно смел. И почти непогрешим - если непогрешимость приравнять к успеху и если стать на точку зрения Тито и движения, которым он руководил.
Коминтерн, вернее советские службы, назначают Тито главой компартии Югославии в 1937 году - в период чисток, после ареста секретаря партии Горкичаи разгрома югославской эмиграции в СССР. На этот пост, с правом вето (это право облегчит его возвышение, хотя партия и без того уже была «сталинизирована» в идеологическом и кадровом смысле) он, естественно не мог бы попасть, если бы не был «проверен», если бы он не доказал свою верность советскому руководству - или свою неверность «фракционерам» своей собственной партии. Но ведь не его одного, а и других проверяли подобным образом, однако им, тем не менее, не удалось пробраться наверх. Тито потом рассказывал: "Я не дружил с фракционерами, делал своё дело и следил за тем, что говорил, в особенности в комнатах, где стояли телефоны».
Тито был единственным из руководителей, кому удалось нащупать путь сквозь ужас "проверок"и ликвидаций. Внешне это казалось не так уж сложно: он вовремя почуял приближавшуюся опасность. Но одновременно он был также уверен в правильности советского пути - ему помог врожденный инстинкт, предупреждавший его об опасности, а также то, что он уже выучился, уже понял значение власти для судьбы движения и идеи. Помню: Тито возвращался из Москвы, «столицы первой страны победившего социализма» нервным, обессилевшим, и с облегчением отдыхал среди подпольщиков - в "военно-фашистской", "монархофашистской" Югославии...
Но какова была его подлинная роль в чистках, в особенности чистке в рядах югославской партии?
Не откупился ли он предательством, не возвысился ли при помощи клеветы на товарищей?
Слова и понятия не всегда сохраняют свое содержание - их смысл зависит от социального и духовного климата, в особенности это касается политического языка, который подвергается извращениям - об этом блестяще сказано у Орвелла. Так, сотрудничество с советскими разведовательными органами в довоенный период - а "кое-где" и "кое для кого", конечно, и сегодня! - почиталось за честь и за знак доверия. Советские агенты были окружены таинственностью могущества и исключительности: коммунисты, так сказать, мечтали, чтобы им досталась высокая честь служить Советскому Союзу. В другой, в изменившейся обстановке эта честь превратится для коммунистов - конечно, не для всех и не повсюду - в позор и предательство. Примерно так же обстоит дело с "клеветой" и доносами на товарищей из собственной партии. Партию, без сомнения, "раздирали" фракции, а советские органы в Москве ещё поощряли этот процесс. Уже при Ленине мерилом революционности для коммунистов становится преданность Советскому Союзу, а при Сталине - преданность Сталину. Троцкисты, "правые" и другие "уклонисты" - сознательные и бессознательные - были преданы анафеме, а некоторые и арестованы еще до "Большого террора". Тито же стал секретарем в 1937 году - во время самого разгула массового террора.
Он давно предан Сталину, причем дело не только в том, что он, как и многие, считает Сталина самым верным последователем и наследником Ленина - тут преданность особая, преданность определенной, сталинской политике, одобрение сталинских методов.
Не следует забывать, что Йосип Броз уже в 1928 году был одним из самых выдающихся противников фракционности и защитником монолитности. А что это означало в жизни партии? Тотальная власть своей линии и своей фракции - неподдельный, чистой воды «сталинизм».
Йосип Броз был за Сталина, за сталинскую монолитность и сталинский Советский Союз ещё до отъезда в СССР в начале 1935 года. Более того, Тито - хотя не единственный, но один из числа наиболее активных и смелых - инициатор проведения нового, монополитического и монополистского духа в партии.
Сталин и "сталинизм" соответствуют его складу ума и его идеологической зрелости. Он и сам энергично чистит партию, и участие в московских чистках югославских коммунистов для него неизбежно и последовательно. При чем тут угрызения совести, если это "большевизация" - закалка, усиление партии, если это его путь вверх, к идеалу, к власти? Помню, как Тито и Кардель - а они, как бывшие "москали", знали большинство югославов, арестованных в СССР, -с облегчением говорили о том, как советская власть избавила нас от бремени фракционеров... Звучит как гротеск, когда сегодня Доланц и такие же как он, из "молодых титовцев" утверждают, что Тито еще до войны, причем чуть ли не в центре самой Москвы, начал борьбу против Сталина и "сталинщины". Если бы Тито не был предан Советскому Союзу, вернее Сталину - он не смог бы ни замаскироваться, ни удержаться даже среди нас, югославских "сталинистов", которые и Москвы то не видели. Москва во главе подлинно сталинской, вернее, ленинской партии поставила соответствующую личность.
И все же - по моим впечатлениям и заключениям - Тито в чистках принимал участие небольшое и второстепенное. Москва была до такой степени разочарована югославами, что по примеру польской партии чуть было не распустили и югославскую. Болгарин, ведающий кадрами Коминтерна, относился к Тито с недоверием. Характеристики на югославов, которые Тито, как секретарь, обязан был давать, он давал задним числом, причем почти все отрицательные - потому что эти несчастные уже до этого или были арестованы НКВД, или с помощью «подпольной кампании» заклеймлены как враги. А в органе ЦК "Пролетарий" Тито механически объяснял причину исключения из партии арестованных и "фракционеров" с помощью ярлыков, которые выкрикивал на судах Вышинский: "троцкист", "предатель", "фракционер", "шпион", "элемент" - чуждый или антипартийный.
И в Югославии партия тоже держала курс на непримиримую чистку, хотя ее символической фигурой не был Тито - Тито почти все время проводил заграницей. Но у нас в то время нельзя было сажать в в тюрьмы: новые поколения, погрязшие в революционной активности, мало знали о страдальцах в СССР,а то, что знали, быстро забывали. И Тито, будучи уже в стране, тоже был захвачен ответственной, самой ответственной работой. И хотя он поддерживал с Москвой и с советскими разведчиками связи, о которых остальные члены Политбюро или только догадывались, или знали столько, сколько он считал нужным - я думаю, что на деле и скрывать ему приходилось не так уж много: на практике Тито постепенно ускользал из-под советского контроля. Он обрадовался, когда мы ему, после его возвращения из Москвы в 1939 году сообщили, что нам удалось добиться финансовой независимости партии. Это был первый шаг к нашей независимости - гораздо более значительный, чем нам тогда казалось.
А когда началась война и революция, начались и политические расхождения между новой мировой державой и революцией небольшой страны. Тито с трудом находил общий язык с Москвой. Он испрашивал советы у Коминтерна, но решения по важным вопросам выносил сам или совместно с товарищами. Наиболее важные решения на Втором заседании АВНОЮ в Яйце 29 ноября 1943 года были приняты без ведома Москвы и вначале натолкнулись на ее несогласие. А эти решения превратили Югославию в федеративную страну, фактически прекратили существование монархии и узаконили революционную власть во главе с коммунистами.
По мере того как укреплялась революция, усиливались роль и вес Тито в Москве. Москва попалась в собственные сети: противодействовать усилению Тито, которое было следствием революционного процесса и планомерной пропаганды, советские верхи не могли, потому что сами безмерно раздували «культ» своего вождя, - а Югославия была независимой страной. Во время назревания конфликта с Советским Союзом «культ» Тито, в который составной частью входило подражание «культу» Сталина, помог Югославии усилить отпор и оторваться от СССР.
Могут, и не без основания, сказать, что демократическая Югославия оборонялась бы и без «культа» в силу самой своей социальной структуры. Но в то же время она уже была преобразована в авторитарную, автократическую страну и в ней почти не было других сил, кроме коммунистических. Советским претензиям можно было противопоставить лишь методы и мысли, схожие с советскими. В тогдашних условиях дать отпор Москве могла только ленинская, вернее сталинская партия, только что совершившая успешную революцию... Политика, проводящаяся только по правилам, схемам, примерам, осуждена на гибель.
Как Тито принял конфликт с Советским Союзом в 1948 году? Какова его роль в нем?
Хотя разрыв с Москвой произошел не сразу, а постепенно, Тито его, и психологически, и умом, перенес с большим трудом: близко стоявшие к Тито, а больше всех сам Тито, считали, что именно тогда начались у него нелады с желчным пузырём. Перед общественностью и не близкими ему людьми, а в особенности перед представителями советского посольства - когда приходилось с ними встречаться - он разыгрывал спокойствие и собранность. Это удавалось ему неплохо, он был талантливым политическим актером.
Конечно, советская разведка, у которой были свои люди в его окружении, знала правду о его состоянии. И перед близкими ему людьми Тито не мог, и не умел, скрывать свои подлинные переживания.
В эти дни и месяцы он легко возбуждался и сердился, но также хотел демонстрировать дружбу и сердечность по отношению к самым близким и ответственным товарищам - дружбу и сердечность, от которых он уже успел отвыкнуть, в особенности к концу войны и в первые послевоенные годы. Он уже стал революционным деспотом, самодержцем и диктатором, без нынешних, пусть неполноценных, институций и пользовался прочной поддержкой Москвы, которая, правда, в глубине души его недолюбливала... Конец войны и два-три года после её окончания поэтому запечатлелись в моей памяти как недостойные и нетворческие: из подающего надежды писателя и революционера я после победы превратился в помощника монарха, ещё более абсолютного, чем был король Александр, и пропагандиста неудавшегося, явно несправедливого государственного устройства. Я хотел отойти и снова заняться литературой. Об этом я даже говорил с Тито - он согласился, чтобы я распределил время между литературой и пропагандой.
Но ощущение приближавшегося конфликта с Москвой родило во мне новые мысли и надежду на какое-то обновление, освежило чувство долга по отношению к стране и к партии.
Но хотя Тито внутренне мучился разрывом с Москвой - он не только ничуть не колебался, но усиливал и свою, и государственную независимость.
Озлобленная и нервная реакция, присущая Тито в сложной и запутанной обстановке, во время конфликта с советским руководством усиливалась из-за его старых обязательств по отношению к Москве, а ещё больше - из-за заботы о Югославии, вернее о результатах своей деятельности. На Тито, без сомнения, давило его прошлое, но еще больше - настоящее...
Позже, вероятно в году 1949, он сказал по поводу югославских руководителей, ставших жертвами московских «чисток»: "Надо было их стукнуть по головам, но самих голов не снимать!" А в июне 1949 года в парке дворца Брдо возле Кранья, где подготавливался ответ, в котором руководство КП Югославии отказывалось от участия в заседании Информбюро в Бухаресте - где происходило "идеологическое" осуждение югославского ЦК, Тито самоотверженно и гневно сказал мне: "Пасть на своей земле - это остаётся!" Конечно, не он один придерживался такого мнения, но поскольку он стоял во главе, он был решительней остальных: политик, который не приносит себя в жертву своему делу, - не настоящий политик, если даже дело и не стоит той жертвы...
В ЦК и вне его были коммунисты, которые вели себя во время конфликта с Москвой не менее смело, чем Тито. Но роль Тито была наиболее важная решающая. Иначе и не могло быть, поскольку в его личности были сконцентрированы власть и авторитет.
Конфликт произошел бы и без Тито, и я верю, что сопротивление было бы успешным. Но если бы Тито покорился Москве - неизбежно наступили бы разброд и деморализация. Правда, пойти на это он никак не мог: он слишком хорошо изучил и знал большевистскую власть и Сталина, чтобы не понимать, что ожидало бы и его самого. Но это только один аспект, не хочу сказать - личный, поскольку личное у Тито невозможно до конца отделить от его политической деятельности. Другой аспект - отстоять, сохранить государственную власть и Югославию. Личная судьба его сплелась, если не слилась с личной абсолютной властью, которую в этот момент по стечению обстоятельств оспаривало только просоветское меньшинство в партии. Смелость и твердость в конфликте с Москвой были одновременно и долгом Тито, и его личной судьбой, и его исторической миссией.
По всей вероятности из-за такого переплетения личного и объективного, личной опасности и исторической миссии, Тито проявил свое особенное качество - своеобразную прагматическую проницательность.
Он тотчас ощутил, что его, вернее югославская сильная сторона заключается в государственности: Югославия - международно признанное государство, нападение на неё должно вызвать осложнения, даже в том случае, если бы не разгорелась "холодная война". Личная власть, которой он добился, в сознании Тито - и в реальности - совпадала с государственной независимостью.
Кроме того, Тито и не считал, что он силён в отвлеченных идеологических препирательствах: Кардель и я - позже, когда разгоревшийся с Советским Союзом спор стал наносить ущерб "нашей" партийной идеологии - должны были убеждать Тито, что мы упустим возможности, потеряем уверенность и равновесие, если не вступим в идеологическую борьбу с советской системой, не обоснуем свои позиции идеологически.
Среди узкого круга высшего руководства не было разногласий относительно сопротивления советскому давлению. Вначале были небольшие оттенки в точках зрения."Теоретическое" крыло - Кардель Кидрич, Бакарич, я и другие - напирало на усиление конфликта в области теории. Конфликт для этого крыла был выражением кризиса ленинизма, советской формы социализма. Тито, Ранкович и "практики" склонялись к сведению конфликта к сфере власти и государства.
Но вначале в головах и тех и других происходили целые бури - иногда я почти физически ощущал, как в их умах лопаются обручи унаследованных, механически воспринятых догм... Но одним лишь этим нельзя объяснить упрек Тито мне и другим, неназванным, который он бросил недавно. Через много лет после моего расхождения с ним, он пожаловался на то, что была убрана часть из его ответа на письмо Молотова и Сталина от 27 марта 1948 года. В этом ответе Тито сформулировал - действительно четко и обоснованно - какими должны быть отношения между социалистическими странами. Тито раздал этот текст для ознакомления перед заседанием Политбюро - это было характерно для тогдашней атмосферы и перемены в его поведении: раньше он этого никогда не делал!
Кто-то заметил - думаю, это был я - что эта часть особенно рассердит советское руководство, так как она касалась области, в которой они уже господствовали. Кардель, Ранкович и остальные присутствующие согласились с этим и настаивали, чтобы именно я обратил на это внимание Тито. На заседании я это сделал, и Тито это замечание принял без возражений... Вскоре, после 1949 года обе тенденции слились воедино: Тито принял идеологические нововведения - а потом, после смерти Сталина, снова их отбросил, как политический балласт и угрозу своему единовластию.
Несмотря на то, что Тито страдал от столкновения с Москвой - он это столкновение подготавливал.
Правда, готовил его не он один, и не он был в этом вопросе самым радикальным. Отношения с Москвой развивались зигзагообразно, пока не обозначились обычные советские стремления к экономическому и политическому господству. Мы то упирались, то уступали - в зависимости от оценок и обстоятельств, но не теряя управления и независимости. Мало-помалу мы начали в узком, а затем и в более широком кругу, бросать упреки советской системе и критиковать советскую политику по отношению к нам, а в некоторой степени и по отношению к Восточной Европе. Тито высказывался осторожно, но настойчиво - естественно, в самом узком кругу и только после того, как в его сознании создалось представление об опасности - грозящей лично ему, Югославии, его делу.
Это был мучительный процесс отрыва от догмы и реальности - от догмы и реальности, которые до вчерашнего дня были еще своими, собственными. Эта мука, эта внутренняя борьба не мешали Тито - а может быть обратным воздействием даже побуждали его на смелые и находчивые действия. В конфликте с Москвой, во время этого умственного и эмоционального напряжения были и промахи и впадения в крайности.
Особенно этим отличалась идея Тито - а это была главным образом его идея - вырвать Албанию из-под советского влияния и подчинить Югославии. Сталин и советское правительство как раз и использовали югославские преувеличенные и гегемонистские претензии к Албании как повод, чтобы начать нажим на Югославию и подчинить себе восточноевропейские страны. Большую роль в этих претензиях на Албанию играли попытки Тито подражать советской политике и одновременно защитить себя от нее. Но Тито разумно отступил перед советским и албанским отпором и предпочел реальное и выполнимое - оборону Югославии, себя самого и своего дела... Если бы югославские коммунисты в этом идеологическом конфликте давали более свободные формулировки, их отпор советскому экспансионизму мог бы увенчаться и более значительными и далеко идущими результатами - однако их руководство и вождь все еще находились под магическим влиянием власти и идеологии. Но не история - политическая борьба и политические связи - выбирает вождей, а вожди выбирают историю. В идентификации себя с историей, с делом, в котором он играл наиболее значительную роль - сила и слабость Тито: смелость и самопожертвование в важные исторические моменты,, но одновременно и ограничение течения жизни, уменьшение гражданских свобод, манипуляция людьми и народами...