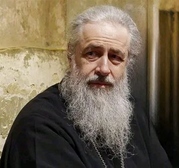Во вторник, 6 октября, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в двухчасовом интервью винницкому священнику Роману Макару изложил свою позицию по возможности автокефального статуса УПЦ, сообщает «Союз православных граждан».
В частности, митрополит Феодосий ответил на вопрос о.Романа, почему он не обращается к Святейшему Патриарху Кириллу в то время как недавно обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею.
Владыка отметил, что «к Патриарху Варфоломею у меня было чисто церковное обращение о церковной жизни, о церковных проблемах и о церковных перспективах. А Патриарху Кириллу вы предлагаете мне написать письмо о политических проблемах, с политическими вопросами, с политическими точками зрения и с предложениями политических выходов из политической ситуации».
«Отец Роман, вот сейчас вы даете изначально подспудные политические оценки всему тому, что происходит. Я еще раз напоминаю, что мы в разных условиях, в неравных», - подчеркнул Владыка Феодосий.
Архиерей прямо указал на уголовную ответственность: «Если давать противоположные политические оценки тому, что происходит, сразу подпадаешь под 436-ю статью прим. 2 Уголовного кодекса Украины, которая подразумевает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества».
«Правблог» приводит выдержки из интервью Владыки Феодосия:
«Я ни в коем случае не утверждаю, что Киевская митрополия или Украинская Православная Церковь сейчас находятся в расколе. Мы не имеем права делать такие заявления, об этом может судить только Кириархальная Церковь, имеющая на то все канонические права, в данном случае — Русская Православная Церковь. Однако разница в ситуациях принципиальна. Здесь мы обращаемся к 15-му правилу Двукратного собора, которое вызывает всеобщий интерес и множество различных интерпретаций, но при этом относится именно к подобной ситуации. Для полного раскрытия вашего вопроса я позволю себе зачитать это правило, текст которого специально распечатал.
Отцы и братья, обращаю ваше внимание на 13-е, 14-е и 15-е правила Двукратного собора. Как совершенно точно отметил владыка Сильвестр, это единая группа правил. Утверждения о том, что они касаются лишь поминовения патриарха, митрополитов или епископов, являются либо результатом невнимательного прочтения, либо сознательной манипуляцией. Владыка Сильвестр указывал, что 13-е и 14-е правила налагают на священника и епископа такие же обязательства поминать своего митрополита, какие 15-е правило налагает на митрополита в отношении патриарха, и в этом он абсолютно прав. Однако он не назвал самой сути этих правил, а я хотел бы на нее указать. Эти правила не столько о поминовении, сколько о единстве со своим предстоятелем — патриархом, митрополитом или епископом. Они — о тех, кто отделился от него, а следовательно, и от своей Кириархальной Церкви.
Процитирую основную часть 15-го правила: "Если какой-либо пресвитер, епископ или митрополит дерзнет разорвать общение со своим патриархом и не будет возносить его имя...". То же самое говорится в 13-м и 14-м правилах в отношении епископа или митрополита. Возношение имени — это лишь внешняя форма, "обложка", видимый знак единения. Но правило говорит не о форме, а о сути — о разрыве общения.
Чтобы вы поняли, насколько это серьёзно, я приведу толкования авторитетных канонистов разных веков. В толковании Зонары говорится о тех, "которые под предлогом каких-либо обвинений отступают от своих предстоятелей и расторгают единство Церкви", при этом о поминовении он вообще не упоминает. У Аристина: "...митрополит дерзнет на подобное против патриарха... некоторые отступят под предлогом преступления". И снова о поминовении — ни слова. У Вальсамона: "...по отношению к патриарху, когда кто-нибудь дерзновенно отступит от общения с ним". Опять же, о поминовении не говорится. Матфей Властарь говорит о том же.
14-е и 15-е правила Двукратного собора гласят о запрете разрывать общение со своим Патриархом и Кириархальной Церковью. Именно за это предполагаются прещения, в то время как поминовение вторично. В этом и заключается принципиальная разница между событиями XV века в Константинополе и Русской Церкви и нашей нынешней ситуацией с Украинской Православной Церковью в XXI веке.
Разорвать общение со своим Патриархом, не подвергаясь прещениям, имеет право тот епископ, митрополит или священник, чей Патриарх публично проповедует ересь либо заключил унию с еретиками, как это было в XV веке.
В нашем случае Патриарх не проповедует ересь и не заключал унии с еретиками. Тем не менее, ряд епископов нашей Церкви заявляют о разрыве с Патриархом и с Кириархальной Церковью, совершая тем самым прямое нарушение 15-го правила Двукратного собора.
Я не утверждаю, что наша Церковь нарушает это правило, и не говорю, что Киевская митрополия его нарушает. Я говорю о том, что некоторые спикеры свободно и публично заявляют, что, по их мнению, наша Украинская Православная Церковь совершенно спокойно нарушает это правило.
Что касается поминовения, буквально пара штрихов. Относительно поминовения: существует греческая практика, практика нашей Церкви, сербская практика, болгарская практика. Где-то поминают только своего епископа, где-то — митрополита области, где-то — Патриарха, а где-то не поминают своего Патриарха. Но нигде в греческом мире, где не поминают Патриарха, нет никакого разрыва общения с ним.
Давайте приедем в Грецию, будь то на территорию новых епархий, где Константинопольский патриархат имеет каноническое влияние, либо на территорию других епархий. Да, Патриарха не поминают, поминают своего епископа или, в крайнем случае, предстоятеля Элладской Церкви. Но разве кто-то разрывал общение? Разве где-то в тех храмах вы найдете отсутствие герба Патриарха, его книг или других атрибутов единства с патриархией?
Что касается 15-го правила собора, необходимо запомнить раз и навсегда: оно не о поминовении, а о разрыве общения. Это две разные вещи.
Более того, суть вопроса, как конфета, может существовать и без фантика, без внешней оболочки. Приведу пример, который вы, вероятно, уже слышали.
Так, Патриарх Алексий II в своё время в некоторых западных епархиях нашей Украинской Православной Церкви давал благословение опускать его поминовение в случае необходимости, если это представляло опасность или нецелесообразность пастырскую на приходе, в это же время не разрывая общение с Кириархальной Церковью.
Нет оболочки, нет внешней формы, а сама суть вопроса остается — правило не нарушается.
Поэтому то, что мы говорим о XV веке и о сегодняшнем веке — это разные вещи».
Митрополит Феодосий высказался о Феофании: «Что касается собора в Феофании, то, насколько я понимаю, владыка Сильвестр много и открыто говорил о происходившем там. Вероятно, Блаженнейший дал ему благословение на снятие покрова конфиденциальности, который до того времени лежал на решениях собора. Раз владыка позволил себе такие высказывания, то и я скажу, но очень аккуратно, чтобы никому не навредить.
Решения собора в Феофании не предполагают нарушения сути 15-го правила, а лишь затрагивают его форму. Они касались именно того, о чём говорил владыка Сильвестр: смены формата поминания с нашего традиционного, существовавшего десятилетиями, а может, и веками, на греческий. Именно потому, что речь шла не о сути правила, а лишь о его форме, многие архиереи на это согласились, тем более что в условиях войны это было оправданно.
Речь шла о том, что в епархиях поминают своего епархиального архиерея как господина. Епархиальный архиерей поминает Блаженнейшего Владыку как своего господина и отца, а Блаженнейший, в свою очередь, поминает Патриарха. Таким образом, правило не нарушается, иерархическая вертикаль сохраняется. Форма греческая, а не наша, но в условиях войны она допустима. Поэтому многие на это согласились, и в таком формате, повторюсь, не нарушалась главная суть 15-го правила Двукратного собора.
К сожалению, не все епархии, согласившиеся на такой принцип, поняли его одинаково. Владыка в подкасте утверждал, что недопонимания не было, но я считаю, что оно всё же могло возникнуть. Вероятно, многие поняли его не так, поскольку позже, когда выяснилось, что поминание (речь о Патриархе) происходит не совсем так, как было оговорено, некоторые решили поминать самостоятельно, чтобы не нарушать правила.
Кроме того, на соборе было сказано, что ни на кого не будет оказываться давление. Каждый волен придерживаться той традиции, которую считает для себя важной и принципиальной. Другими словами, было позволено поминать так, как кто хочет, — и это было сказано с самой высокой трибуны. Поэтому утверждения, что поминающие нарушают решения собора в Феофании, идут против соборного разума Церкви и ставят себя в позицию раскола, — неправда. Всё было совсем по-другому.
Когда придёт время, можно будет ознакомиться с видеозаписями собора, которые, я уверен, существуют, и посмотреть, какие вопросы поднимались и как они решались. Я не говорю о том, кто за кого голосовал, — рассказывать об этом неэтично. Это право каждого епископа — голосовать и менять свою точку зрения. Но можно будет увидеть, какие вопросы поднимались, как они озвучивались и в какой форме были приняты. Если бы вопрос был поставлен так же радикально, как его озвучивают сейчас, я думаю, и результаты голосования были бы иными. Не считаю возможным говорить дальше о соборе в Феофании, поскольку это может навредить Украинской православной церкви, и некий покров конфиденциальности должен сохраняться».
Также Владыка Феодосий высказался о мироварении:
«Я категорически против мироварения в Киеве. Более того, я был временным членом Священного Синода, когда принимался этот вопрос, и голосовал против. Впоследствии, согласно регламенту Священного Синода, я подавал объяснительную записку, где подробно излагал свою позицию, объясняя, почему голосовал против мироварения.
Почему я выступаю против мироварения? Потому что наша Церковь на сегодняшний день не автокефальна, а мироварение — это безусловный атрибут автокефальной Церкви. Это не просто таинственное действие или таинство, это именно атрибут автокефальной Церкви.
Да, если подходить к вопросу с точки зрения чистого эксперимента, то есть таинственности и ниспослания благодати Божией через миро на людей в таинствах миропомазания или при освящении храмов, то, конечно, мироварение может совершить любой епископ. Более того, епископ может не совершать мироварение, а возложением рук совершить таинство миропомазания над новокрещённым».
«Миро действительно может изготовить любой епископ, - пояснил Архипастырь. - Точно так же, как и рукоположить нового епископа могут любые два епископа. Будет ли рукоположение третьего епископа двумя другими законным и благодатным? Да, будет. Но что, если они не договорились? Предположим, я в своей Черкасской епархии, имея двух викариев, возьму их и начну рукополагать всех монашествующих священнослужителей, служащих в моей епархии. Будут ли эти хиротонии благодатными? Станут ли эти архимандриты и иеромонахи епископами после возложения наших рук и чтения соответствующих молитв? Да, станут. Будут ли они канонически признанными? Будут ли они считаться каноническими епископами? Нет. Они будут чадами непослушания. И при первой же возможности Священный Синод запретит их в служении как чад непослушания.
Что касается мироварения, это прерогатива автокефальной Церкви. Более того, прекрасно известно, что целый ряд автокефальных Церквей сами не варят миро, а смиренно получают его у одной из исторических Патриархий, в частности, у Константинопольского патриарха. Поэтому, с моей точки зрения, которую я изложил в аналитической записке для Священного Синода, присваивать себе это право самостоятельно, без благословения Кириархальной Церкви, не совсем верно. По крайней мере, это следовало обсудить. И главное, практической необходимости в этом никакой нет. Такова моя позиция: я считаю, что этого делать было нельзя».
Также Владыка Феодосий заявил, что нельзя нарушать порядок, законность и регламент даже в обычных мирских делах:
«Я полагаю, что решения, принятые в Феофании, во-первых, ничего принципиально не изменили в самостоятельности нашей Церкви. В этом и не было никакой необходимости, поскольку административная самостоятельность нашей Церкви безусловна и безупречна, и именно ею следовало аргументировать во всех дебатах с государственной властью во время войны. Во-вторых, эти решения могут носить временный характер до их канонической оценки всей полнотой Кириальной Церкви, что произойдёт не раньше, чем после окончания войны. Такова моя точка зрения, и на сегодняшний день мы живём в соответствии с этими решениями.
Принятые решения касались неучастия архиереев Украинской Православной Церкви в соборах Русской Православной Церкви, а также неучастия Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Священном Синоде Русской Православной Церкви — этого сейчас не происходит. В условиях военных действий мы следуем этим решениям. Насколько они вышли или не вышли за рамки своих компетенций, насколько они каноничны или неканоничны, станет ясно со временем, когда все эти вопросы будут рассмотрены и решены.
Поэтому в то время, будучи временным членом Священного Синода, когда на заседаниях ещё обсуждался вопрос о потенциальном собрании или соборе, я настойчиво просил ни в коем случае не придавать будущему собранию и его решениям канонического веса. Я указывал, что их легитимность обязательно будет пересмотрена. К сожалению, произошло то, что произошло. Ситуация, однако, не разрешилась окончательно, пока идёт война. Я считаю, что чисто схоластическая логика, предполагающая, что война закончится, мы все соберёмся и решим все вопросы, неверна. Во всём должен быть порядок и законность; нельзя нарушать порядок, законность и регламент даже в обычных мирских делах.
Тем более в вопросах духовных, ещё раз подчеркну, нельзя подходить так, будто спасение у нас "в кармане" и можно "поиграть с огнём". Существует определённое правило получения автокефалии. Даже если подавляющая часть Церкви выступает за автокефалию, даже если она назрела или перезрела, даже если Церковь готова – всё равно есть определённый порядок. Автокефальный статус испрашивается у Кириальной Церкви, и Кириальная Церковь принимает по этому поводу решение, причём не сама по себе, а с участием епископов Автономной Церкви».
«Если ставить целью получение автокефалии, тогда можно искать прецеденты, на которые следует равняться. Однако далеко не все озадачены этой целью. Например, лично я не озадачен подобным вопросом, и, думаю, многие разделяют моё мнение. Поэтому я не представляю, какие прецеденты искать в истории, чтобы решить вопрос, который, как мне кажется, совершенно несвоевременен, а может быть, и в принципе никогда не будет своевременным.
Мы не знаем, что будет завтра в нашей стране. Серьёзное обсуждение темы автокефалии в условиях войны — это, скорее, лишь интеллектуальный диспут, поскольку практического применения, как мне кажется, у этого нет», - подчеркнул митрополит Феодосий.












_митр_ Черкасский и Каневский.png)
 митр Черкасский и Каневский___.jpg)
 митр Черкасский ООН.jpg)
 митр_Черкасский.jpg)