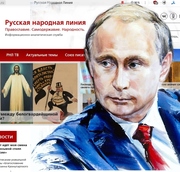В «Дневнике писателя» за 1877 год Ф.М.Достоевский подметил характерную особенность, появившуюся в русском народе пореформенного времени, – «это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым нужна правда, одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут всё решительно».
Достоевский увидел в них «наступающую будущую Россию» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Т. 25. Л.: Наука, 1983. – С. 57; далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы).
В самом конце XIX века другой писатель, В.Г.Короленко, вынес из летней поездки на Урал поразившее его открытие: «В то самое время, как в центрах и на вершинах нашей культуры говорили о Нансене, о смелой попытке Андрэ проникнуть на воздушном шаре к Северному полюсу, – в далёких уральских станицах шли толки о Беловодском царстве и готовилась своя собственная религиозно-учёная экспедиция».
Среди простых казаков распространилось и окрепло убеждение, что «где-то там, "за далью непогоды", "за долами, за горами, за широкими морями" существует "блаженная страна", в которой Промыслом Божиим и случайностями истории сохранилась и процветает во всей неприкосновенности полная и цельная формула благодати. Это настоящая сказочная страна всех веков и народов, окрашенная только старообрядческим настроением. В ней, насаждённая апостолом Фомой, цветёт истинная вера, с церквами, епископами, патриархом и благочестивыми царями... Ни татьбы, ни убийства, ни корысти царство это не знает, так как истинная вера порождает там и истинное благочестие».
Оказывается, ещё в конце 1860-х годов донские казаки списывались с уральскими, собрали довольно значительную сумму и снарядили для поисков этой обетованной земли казака Варсонофия Барышникова с двумя товарищами. Барышников отправился в путь через Константинополь в Малую Азию, далее – на Малабарский берег, наконец, в Ост-Индию... Экспедиция возвратилась с неутешительным известием: Беловодья ей найти не удалось. Спустя тридцать лет, в 1898 году, мечта о Беловодском царстве вспыхивает с новой силой, находятся средства, снаряжается новое паломничество. «Депутация» казаков 30 мая 1898 года садится на пароход, отправляющийся из Одессы в Константинополь.
«С этого дня, собственно, и началось заграничное путешествие депутатов Урала в Беловодское царство, и среди международной толпы купцов, военных, учёных, туристов, дипломатов, разъезжающих по свету из любопытства или в поисках денег, славы и наслаждений, замешались три выходца как бы из другого мира, искавшие путей в сказочное Беловодское царство» (В.Г.Короленко У казаков. Из летней поездки на Урал. Глава «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство» // Короленко В.Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. СПб., 1914. – С. 177-198).
Короленко подробно описал все перипетии этого необычного путешествия, в котором, при всей курьёзности и странности задуманного предприятия, проступала всё та же, отмеченная Достоевским, Россия честных людей, «которым нужна одна лишь правда», у которых «стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества» (25, 57).
В великое духовное паломничество втягивалась к исходу XIX века не только верхушка русского общества, к нему устремлялась вся Россия, весь её народ. «Эти русские бездомные скитальцы, – замечал Достоевский в речи о Пушкине, – продолжают и до сих пор своё скитальчество и ещё долго, кажется, не исчезнут». Долго, «ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится» (26, 137).
«Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил, – говорил очередной странник в нашей литературе, Лука, из пьесы М. Горького "На дне". – Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле – особые люди населяют... хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке – завсяко-запросто – помогают... и всё у них славно-хорошо! И вот человек всё собирался идти... праведную эту землю искать. Был он – бедный, жил – плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, – духа он не терял, а всё, бывало, усмехался только да высказывал: "Ничего! Потерплю! Ещё несколько – подожду... а потом брошу всю эту жизнь и – уйду в праведную землю..." Одна у него радость была – земля эта...
И вот в это место – в Сибири дело-то было – прислали ссыльного, учёного... с книгами, с планами он, учёный-то, и со всякими штуками... Человек и говорит учёному: "Покажи-ка ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?" Сейчас это учёный книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел – нет нигде праведной земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной – нет!..
Человек – не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои ни к чему, если праведной земли нет... Учёный – в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нет. Ну, тут и человек рассердился – как так? Жил-жил, терпел-терпел и всё верил – есть! а по планам выходит – нету! Грабёж!.. И говорит он учёному: "Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый..." Да в ухо ему – раз! Да еще!.. (Помолчав.) А после того пошёл домой – и удавился!..» (М.Горький Собр. соч.: В 18 т. – Т.16. М.,1963. – С. 123-124).
1860-е годы обозначили крутой исторический перелом в судьбах России, порывавшей отныне с подзаконным, «домоседским» существованием и всем миром, всем народом отправлявшейся в долгий путь духовных исканий, отмеченный взлётами и падениями, роковыми искушениями и уклонениями, но путь праведный именно в страстности, в искренности своего неизбывного стремления обрести правду. И, пожалуй, впервые откликнулась на этот глубинный процесс поэзия Некрасова.
Поэт начал работу над грандиозным замыслом «народной книги» в 1863 году, а заканчивал смертельно больным в 1877-м, с горьким сознанием недовоплощённости, незавершённости задуманного: «Одно, о чём сожалею глубоко, это – что не кончил свою поэму "Кому на Руси жить хорошо"». В неё «должен был войти весь опыт, данный Николаю Алексеевичу изучением народа, все сведения о нём, накопленные "по словечку" в течение двадцати лет», – вспоминал о беседах с Некрасовым Г.И.Успенский (Г.И.Успенский Собр. соч.: В 9 т. – Т. 9. М.,1967. – С. 70).
Однако вопрос о «незавершённости» «Кому на Руси жить хорошо» весьма спорен и проблематичен. Во-первых, признания самого поэта субъективно преувеличены. Известно, что ощущение неудовлетворённости бывает у писателя всегда, и чем масштабнее замысел, тем оно острее. Достоевский писал о «Братьях Карамазовых»: «Сам считаю, что и одной десятой доли не удалось того выразить, что хотел» (30, кн.1, 102). Но дерзнём ли мы на этом основании считать роман Достоевского фрагментом неосуществленного замысла? То же самое и с «Кому на Руси жить хорошо».
Во-вторых, поэма была задумана как эпопея, то есть художественное произведение, изображающее, с максимальной степенью полноты и объективности, целую эпоху в жизни народа. Поскольку народная жизнь безгранична и неисчерпаема в бесчисленных её проявлениях, для эпопеи в любых её разновидностях (поэма-эпопея, роман-эпопея) характерна незавершённость. В этом заключается её видовое отличие от других форм поэтического искусства:
Эту песенку мудрёную
Тот до слова допоёт,
Кто всю землю, Русь крещёную,
Из конца в конец пройдёт,–
так выразил своё понимание эпического замысла Некрасов ещё в поэме «Коробейники» (Н.А.Некрасов Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. – Т. 4. Л.: Наука, 1982. – С. 73).
Эпопею можно продолжать до бесконечности, но можно и точку поставить на каком-либо высоком отрезке её пути.
До сих пор исследователи творчества Некрасова спорят о последовательности расположения частей в поэме, так как умирающий поэт не успел сделать окончательных распоряжений на этот счёт.
Но примечательно, что сам этот спор невольно подтверждает эпопейный характер «Кому на Руси жить хорошо». Композиция этого произведения состоит из отдельных, относительно автономных частей и глав. Внешне эти части связаны темой дороги: семь мужиков-правдоискателей странствуют по Руси, пытаясь разрешить не дающий им покоя вопрос: кому на Руси жить хорошо? В «Прологе» как будто бы намечена и чёткая схема путешествия – встречи с помещиком, чиновником, попом, купцом, министром и царем. Однако эпопея лишена чёткой и однозначной целеустремлённости. Некрасов не форсирует действие, не торопится привести его к итогу. Как эпический художник, он стремится к полноте воссоздания жизни, к выявлению всего многообразия народных характеров, всей непрямоты, всего петляния народных тропинок, путей и дорог.
«Специфика жанра проявилась и во внешней обособленности отдельных частей поэмы Некрасова», – замечает А.И. Груздев (А.Груздев Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М.; Л., 1966. – С. 13).
Мир в эпопейном повествовании предстаёт таким, каков он есть: неупорядоченным и неожиданным, лишённым прямолинейного движения. Автор эпопеи допускает «отступления, заходы в прошлое, скачки куда-то вбок, в сторону». По определению Г.Д.Гачева, «эпос похож на ребёнка, шествующего по кунсткамере мироздания: вот его внимание привлёк один герой, или здание, или мысль – и автор, забыв обо всём, погружается в него; потом его отвлёк другой – и он так же полно отдается ему» (Г.Д.Гачев Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М.: Просвещение, 1968. – С. 101).
Введённые в эпопею «Кому на Руси жить хорошо» сказочные мотивы позволяют Некрасову свободно и непринуждённо обращаться со временем и пространством, легко переносить действие из одного конца России в другой, замедлять или ускорять время по сказочным законам. Объединяет эпопею не внешний сюжет, не движение к однозначному результату, а сюжет внутренний: медленно, шаг за шагом проясняется в ней противоречивый, но необратимый рост народного самосознания, ещё не пришедшего к итогу, ещё находящегося в трудных дорогах исканий. В этом смысле и сюжетно-композиционная рыхлость поэмы не случайна: она выражает своей несобранностью пестроту и многообразие народной жизни, по-разному обдумывающей себя, по-разному оценивающей своё место в мире, своё предназначение.
Стремясь воссоздать движущуюся панораму народной жизни во всей её полноте, Некрасов использует и всё богатство устного народного творчества. Но и фольклорная стихия в эпопее выражает постепенный рост народного самосознания: сказочные мотивы «Пролога» сменяются былинным эпосом, потом лирическими народными песнями в «Крестьянке» и, наконец, песнями Гриши Добросклонова в «Пире на весь мир», стремящимися стать народными и уже частично принятыми и понятыми народом. Мужики прислушиваются к его песням, иногда согласно кивают, но последнюю песню, «Русь», они ещё не услышали: он ещё не спел её им. А потому и финал поэмы открыт в будущее, не разрешён:
Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею (5, 235).
Но странники не услышали песни «Русь», а значит, ещё не поняли, в чём заключается «воплощение счастия народного». Выходит, что Некрасов не допел свою песню не только потому, что смерть помешала. Песни его не допела в те годы сама народная жизнь. Более ста лет прошли с тех пор, а песня, начатая великим поэтом, всё ещё допевается.
«Кому на Руси жить хорошо» и в целом, и в каждой из своих частей напоминает крестьянскую мирскую сходку. На такой сходке деревенские жители решали все вопросы совместной жизни. Сходка не имела ничего общего с современным собранием. На ней отсутствовал председатель, ведущий ход обсуждения. Каждый общинник по желанию вступал в разговор или перепалку, отстаивая свою точку зрения. Вместо голосования действовал принцип общего согласия. Недовольные переубеждались или отступали, и в ходе обсуждения вызревал «мирской приговор».
Сотрудник некрасовских «Отечественных записок», писатель-народник Н.Н.Златовратский так рассказывает об этом: «Вот уже второй день, как у нас идёт сход за сходом. Посмотришь в окно, то в одном, то в другом конце деревни толпятся хозяева, старики, ребятишки: одни сидят, другие стоят перед ними, заложив руки за спины и внимательно кого-то слушая. Этот кто-то махает руками, изгибается всем туловищем, кричит что-то весьма убедительно, замолкает на несколько минут и потом опять принимается убеждать. Но вот вдруг ему возражают, возражают как-то все, сразу, голоса подымаются выше и выше, кричат в полное горло, как и подобает для такой обширной залы, каковы окрестные луга и поля, говорят все, не стесняясь никем и ничем, как и подобает свободному сборищу равноправных лиц. Ни малейшего признака официальности. Сам старшина Максим Максимыч стоит где-то сбоку, как самый невидный член нашей общины...
Здесь всё идёт начистоту, всё становится ребром; если кто-либо, по малодушию или из расчёта, вздумает отделаться умолчанием, его безжалостно выведут на свежую воду. Да и малодушных этих, на особенно важных сходах, бывает очень мало. Я видел самых смирных, самых безответных мужиков, которые в другое время слова не заикнутся сказать против кого-нибудь, – на сходах, в минуты общего возбуждения, совершенно преображались и, веруя пословице "на людях и смерть красна", набирались такой храбрости, что успевали перещеголять заведомо храбрых мужиков. В минуты своего апогея сход делается просто открытой взаимной исповедью и взаимным разоблачением, проявлением самой широкой гласности» (Н.Н.Златовратский Н.Н. Деревенские будни. (Очерки крестьянской общины) // Златовратский Н. Н. Собр. соч.: В 2-х т. – Т. 2. СПб., 1891. – С. 379, 381).
На эту же особенность крестьянской мирской сходки обращал внимание в своих письмах «Из деревни» А.Н.Энгельгардт: «Я уже говорил в моих письмах, что мы, люди, не привыкшие к крестьянской речи, манере и способу выражения мыслей, мимике, присутствуя при каком-нибудь разделе земли или каком-нибудь расчёте между крестьянами, никогда ничего не поймём. Слыша отрывочные, бессвязные восклицания, бесконечные споры с повторением одного какого-нибудь слова, слыша это галдение, по-видимому, бестолковой, кричащей, считающей или измеряющей толпы, подумаем, что тут и век не сочтутся, век не придут к какому-нибудь результату. Между тем подождите конца, и вы увидите, что раздел произведён математически точно – и мера, и качество почвы, и уклон поля, и расстояние от усадьбы, всё принято в расчёт, что счёт, сведён верно и, главное, каждый из присутствующих, заинтересованных в деле людей, убеждён в верности раздела или счёта. Крик, шум, галдение не прекращаются до тех пор, пока есть хоть один сомневающийся.
То же самое и при обсуждении миром какого-нибудь вопроса. Нет ни речей, ни дебатов, ни подачи голосов. Кричат, шумят, ругаются – вот подерутся, кажется, галдят самым, по-видимому, бестолковейшим образом. Другой молчит, молчит, а там вдруг ввернёт слово – одно только слово, восклицание, – и этим словом, этим восклицанием перевернёт всё вверх дном. В конце концов, смотришь, постановлено превосходнейшее решение, и опять-таки, главное, решение единогласное» (А.Н.Энгельгардт Из деревни. 12 писем. М., 1956. – С. 218-219).
Вся поэма-эпопея Некрасова – это разгорающийся, постепенно набирающий силу мирской сход. Он достигает своей вершины в заключительном «Пире на весь мир». Однако «мирской приговор» всё-таки не выносится. Намечается лишь путь к нему, многие препятствия устранены, по многим пунктам обозначилось движение к согласию. Но итога нет, жизнь не остановлена, сходки не прекращены, эпопея открыта в будущее.
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук