
Советская культура сегодня рассматривается отдельными исследователями и местами добросовестно (с опорой на источники), и достаточно внимательно, однако, к сожалению, преимущественный тон исследований призван доказать её ущербность и неосновательность, что исключает любое сочувствие и действительное понимание процессов, произошедших с русским обществом в XX-м веке. Чаще всего такой заранее избранный ракурс присущ либерально настроенным толкователям: по их коллективному мнению, Советский Союз был вздорной сказкой, которая так и не стала былью, и самые высокие мечты об общественных преобразованиях в сторону сугубой справедливости сочетались в нём исключительно с насильственной правоприменительной практикой, и народное рабство, искажение природной натуры в сторону отъявленно дикую и подлую якобы сделалось основным результатом трёх четвертей века.
С подобной точкой зрения хочется бесконечно спорить, отстаивая уже не преимущества строя, но общую гуманистическую направленность и искусства, и тем более его отдельных проявлений, которые из генетической памяти вымываются огромным трудом невесть откуда взявшихся преобразователей школьных программ, по общему духу определяемым как верные соратники и последователи Джорджа Сороса. Также невесть откуда взявшаяся (на самом деле – очень даже хорошо известно, откуда) «культура отмены» подразумевает, прежде всего, изничтожение любых здоровых начал, включая национальные, спиливание опор, на которые нация опирается в последние столетия, и, надо сказать, эта работа, ведущаяся вполне интенсивно, уже начинает приносить некоторые плоды: «поколение ЕГЭ» в «лучшем» случае просто не осведомлено ни о каких базисных величинах, а в худшем – знать их не желает.
Выплёскиваемый младенец в данном случае – русская культура, и в том числе советская, маркированная (стигматизированная, как сейчас принято говорить) насилием: в окрашенных радикальным феминизмом культурологических изысках на тему СССР её иначе, чем «культурой насилия» и не называют.
Именно сегодня государство и Церковь должны, как видится, приложить вполне определённые усилия для того, чтобы интегральный вывод о советской культуре ничем не напоминал беспредельное очернение, которым славились попытки «прогрессивных» журналов «Огонька» вымазать ворота погибавшей тогда и в конце концов действительно погибшей страны дёгтем. В словесности – тем более.
Если иметь в виду цель не искусственно вписать в советские художественные произведения христианскую идею, а действительно там её отыскать, ничего не «вчитывая» и не выдумывая, сборник подобных статей о скрытых от советского читателя контекстах мог бы стать заметным явлением, в том числе и для преподавателей литературы как в школах, так и в высших учебных заведениях.
ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ. Святочная история про Чука и Гека (Володю-Вовчука и Серёжу-Сергейку, сыновей совершенно реального начальника геологической партии Серёгина, по некоторым отрывочным данным, репрессированного в конце 1940-х гг.) отливает сейчас оттенками, совершенно не представимыми ни самому Гайдару, ни трём поколениям его читателей.
Во-первых, за искажёнными советским воляпюком именами мальчиков проглядывают и основатель Православия на Руси святой равноапостольный князь Владимир, и святой преподобный Сергий Радонежский как утвердивший её раз и навсегда, а, во-вторых, смысл рассказа видится теперь паломничеством не к отцу со строчной буквы, а к Отцу с прописной.
ТИПОЛОГИЯ СВЯТОЧНЫХ СКАЗАНИЙ. Композиция святочного рассказа не Бог весть как сложна, и отчасти схематична (по американскому филологу Джону Кавелти (1972) – «формульна»).
Типологически диккенсовское «жалобное» повествование – о нищем ребёнке, которому под Новый год улыбнулось долгожданное счастье – свалились вдруг, например, деньги (милостыня, наследство, случайно найденный волшебный клад), или нашлась родня, и даже не обязательно богатая или родовитая.
Чуть более продлённая схема трёхчастна: устойчивое социальное положение главного героя в одночасье терпит крах – обрушиваются испытания, но, с честью выдержанные, они выступают залогом возврата равновесия, перенос дискурса на более высокий виток развития. И только одного в святочном повествовании делать не следует в любом случае – опрокидывать сюжет во мрак, то есть, направлять героев из благополучия или неблагополучия в болезни и смерть в целях якобы назидания. У того же Диккенса в «Рождественской песни в прозе» на чёрствую жадину и ростовщика Скруджа нисходит раскаяние и просветление, и тем самым трёхчастная схема оказывается скрупулёзно соблюдённой.
Святочный (рождественский) рассказ тяготеет к ослепительной точке в самом конце. Много ли в советской прозе таких сказаний, вопрос исключительно риторический: нет, не так уж и много, и отчасти потому, что победа от календаря, и тем более церковного, тогда не зависела, но воспринималась победой в любой день и любую же погоду, подразумевая свершения реальные, а вовсе не духовные. Базис-надстройка, мы же помним.
И тем не менее архетипы потайным образом продолжали работать.
ПРЯМЫЕ ЦИТАТЫ. «Жил человек в лесу возле Синих гор» – неужели начитанный глаз не уловит в самой первой фразе совершенно стандартного, привычного уху каждого посещавшего церковь хотя бы раз начала русского жития? Сравним с так называемым Синодальным переводом: «Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла».
У Гайдара: «Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск» – отметка вторая. «– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовет нас всех к себе в гости» – отметка третья.
Нужно ли говорить о том, что значат эти слова для чуткого религиозного сознания? Истинно, что Господь уже сошёл, но двери его дома распахнуты для всех, сказал бы христианин, и был бы совершенно прав.
ЛИКИ БРАТЬЕВ. Собравшиеся, таким образом, именно в паломнический путь к Отцу Чук и Гек, естественно, не Каин и Авель, однако стихии они прямо противоположные, настоящие Арлекин и Пьеро.
В тексте граница между ними проводится прямо: «У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни».
Эта пара, конечно, не Штольц и Обломов, но – земля и воздух, дело и размышление, рационализм и поэзия, и только за поэтическим Геком (два стихотворения то ли его собственного, то ли автора-рассказчика сочинения приводятся как бы между прочим) и его постоянными ночными просыпаниями, этаким лунатизмом наяву, рассказчик следит непрестанно.
Уморительно место, когда мальчики, носящие имена великих русских святых, размышляют о волшебстве и святости:
– Я не знаю, – заколебался Чук. – Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.
– И хорошо он нагадывал?
– Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.
– Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?
– Конечно, жулик, – согласился Чук. – Да, я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо…
Этакий материализм здравости, отвержение любого потустороннего смысла, презрение к «старой» народной вере, ах, Володя и Серёжа, следующие к своей мечте в царстве уже осуществлённой мечты!
В «Чуке и Геке» Москва маркируется ничем иным, как рукотворными звёздами Кремля, что убеждает в том, что власть рабочих и крестьян позаимствовала их прямо на небе, притянула к постройкам силой всепобеждающей правды и справедливости. Рай, пусть нищий, живущий не впроголодь совсем недавно, частями уже выстроен, просматривается в графическом контуре чертежа. И как минимум, уже испускает потоки алого пролетарского света во все уголки мира наш вполне себе библейский Град на Холме.
ФАБУЛА. Рассказ держится одной вещественной деталью – пропавшей (выброшенной при очередной детской ссоре в окно и впоследствии не найденной) отцовской телеграммой, в которой он просит семью задержаться в Москве из-за своей непредвиденной экспедиции. Если бы не пропажа, ни Чуку, ни Геку, ни их матери не пришлось бы долгие дни дожидаться отца в лесной сторожке.
Из Ветхого Завета памятны две вести от Господа, благословение людям владычествовать над Раем и запрет на вкушение плодов от познания Добра и Зла. Несмотря на объяснимые натяжки, интонация Завета в скрытой форме в двух телеграммах как будто бы просматривается: при нарушении запрета на приезд Чук и Гек мнутся, подобно библейским Адаму и Еве, перекладывая вину друг на друга.
КОЗНИ И НЕСТРОЕНИЯ. Даже такое комфортабельное путешествие, как в XX-м веке, не избегает искушений. Ночное происшествие в поезде (попадание рассеянного Гека в чужое купе вместо своего), «страшенный» козёл на станции, принятие отвязанной ямщицкой лошади за голодного медведя, и, наконец, пустая геологическая база.
У Гайдара столько возможностей поставить мальчиков с матерью в безвыходное положение! – от неурядиц в пути до злодейских людей, голода и хищников, но каждое происшествие оказывается только призраком беды. Ограждённые могучей стеной советского лада (правопорядка), герои не сталкиваются ни с чем действительно грозным. Единожды «пропадает» один из братьев – пока другой ходил с матерью за водой, случилось прикорнуть в «засадном» сундуке. Некоторое замешательство (впрочем, без особенного отчаяния), и собака таёжного сторожа находит его.
УКРАШЕНИЕ ЁЛКИ. В старинном обычае украшать новогоднее деревце проступают черты символического жертвоприношения. В геологической сторожке ничего для этого нет, включая саму ель. Читается почему-то строками торжественного рецепта:
Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.
НУМЕРОЛОГИЯ. Достоверно выходят из леса, возвращаясь на базу, девять непоименованных автором человек, включая отца. Привычно пересчитывая их (апостолов, следовательно, восемь), хочется досчитать ровно до тринадцати, и, представьте себе, получается! В число апостолов органически входят ямщик, привезший семью в тайгу, и, конечно же, сторож, по волевым ухваткам напоминающий Иоанна Богослова. Это уже десять, а всех вместе с двумя мальчиками персонажей ровно двенадцать, плюс мать, которая то ли Мария, то ли Мария Магдалина.
Без уехавшего ямщика их тринадцать, и таким образом встреча Нового года преображается в новую тайную вечерю, коммунистическую трапезу новых людей нового века. Читатель мог чувствовать что-то подобное, а мог и пропустить мимо восприятия, но токи события, о котором он мог и не слышать, но о котором его предки говорили веками, не могли не овевать прядей его волос над разгорячённым лицом.
ОТЕЦ. Новый год в тайге, естественно, не самая главная причина праздника. Главная – встреча.
Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул в крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку.
Отец – «господин благий», и у Гайдара – немного святой Николай, он же Санта-Клаус и Пэр Ноэль в одном лице:
А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.
– заметить классический жест усаживания на колени куда как просто.
Отец – не просто главный в партии. Он – распорядитель застолья, пира.
– Теперь садитесь,– взглянув на часы, сказал отец.– Сейчас начнется самое главное.
«Самое главное» – бой кремлёвских курантов, центра советской Вселенной: Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.
В советском космосе соблюдено единство и равенство всех при, как ни странно, предоставленной каждому свободе воле.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Высшая точка.
ИНЫЕ ПРИМЕТЫ. Культуролог сразу же заметит, что в подобной картине мира личное счастье есть производное от счастья всех остальных, но основное внимание следует обратить на хронотоп (объёмное время) рассказа: оно ещё отсчитывает годы, но счёт часов представляет собой такую же условность, как и мнимые угрозы смерти от катастроф, алчных убийц или недостатка съестных припасов в мире, где восторжествовала правда.
Я бы не рискнул назвать советский мир состоянием после гибели старого мира, этаким универсальным postmortem, где грёзы представляются продолжением бытия, но сознание правоты каждого живущего в нём неопровержимо свидетельствует о том, что граждане СССР у Гайдара – обитатели своеобразной Вальгаллы, обители бессмертных богов, одни из которых решили вдруг наведаться к другим.
Фигура матери – разве не богоподобна она, не всесильна, не находится под покровом высшей справедливости? Этой московской матроне, как и римской, чужды сомнения, плохое настроение, любые «нервы», подавленность. У неё, как проговаривается автор, «весёлый» нрав, а это признак скорее высшего сословия. Многие толкователи «Чука и Гека» задавались вопросом о том, из каких социальных слоёв происходит эта бесстрашная женщина, и приходили к практически однозначному выводу: знать в безбожных 1930-х годах детали празднования Рождества могла только дворянка. Аристократизм её несомненен в каждой черте, а дети её, подрастая, наследуют власть отца.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. Святочная тематика неотделима от образа семьи. Если родственное уходит за границы дискурса, повествование самым решительным образом ослабляется, становится локальным и как минимум камерным. Именно поэтому, наверно, важно длить святочные мотивы в современной культуре: кто знает, не раньше ли покрылся бы трещинами и рухнул в пыл веков советский столп, если бы не могущественная мифология, созданная Гайдаром, Николаем Островским, Лавренёвым, Симоновым, Фадеевым и многими другими.
Пока новая русская культура после крушения Советского Союза не создала ничего равного гайдаровской сказке-были, смешно рассуждать о значимости этих трёх десятилетий: нет в современной русской словесности ни должной стати, ни величавости, ни убеждённости, ни внутреннего образа Рождества и святок, Пасхи и Воскресения.
Меж тем, не только для культурологов, но и для любого квалифицированного читателя, а не «глотателя газет» совершенно очевидно то, что состоятельность культуры оценивается по тому, насколько зримо и ощутимо она воспроизводит канон традиции, способна преображать его в соответствии с духом времени. Немыслимо полагать, что последние великие русские рассказы и стихотворения написаны сто лет назад и больше никогда не повторятся. Следует, как видится, стремиться к тому, чтобы и постсоветская культура вместо вечных рефлектирующих колебаний и откровенно бесплодной желчи перешла в гораздо более агрегатное для национальной культуры состояние, но для этого понадобится ни что иное, как вера, кризис и крайний дефицит которой сегодня более чем ощутим.
Сергей Сергеевич Арутюнов, доцент Литературного института им. Горького, научный сотрудник Издательского совета Московской Патриархии















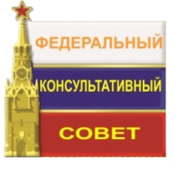



















1.
"Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса."
"Гайдар писал тогда самый изумительный свой рассказ – «Голубую чашку». И прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком."
А теперь о главном -
«Жил человек в лесу возле Синих гор» (с)
Септуагинта, Иов, начало Первого Стиха -
ἄνθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ ...(Ιωβ.1:1)
Анфропос (человек) тис (который) ин (был) ен (в) хора (месте, местности) > ...синен хора. Очень похоже звучит.