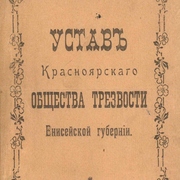6. Остановка штабом Северного фронта и Ставкой военной операции на Петроград
Примеров подавления восстаний в городах Российской империи начала XX в. имеется несколько. В «Кровавое воскресенье» верные правительству части разогнали и расстреляли демонстрации. После вооруженных стычек 10 января в столице наступило успокоение. В декабре 1905 г. Семеновский полк подавил вооруженное восстание в Москве, в том числе и с применением артиллерии. Решительные генералы подавляли восстание в Красноярске и Чите. 1-2 марта в распоряжении Николая II «твердого» военачальника не нашлось. Военная операция по подавлению восстания была остановлена Ставкой и штабом Северного фронта. Для остановки войск, направлявшихся на Петроград, Ставка использовала несколько предлогов. Это было восстание Лужского гарнизона, перекрывшего путь к столице, переход частей на сторону восставших, достижение договоренности с Думой и вымышленный приказ императора.
Чаще всего в телеграммах Ставки упоминался аргумент Луги. 1 марта в военных автомобильных мастерских Луги был создан «Временный революционный комитет» под руководством унтер-офицера А.П.Заплавского. Их боевая дружина из 200 человек должна была занять почту, телеграф и железнодорожную станцию. Было решено задерживать все эшелоны и военнослужащих направлявшихся в Петроград, планировалось разоружить остальной гарнизон.[1] М.В.Родзянко была направлена телеграмма, что вся власть находится в распоряжении Лужского гарнизона, который ждет распоряжений Думы.[2] В 12.40 в Лугу была отправлена телеграмма В.Н.Некрасова, с просьбой сообщить подробности.[3]
Одним из старших начальников Лужского гарнизона был генерал Г.Г.Менгдон (1861-1917), бывший командир Кавалергардского полка, заведовавший «пунктом слабосильных лошадей» и сборным пунктом кавалерийских частей. Он предпринял ряд попыток удержать гарнизон в повиновении. Вечером 1 марта Менгдон, полковник Н.Н.Эгерштром и поручик В.К.Клейнмихель были убиты солдатами. Единодушия среди частей гарнизона не было и других офицеров их подчиненные от расправы спасли, взяв на поруки. После 2 часов ночи 2 марта «Комитетом» был разоружен головной эшелон Бородинского полка. По воспоминаниям ротмистра Н.В.Вороновича эшелон удалось разоружить, прибегнув к обману. Офицеров заставили сдать оружие под угрозой бутафорской пушки и пулеметов без лент. Разоруженный эшелон был тут же отправлен в Псков.[4] Если датировка Вороновича верна, то остановка Бородинского полка в Луге была связана с приказом штаба Северного фронта об остановке продвижения эшелонов, отданного в час ночи 2 марта. Сдача оружия первым эшелоном полка произошла уже по местной инициативе.
В 19.55 генерал-квартирмейстер Северного фронта В.Г.Болдырев сообщил в Ставку, что вероятно царские поезда из Пскова не пойдут, так как задержка в Луге.[5] Время отправления телеграммы помечено на ленте, вклеенной в бланк, но рукой вписано время 20 часов. Это сделано для того, чтобы связать телеграмму со следующей. В 20 часов 1 марта со Ставкой провел переговоры начальник военных сообщений Северного фронта К.М.Ушаков. Он сообщал для передачи своему начальнику Н.М.Тихменеву, что литерные поезда прибыли в Псков в 19 часов. Есть сведения, что гарнизон Луги перешел на сторону Комитета, там задержан четвертый эшелон войск, идущих на Петроград (три прошли до Александровской). К Пскову подходит головной эшелон войск, отправленных из Креславки. Все коменданты петроградских станций заменены офицерами, назначенными Комитетом.[6] В Думу в это время поступали сообщения о том, что восставший гарнизон грабит город, а подходящие эшелоны готовятся к штурму.[7] По воспоминаниям Н.В.Вороновича разоруженный эшелон пришел в Лугу гораздо поздней. Сведений о том, откуда штаб Северного фронта получил эту информацию пока не обнаружено. Никаких действий для разблокирования «Лужской пробки» Ставка не предприняла. Это не удивительно, так как «пробка» была закреплена штабом Северного фронта приказом об остановке похода на Петроград в час ночи.
К событиям в Луге Ставка и штаб Северного фронта возвратились в 0.50 2 марта. Переход гарнизона Луги на сторону революционного правительства тогда стал поводом для остановки и возвращению на фронт войск. Н.В.Рузский сохранил телеграмму В.Г.Болдырева командующему 5-й армии А.М.Даргомирову с приложением рапорта командира 68-го Бородинского полка. Она датирована 2 марта, без указания времени, но идет за телеграммой отосланной в час ночи. Сообщалось, что эшелон полка, состоящий из батальона и пулеметной команды, не доходя до Луги был разоружен частью лужского гарнизона. Второй эшелон находится в 10 милях от Луги. Командир полка Федоров ждал дальнейших распоряжений (до 1.03.1917 командиром Бородинского полка числился Седачев Владимир Константинович (1872-1928).[8] Следов того, что эта телеграмма была передана в Ставку не обнаружено. О распоряжениях данных командиру полка ничего не известно.
В 10.03 2 марта М.В.Алексеев сообщал Ю.Н.Данилову: «Я имею, однако, основания не вполне доверять сообщению Родзянко, ибо 1 марта имел сведения, что Луга занята представителями Временного правительства, имевшими определенные инструкции не пропускать через Лугу литерных поездов»,[9] - сообщал Алексеев. Откуда эти сведения получил Алексеев неизвестно. Такая разноголосица в документах заставляет предположить, что блокирование Луги было акцией, согласованной со Ставкой. Об этом известили штаб Северного фронта и Ставку, которые впоследствии использовали эту информацию как аргумент остановки войск.
Другая версия была выдвинута в 3.30 2 марта М.В.Родзянко. В разговоре с Рузским он объяснял причины своего не приезда в Псков: «Эшелоны, высланные Вами в Петроград, взбунтовались, вылезли в Луге из вагонов, объявили себя присоединившимися к Государственной Думе, решили отнимать оружие и никого не пропускать, даже литерные поезда».[10] В 5.32 2 марта это сообщение дословно было передано Ю.Н.Даниловым М.В.Алексееву.[11] Никаких вопросов у командующих переход Бородинского полка на сторону восставших не вызвал. Однако, этот аргумент в циркулярной телеграмме Алексеев использовать не стал. Эта история имела продолжение. в 18.30 2 марта начальник отдела воинского движения Ставки И.А.Бармин связался с помощником начальника военных сообщений северного фронта полковником Карамышевым. Цель разговора была выяснить время прибытия в Псков А.И.Гучкова. Карамышев сообщал, что Бородинский полк частично присоединился к Лужскому гарнизону. Поэтому Тарутинский полк в своем возвращении на фронт Лугу будет объезжать. На вопрос об обстоятельствах присоединения полка к восставшим Карамышев отвечать не стал. Он только сообщил, что два эшелона полка задержаны в Луге возвращением им отобранного оружия. «Значит, никто не переходил на их сторону?», - спрашивал Бармин. «Об этом обещали подробно рассказать по прибытии эшелонов из Луги в Псков. По телефону стесняются»,[12] - отвечал Карамышев. Таков был уровень достоверности информации, которой оперировали генералы штабов Северного фронта и Ставки.
В 0.20 2 марта из Пскова была отправлена телеграмма императора Н.И.Иванову в Царское Село (с которым не было связи) о том, что до его прибытия никаких мер не предпринимать.[13] Сообщение вовсе не предполагало остановку войск. Император планировал выяснить обстановку у М.В.Родзянко и на следующий день прибыть в Царское Село. Вслед за этим в 0.23 Николай II отправил телеграмму жене о том, что прибыл в Псков к обеду и надеется на скорую встречу.[14] По мнению П.В.Мультатули эта телеграмма была фальшивкой, так как все телеграммы жене император отправлял на английском языке.[15] Даже если эти две телеграммы подлинные дальнейшие события диктовали не они, а действия генералитета. После этого начались переговоры об остановке войск, направлявшихся в Петроград. Все указания давались лишь со слов Рузского о том, что это повеление императора.
В 0.50 2 марта В.Г.Болдырев сообщал А.С.Лукомскому о том, что на 2.30 планируется разговор Рузского и Родзянко и что гарнизон Луги перешел на сторону восставших (что было известно в Ставке с 19 часов 1 марта). В виду ситуации в Луге Болдырев ставил вопрос об обратном возвращении войск «о чем главкосев будет иметь всеподданнейший доклад у государя». Сообщалось, что Данилов уехал на вокзал сообщить Рузскому о времени его разговора с Родзянко (это при том, что такая информация была у Данилова еще в 22.30).[16] Еще за 25 минут до этого Данилов был занят выполнением поручений императора. Такая разноголосица телеграмм не может не вызывать вопросы. Но, Ставку такие странности не заинтересовали.
Н.В.Рузский во всех вариантах своих интервью описывает только дарования манифеста об ответственном министерстве. Дальше следовал его разговор с Родзянко. Ю.Н.Данилов вспоминал, что, получив сообщение о восстания в Луге, около полуночи уехал на вокзал к царскому поезду. Вышедший от императора Рузский доклад о Луге делать не стал, так как Николай II уже распорядился о возвращении в Двинск отряда 5-й армии.[17] Этой вставки нет в более ранней книге Данилова о великом князе Николае Николаевиче. Она появилась после того, как были опубликованы телеграммы штаба, сохраненные Рузским. Но притянуть свои воспоминания к телеграммам Данилову удалось плохо. После часа ночи последовал еще целый ряд распоряжений Ставки и штаба Северного фронта, якобы согласованных с императором.
Во время разговора в 3.30 2 марта Н.В.Рузский говорил М.В.Родзянко: «Государь Император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт, все то, что было в пути».[18] Как показывают переговоры Ставки и штаба Северного фронта, Рузский лгал. Телеграмма о возвращении войск была направлена в Ставку только в 12 часов 2 марта. До этого остановку войск штаб Северного фронта и Ставка проводили по собственной инициативе.
Телеграммой в час ночи Ю.Н.Данилов сообщал в Ставку В.Н.Клембовскому о том, что «последовало Высочайшее соизволение вернуть войска, направляющиеся на станцию Александровскую, обратно в Двинский район, где расположить их распоряжением командарма пять».[19] Копии телеграммы были направлены командующему 5-й армией А.М.Даргомирову, начальнику военных сообщений Северного фронта К.М.Ушакову и Н.И.Иванову (получил только 2 марта в 15.05). Подтверждений того, что Николая II запрашивали по этому вопросу не обнаружено.
В дело сразу включилась Ставка. А.С.Лукомский в 1.58 запрашивал Рузского о том возможно ли войска Западного фронта вернуть в места дислокации, а отправку войск с Юго-Западного фронта отменить?[20] В 2.30 Данилов отвечал, что император отдыхает и распоряжение об этих войсках может последовать только утром. По его словам, главкосевом было отдано самостоятельное распоряжение задержать войска на станциях. Предлагалось применить ту же меру в отношении войск Западного фронта распоряжением Ставки.[21] В сборнике телеграмм, сохраненных Рузским, на этой стоит его надпись «По повелению Государя».[22] Но, еще до этого, 2.02, Лукомский отменил отправку войск Западного фронта, а те полки что находиться в пути приказал остановить. Мотивировка была следующая: «Вследствие невозможности продвигать эшелоны войск, направленных в Петроград далее Луги и разрешения Государя Императора вступить главкосеву в сношения с председателем Государственной думы и высочайшего соизволения вернуть войска в Двинский район».[23] В этом случае Лукомский не стал ждать ни санкции императора, ни ответа Северного фронта. Ни на какой приказ императора об остановке войск у Лукомского ссылок не было.
В 2.30 Ю.Н.Данилов сообщал командиру 42-го армейского корпуса А.А.Гулевичу: «Последовало высочайшее повеление об отмене назначения батальона Выборгской крепостной артиллерии, предназначавшегося для отправки в направлении на Петроград».[24] И это в то время, когда по словам Данилова император спал и распоряжений давать не мог. В 3.12 начальника военных сообщений Западного фронта В.Н.Колюбакина извещали: «Государь Император повелел отправленные в Петроград части 9 пехотной и 2 кавалерийской дивизий задержать на больших станциях; те части, которые еще не отправлены, не грузить».[25]
Телеграммы Ставки и штаба Северного фронта, отправленные от часа ночи до 2.30 2 марта показывают, что войска направленные на подавление восстания были остановлены помимо воли императора.
В 10.03 М.В.Алексеев предписывал штабу Северного фронта отправить офицера для того, чтобы узнать настроение войск отправленных в распоряжение Н.И.Иванова и установить с ним связь.[26] В 11.00 начальник Управления военных сообщений на ТВД Н.М.Тихменев информировал Ставку о месте нахождения частей направленных на Петроград.[27] В то же время состоялся разговор М.В.Алексеева с А.А.Брусиловым подтверждающий, что остановка войск была самодеятельностью штабов. «По-видимому, из Пскова посланы были повеления генералу Иванову возвратиться как ему самому, так и вернуть все войска, направленные из армии в Царское Село», – сообщал Алексеев. На что Брусилов отвечал: «Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен. Немедленно телеграфируйте через главкосева телеграмму со всеподданнейшей просьбой государю императору».[28] Несмотря на то, что следов телеграммы Алексеева императору не обнаружено, на основании Высочайшего соизволения штаб Северного фронта в 12.00 передавал в Ставку приказ «вернуть войска, направленные к Петрограду с Западного фронта и … о отмене посылки войск с Юго-Западного фронта».[29] И это все еще до того, как Николаю II были доложены телеграммы главнокомандующих. Первая из них А.А.Брусилова пришла в Ставку в 12.45.[30] Финальный указ об остановке войск был инспирирован Ставкой после того, как между главнокомандующими был согласован вопрос отречения. В 11.07 А.С.Лукомский провел разговор с командующим Румынским фронтом В.В.Сахаровым. Он сообщал, что параллельно переговоры ведутся со всеми фронтами и А.Е.Эверт и Н.В.Рузский на отречение уже согласны. «По-видимому, как ни грустно, а придется согласиться с этим единственным выходом»,[31] - отвечал Сахаров. Указ об остановке войск, данный помимо императора, свидетельствует о том, что воля Николая II командующих уже не интересовала.
К этому можно прибавить рассказы Н.В.Рузского, в которых он ни словом не упоминал о финальной остановке войск. В первом варианте интервью 7 марта он рассказывал, что в 10 часов пришел к императору с генералами Даниловым и Саввичем, передал телеграммы командующих и Николай II заявил, что готов отречься от престола.[32] Во втором варианте рассказа С.Н.Вильчковскому Рузский сообщал, что когда он в 10.15 входил для доклада к императору Алексеев только еще отправил свою циркулярную телеграмму. В этом рассказе Рузский передал императору свой разговор с Родзянко и во время беседы пришла циркулярная телеграмма Алексеева. Николай II обещал подумать о возможности отречения и отпустил генерала.[33] В рассказе великому князю Андрею Владимировичу Рузской сообщал, что принес на доклад императору телеграмму А.Е.Эверта с просьбой отречения и тут же передали такую же телеграмму В.В.Сахарова. «Государь внимательно читал, но ничего не отвечал»,[34] - рассказывал Рузский. Документы показывают, что все три рассказа Рузского вновь являются ложью. Но даже в этой лжи не нашлось места для приказа об остановке войск. Ни в одном рассказе Николай II в 12 часов дня 2 марта не принимал решения об отречении. Официально это произошло в 15 часов дня и только после этого войска могли быть остановлены. Остановке войск до окончательного решения должен был воспрепятствовать начальник штаба Верховного главнокомандующего, так как это лишало императора главного козыря в переговорах.
Еще долго, после указа об остановке войск, Ставка пыталась связаться с Н.И.Ивановым. В 15.50 А.С.Лукомский еще раз просил В.Г.Болдырева отправить офицера на поиски Иванова. От него было необходимо получить сведения о намерениях, положении и обстановке.[35] Так же регулярно Ставка запрашивала Псков о том, где находятся литерные поезда. М.В.Алексеев боялся отъезда императора в Царское Село. Только в 21 час Ю.Н.Данилов сообщил Алексееву о приказе императора об отозвании Иванова в Могилев и назначении главнокомандующим Петроградским военным округом Л.Г.Корнилова.[36] В 22.57 был наконец назначен офицер для поиска Иванова. Это был штаб-офицер для поручений при штабе Северного фронта полковник В.В.Ступин. Он лично связался со Ставкой, чтобы уточнить необходимость своей поездки.[37] Лишь после этого разговора А.С.Лукомский сообщил Данилову, что офицера посылать не надо так как Иванов отозван к месту своей службы.[38]
В исторической литературе господствует мнение о том, что войска сочувствовали восстанию в Петрограде и не стали бы применять оружие против восставших. По этой причине вопросы выдвижения и остановки фронтовых частей на Петроград исследованы слабо. Примеры действия отдельных частей в Петрограде показывают, что при наличии воли командиров войска могли выполнять поставленные перед ними задачи. Дело в том, что четких указаний войскам не поступало, конкретных задач перед командирами не ставилось. Ставка отказалась от руководства подавлением восстания, Н.И.Иванов, уполномоченный императором, к этой задаче приступить не успел.
«Кулак» под Петроградом нужен был не для подавления восстания, а для переговоров. Как выяснилось впоследствии эти силы очень пригодились бы и генералам Ставки. Опираясь на них Ставка могла бы диктовать Петрограду свою волю. Центром отмены операции стал Псков и это не удивительно, там находился император, который один и мог давать указания.
2 марта М.В.Алексеев утверждал, что операция Н.И.Иванова была остановлена, а войскам дан приказ возвращаться на фронт по приказанию из Пскова. Начальник штаба Верховного главнокомандующего отрицал свою инициативу в этом вопросе и действительно за его подписью нет ни одного распоряжения на эту тему. Только в 12.00 2 марта в Ставку был передан приказ Николая II о возвращении войск в места дислокации. Между тем фактическая остановка операции на Петроград произошла по распоряжению из Ставки и Пскова в ночь на 2 марта.
Вся эта операция была проведена штабом Северного фронта и Ставкой до 3.30 ночи, когда начался разговор Рузского с Родзянко. Рузский сообщил председателю Государственной Думы: «Император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт все то, что было в пути».[39] Это была ложь, никакого приказа о возвращении войск император не давал. Надо полагать, что остановка войск была согласована заранее с революционным правительством в Петрограде. Тогда же был решен вопрос об отречении. Официальная остановка войск в 12 часов 2 марта была притянута к возможному принятию решения императором. Это делалось для общественного мнения. Воля Николая II генералов уже не интересовала.
Ни «дарование» ответственного министерства, ни разговор Рузского и Родзянко, ни циркулярная телеграмма Алексеева и ответы главнокомандующих являются главным фактором отречения, а отмена военной операции против Петрограда. После этого не только Николай II, но и Ставка полностью утратили контроль над ситуацией. По сути, генералитет согласился выполнить все требования, которые будут предъявлены революционным правительством. История показывает, что дальше со Ставкой Петроград уже не считался. Если и существовали какие-то договоренности, то они были полностью нарушены Временным правительством.
7.Подготовка «отречения» Николая II
Сохранились две неотправленные телеграммы М.В.Алексеева, они позволяют понять какие вопросы беспокоили начальника штаба в ночь на 2 марта. Первая из них была «Предписание Штаба верховного главнокомандующего главнокомандующему войсками Петроградского военного округа Н.И.Иванову о событиях в гг. Петрограде, Кронштадте и Москве…», авторы «Сборника» указывали дату «не позднее 2 марта». Сообщалось, что в Петрограде успокоение, в Кронштадте беспорядки, Балтийский флот перешел на сторону Думы, в Москве части переходят на сторону революции. Алексеев просил императора издать «акт, который может внести успокоение в население, и указывая на то, что лица, докладывающие его величеству противное, бессознательно и преступно ведут к гибели Россию и династию».[40] Речь шла о том, что военная операция Иванова на Петроград потеряла целесообразность. До Москвы и Балтийского флота Иванов достать не мог. Можно с уверенностью сказать, что беспорядки были подготовлены и в других городах страны.
Черновик неотправленной телеграммы М.В.Алексеева к М.В.Родзянко сохранился среди бумаг Н.А.Базили. «В настоящий грозный час необходимо прежде всего избегнуть раскола в армии, защищающий наш фронт. Для предотвращения этого считаю своим долгом немедленно по соглашению с Вами принять решение для сообщения его от лица органа, объединяющего действия армии, как Его Величеству, так и во всей армии».[41] Иначе говоря, Ставка по соглашению с Родзянко была готова принять решение определившего судьбу империи. В обоих телеграммах нет упоминаний ответственного министерства.
В остановке войск, идущих на Петроград, М.В.Алексеев личного участия не принимал. По официальным данным разговор Н.В.Рузского с М.В.Родзянко продолжался с 3.30 до 7.30 2 марта. Объяснить такую протяженность содержанием разговора невозможно. В 5.30 сводка разговора была отослана в Ставку, по другим сведениям, разговор в Ставку передавался параллельно с другого аппарата. Первоначально Рузский выяснил причины, по которым Родзянко не смог приехать в Псков. Родзянко сообщил, что Луга заблокирована восставшим гарнизоном и он боялся оставить Петроград, так как «верят только мне и исполняют только мои приказания».[42] Затем Рузский сообщил о даровании ответственного министерства во главе с Родзянко и предложил опубликовать манифест 2 марта. Родзянко ответил, что решение запоздало, войска деморализованы и убивают офицеров, ненависть к императрице дошла до крайних пределов, министры заключены в Петропавловскую крепость. Председатель Думы высказывал опасения, что может быть арестован и он. Рузский отвечал, что необходимо найти средство для усмирения страны и спрашивал о перспективах решения династического вопроса (первый поднял проблему отречения). По словам Родзянко во всех городах войска переходят на сторону Думы и требуют отречения в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича. Родзянко произнес длинную речь, в которой критиковал политику императора. Рузский сообщил, что войскам Иванова приказано ничего не предпринимать, а император велел вернуть на фронт все подразделения. Родзянко отвечал, что назначил Временное правительство, которое обеспечит армию и наладит железнодорожное сообщение. В заключении Родзянко заявил, что «переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней. Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу».[43] Последняя фраза была ключевой во всем разговоре. В случае сопротивления Николаю II обещали гражданскую войну, в случае добровольного отречения нормальная жизнь России должна была быть восстановлена. Рузский обещал передать их разговор императору. Запись разговора носила следы многочисленных правок.
Речь Родзянко была политическим манифестом, переполненным ложью: войска, посланные в Петроград, не переходили на сторону восставших, Родзянко не руководил восставшими, «одна из страшнейших революций» охватывала только Петроград, заключение в крепость Родзянко не грозила. «Везде войска становятся на сторону Думы и народа», «ненависть к династии дошла до крайнего предела», он назначил Временное правительство, обещал «полное единение всех партий», - все это было ложью. Из этой речи было совершенно непонятно от чьего имени говорит Родзянко. В 10.03 2 марта М.В.Алексеев телеграфировал Ю.Н.Данилову: «Я имею, однако, основания не вполне доверять сообщению Родзянко».[44] При этом разговор Рузского и Родзянко стал главным аргументом в требовании отречения. Он использовался в отношении императора и командующих фронтами. Можно предположить, что это был только повод для реализации уже давно созревшего плана.
При желании Н.В.Рузский мог скрыть содержание беседы с Родзянко или изменить его запись любым образом. Участник разговора Ю.Н.Данилов подтверждал, что в текст вносились изменения. «Рузской чувствовал себя настолько нехорошо, что сидел у телефонного аппарата в глубоком кресле и лишь намечал главные вехи того разговора».[45] По словам Данилова, лента разговора тут же передавалась Болдыреву для немедленной отправки в Ставку Алексееву. Болдырев записал в дневнике, что вместе с Ползиковым (адъютант Данилова) он «составил краткую суть разговора Рузского с Родзянко для ставки». В составленной Болдыревым телеграмме Рузский вычеркнул подробности по династическому вопросу «подумают еще, что я был между ними посредником в этом вопросе».[46] Могла быть параллельная передача и последующая сводка разговора, эти версии не отрицают друг друга. Ставке надо было дать время на обдумывание ситуации и согласования с командующими. В 5.30 Данилов телеграфировал Алексееву: «По приказанию главкосева, сообщаю вкратце сущность разговора генерал-адъютанта Рузского с председателем Государственной Думы».[47] И это в то время, как разговор Рузского с Родзянко, по официальным сведениям, закончился только в 7.30. В 6.30 Рузский уже отдавал распоряжения по поводу публикаций указов Временного правительства.[48] Очень вероятно, что текст разговора был составлен заранее и в 3.30 просто передавался в штаб Северного фронта.
Среди телеграмм Ставки сохранился черновик «Предписания» М.В.Алексеева А.Е.Эверту, А.А.Брусилову, В.В.Сахарову, Н.Н.Янушкевичу. Это не датированный документ (предположительно составлен с 3.30 до 10.15 2 марта) позднее стал основой известной циркулярной телеграммы командующим, отправленной в 10.15. Алексеев давал пересказ предложений Родзянко об отречении и сообщал, что эта информация будет доложена императору утром. Дальше говорилось: «По мнению главкосева, трудно ожидать согласия государя на предъявляемые требования, так как даже убедить согласиться на ответственное министерство было очень трудно».[49] Алексеев рассказывал, что в Царском Селе не осталось верных войск, дворец занят восставшими, царской семье грозит опасность. «Отказ государя от предъявляемых требований может привести к кровопролитному междоусобию и гибели России»,[50] - писал Алексеев. Это был уже откровенный шантаж. Но своего собственного мнения Алексеев пока не озвучивал. Он обещал сообщить командующим о решении императора.
По словам Н.В.Рузского его разговор с М.В.Родзянко «был обсужден и обдуман в Ставке и там было принято решение – получить от государя согласие на отречение».[51] Поскольку ситуация была очень рискованная её обсуждали представители Алексеева и Рузского – Лукомский и Данилов. Первый в своих воспоминаниях об этом не упоминал (вообще путал хронологию событий). Данилов писал, что не спал всю ночь и очень волновался о том, что отречение государя запоздает и не прекратит хаоса в армии.[52] Разговор между генералами об отречении шел как о свершившемся факте, они лишь обсуждали как сложно будет добиться согласия императора. В 9 часов утра 2 марта (предположительно, телеграмма не датирована) Лукомский от имени Алексеева требовал разбудить императора и срочно доложить ему о разговоре с Родзянко. «Генерал Алексеев убедительно просит безотлагательно это сделать, так как теперь важна каждая минута и всякие этикеты должны быть отброшены»,[53] - телеграфировал Лукомский. Остается только предполагать, что делали четыре часа в Ставке по получению записи разговора Рузского. Б.Н.Сергиевский вспоминал, что в это время Базили составлял телеграммы об отречении для командующих.[54]
От себя А.С.Лукомский просил сообщить Рузскому: «Выбора нет и отречение должно состояться».[55] Продолжался шантаж императора жизнью его семьи, являющийся интерпретацией «Предписания» М.В.Алексеева: «Вся Царская Семья находится в руках мятежных войск, ибо, по полученным сведениям, дворец в Царском селе занят войсками… Если не согласиться, то, вероятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям, а затем начнётся междоусобная война и Россия погибнет под ударами Германии, и погибнет династия».[56] Данилова эти высказывания совершенно не смутили. Он лишь сожалел, что от императора будет трудно добиться такого решения. «Едва ли возможно будет получить определенное решение; время безнадежно будет тянуться, вот та тяжкая картина и та драма, которая происходит здесь»,[57] - заявлял Данилов. У генералов даже не закрадывалась мысль попытаться защитить своего Верховного главнокомандующего. Данилов сожалел, что был организован поход Иванова. Ставка сообщала, что дала распоряжение не препятствовать распространению заявлений Временного правительства. Данилов отвечал, что Рузский приложит все силы на докладе у императора в 10 часов, чтобы убедить его отречься.
Этот разговор между своими подчиненными М.В.Алексеев мог потом использовать, как оправдание рассылки своих циркулярных телеграмм командующим. В интервью журналисту В.Самойлову в 1917 г. Рузский утверждал, что это он разослал свой разговор с Роздзянко командующим.[58] В 1918 г. Рузский изменил свои показания и уже прямо обвинял в измене Алексеева. «Как раз в ту минуту, когда Рузский входил в вагон государя с докладом о ночном разговоре с Родзянко, генерал Алексеев в Ставке подписывал свою циркулярную телеграмму главнокомандующим… Еще до этого доклада судьба Государя в России была решена генералом Алексеевым… Сам изменяя присяге, он думал, что армия не изменит долгу защиты родины».[59]
Когда написана циркулярная телеграмма М.В.Алексеева неизвестно, она датирована только 2 марта. Авторы сборника «Ставка и революция» датируют её по содержанию не ранее 3.30, не позднее 10.15. Первое время привязано к разговору Рузского с Родзянко. А он мог произойти и гораздо раньше, до часа ночи, когда началась остановка войск. Телеграмма обозначала согласие Алексеева с позицией Родзянко и окончательное решение вопроса об отречении. Даже если датировать телеграмму 10.15 2 марта получается, что еще не получив сведений о новой аудиенции Рузского у императора Алексеев разослал циркулярную телеграмму командующим. В ней к требованию Родзянко об отречении Николая II в пользу сына при регентстве великого князя Михаила Александровича Алексеев добавлял: «Обстоятельства, по-видимому, не допускают иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания».[60] «Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, а решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте»,[61] - писал Алексеев. Возможно, этим он предостерегал командующих от претензий на роль диктатора. Он просил командующих, если они разделяют его мнение, телеграфировать императору, через штаб Северного фронта. Разговоры Ставки с командующими фронтами не датированы часами и могли предшествовать циркулярной телеграмме.
Генералы Ставки лично связались с командующими. Около 11 часов утра В.Н.Клембовский разговаривал с А.Е.Эвертом. Он сообщал, что Государь колеблется, его может убедить общее мнение главнокомандующих, грозит анархия, опасность угрожает царской семье. Эверт отвечал: «Этот вопрос может быть разрешен безболезненно для армии, если только он будет решен сверху».[62] Иначе говоря выражал согласие на отречение. В то же время Алексеев запрашивал А.А.Брусилова. Тот был полностью согласен и заявлял, что уже считает Алексеева «по закону верховным главнокомандующим».[63] И это еще до того, как стала известна реакция императора на доклад Рузского. А.С.Лукомский связался с В.В.Сахаровым. И его мнение было в пользу отречения: «По-видимому, как ни грустно, а придется согласиться с этим единственным выходом».[64] Сахаров просил прислать ему мнения других главнокомандующих и особенно с Кавказа. Среди телеграмм Ставки нет разговора по поводу отречения с великим князем Николаем Николаевичем. Ее проводил Рузский из штаба Северного фронта. Уже после того, как пришла в 12.10 телеграмма А.А.Брусилова с просьбой отречения, в 12.14 на Кавказский фронт послали запрос об ответе великого князя.[65] В 12.28 пришел ответ, что телеграмма будет составлена «в духе пожеланий генерала Алексеева».[66] В 12.46 телеграмма Эверта с просьбой отречения была продиктована в Ставку генерал-квартирмейстером Западного фронта Н.Н.Лебедевым.[67] В 13.39 Сахарову сообщили ответ великого князя Николая Николаевича.[68] В то же время поступила и официальная телеграмма об отречении с Кавказского фронта. Только после этого в 13.44 М.В.Алексеев официально отправил А.Е.Эверту и А.А.Брусилову указ императора о возвращении войск, направлявшихся в Петроград.[69]
Недатированная телеграмма М.В.Алексеева императору (не позднее 14.30) содержала ответы великого князя Николая Николаевича, А.Е.Эверта и А.А.Брусилова. В 14.50 в штаб Северного фронта была передана телеграмма В.В.Сахарова, присоединявшегося к просьбам об отречении.[70] 15 часами помечены не отправленные Николаем II телеграммы о согласии на отречение к М.В.Алексееву и М.В.Родзянко.
Так же, как и с ситуацией об ответственном министерстве 1 марта Ставка вновь не получала никаких сообщений от штаба Северного фронта. В 15.20-15.47 состоялся разговор из Ставки Б.Н.Сергиевского с начальником разведывательного отделения Северного фронта В.Е.Медиокритским. Ставку интересовало: где находятся литерные поезда. Передавалось распоряжения в случае ухода литерных поездов из Пскова сообщить об этом в Ставку.[71] В то время, когда император должен был подписывать отречение, в Ставке боялись, что он продолжит движение в Царское Село. Больше никакой информации Ставка не запрашивала. В 15.55 в Псков пришел еще один запрос о нахождении царских поездов от А.С.Лукомского.[72] В то же время он повторял приказ отправить офицера на поиски Н.И.Иванова.
В 18 часов Ю.Н.Данилов сообщил В.Н.Клембовскому, что у государя было желание проехать через Двинск в Ставку, но он от него отказался. «По поводу манифеста не последовало еще указаний главкосева, потому что вторичная беседа с государем обстановку видоизменила, а приезд депутатов заставляет быть осторожным с выпуском манифеста»,[73] – сообщал Данилов. Речь опять шла об ответственном министерстве, так как об отречении в Ставку никаких сообщений не поступало. В 19.40 М.В.Алексеев отправил в штаб Северного фронта проект манифеста об отречении, составленный в Ставке.[74]
Свидетельства, сохранившиеся об аудиенции Н.В.Рузского у императора в 10 часов противоречивы настолько, что заставляют подозревать фальсификацию. По «Камер-фурьерскому журналу» в 10.45 император принял Рузского и В.Н.Воейкова.[75] В своих воспоминаниях Воейков очень странно описывал эту аудиенцию. По его словам, доклад Рузского длился больше часа с 10 утра. Ни слова о содержании доклада Воейков не пишет. Затем: «Когда генерал Рузский выходил от государя, Его величество сказал ему, чтобы он подождал меня на платформе, а мне повелел с ним переговорить».[76] Дальше Рузский сообщал Воейкову сведения, которые сегодня считаются общепринятыми: царь дал указ об ответственном министерстве, но он запоздал, нужно добровольное согласие на переворот, единственный выход это отречение, с чем согласны командующие войсками и флотами.[77] Вывод только один: Воейков на аудиенции не был. Все что там происходило он воспроизводил со слов Рузского.
Аудиенция в 10.45 2 марта это единственный эпизод отречения известный по дневнику Николая II. Он записал, что Рузский прочел длинный разговор с Родзянко. «Положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будет бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½ пришли ответы от всех».[78] Под «министерством из Думы» император мог понимать ответственное министерство, министерство из членов Думы ответственное перед царем или Временное правительство. Последние телеграммы говорили о том, что в Петрограде наведен порядок, а волнение начались в Москве и на Балтийском флоте. В записке нет ни слова об опасности грозящей семье императора. Запись свидетельствует, что в 10 часов Николай II решения об отречении не принял и телеграмм командующих не получил. Не получил их император и в 14.30. В это время сводка телеграмм была только отослана из Ставки. Ответ В.В.Сахарова был получен в штабе Северного фронта в 14.50.
Что говорил главный свидетель Н.В.Рузский? В первом варианте рассказа 7 марта 1917 г. Рузской сообщал, что в 10 часов пришел к императору с Даниловым и Саввичем. В это время у него были телеграммы Алексеева, Брусилова, Эверта и великого князя Николая Николаевича. Царь дал согласие на отречение.[79] Этот, совершенно не совпадающий с дальнейшими интервью Рузского, рассказ был записан через 5 дней после событий. Именно он подтверждается воспоминаниями Б.Н.Сергиевского. В интервью С.Н.Вильчковскому в 1918 г. Рузской сообщал, что пришел в 10.15 утра. Он передал императору разговор с Родзянко, в это время пришла циркулярная телеграмма Алексеева. Рузский впервые узнал об этой телеграмме и попросил время на её обдумывание. Николай II никакого решения не принял, ожидали ответов командующих.[80] 14 июня 1918 г. в рассказе великому князю Андрею Владимировичу Рузский заявлял: «К 9 ч. был назначен доклад у Государя, но я получил приказание явиться на 1/2 часа позже. К этому времени от генерала Эверта получен был ответ, в котором он ходатайствовал перед Государем об отречении. Государь внимательно прочел мой разговор с Родзянко, телеграмму Эверта; в то время пришла телеграмма от Сахарова, примерно такого же содержания. Государь внимательно читал, но ничего не отвечал. Подошло время завтрака, и Государь пригласил меня к столу, но я отпросился в штаб, принять утренний доклад и просмотреть накопившиеся за ночь телеграммы».[81] Ни в одном из вариантов рассказа Воейков не упоминался. Более того, все три рассказа Рузского противоречат документам, телеграммы командующих во время его утренней аудиенции ещё не поступили.
По дальнейшему рассказу Рузского, император вызвал его к себе и для поддержки он взял генералов Ю.Н.Данилова и С.С.Саввича. «Камер-фурьерский журнал» показывает, что эта аудиенция состоялась в 14.30 (это время отсылки телеграмм командующих из Ставки, время получения должно быть на 10 минут позже, когда аудиенция уже идет), а в 16.30 Рузский пришел вторично с В.Б.Фредериксом.[82] Другой вариант «Камер-фурьерского журнала», найденного в документах А.И.Спиридовича, дает другую картину. Тут Фредерикс приходит к императору один в 16.30, а Рузский повторно приходит в 21.45 вместе с А.И.Гучковым и В.В.Шульгиным.[83] В.Н.Воейков в воспоминаниях подтверждает, что Фредерикс не присутствовал на аудиенции Рузского, но пишет, что Рузский был у императора повторно и вернул ему телеграммы об отречении.[84] Такое странное несовпадение в мелочах двух копий «Камер-фурьерских журналов» объяснений не имеет и заставляет подозревать их написание задним числом.
По распространённой версии после доклада телеграмм командующих и убеждения генералов, Николай II принял решение об отречении в пользу сына и собственноручно написал телеграммы М.В.Родзянко и М.В.Алексееву. Действительно в сборнике телеграмм Ставки есть две коротких телеграммы императора с пометкой 15 часов. Н.В.Рузский указывал, что телеграммы отосланы не были в связи с предстоящим прибытием в Псков депутатов Думы.[85] Лишь в 16.30 Ю.Н.Данилов сообщил командующим фронтами и в Ставку о том, что ожидается приезд депутатов и император «выразил, что нет той жертвы, которой его величество не принес бы для истинного блага родины».[86] Эта фраза фигурирует в черновиках Н.А.Базили 1 марта: «Нет жертвы, которую Вы бы не принесли бы, чтобы обеспечить нашей армии».[87] Она была написана в Ставке. Других сообщений об отречении до 0 часов в Ставку не поступало. Но, на этом основании по приказу М.В.Алексеева был составлен манифест об отречении и отправлен в Псков в 19.40 2 марта.[88]
Рассказы о подписании отречения Н.В.Рузского, Ю.Н.Данилова и С.С.Саввича совпадают почти дословно. Генералы являются заинтересованными лицами, желающими переложить вину за отречение на самого императора.
Совершенно иначе излагает эту историю полковник Б.Н.Сергиевский, дежуривший на телеграфе в Ставке. По его словам, с 9 утра 2 марта М.В.Алексеев дважды приходил в аппаратную и подолгу разговаривал с Рузским. Ночью Базили составлял проекты телеграмм командующих об отречении, они их текст исправили. После были телеграфные переговоры. С Кавказским фронтом связывался из Пскова Рузский. К 11 часам были получены телеграммы командующих и Алексеев переслал их в Псков. В 11.45 Сергиевский был вызван к телеграфу и из Пскова передали «Нет той жертвы, которую я бы не принес на благо Родины». В 12.30 он увидел Базили, полковника Барановского и капитана Брагина составляющих манифест об отречении. Через час манифест был передан в Псков. В 15 часов было получено известие, что государь оставил манифест у себя до прибытия в Псков членов Думы. Когда в полночь в Ставке было получено сообщение об отречении императора за себя и за сына великий князь Сергей Михайлович воскликнул: «Как Михаилу?! Вот так штука!!!!».[89] Этот рассказ соответствует интервью Рузского 7 марта. Воспоминания Сергиевского дополняют телеграммы Ставки, только хронология в них не совпадает. Это при том, что достоверной датировки у телеграмм Ставки 2 марта нет. Все это позволяет сделать вывод о том, что решение об отречении принималось и оформлялось в Ставке без участия Николая II.
Происходившее в Ставке 2 марта было лишь техническим оформлением принятого генералами решения об отречении Николая II. Очень вероятно, что запись разговора Рузского с Родзянко была составлена в Ставке. Затем велись переговоры с главнокомандующими фронтами. Телеграммы Ставки свидетельствуют о том, что согласие императора на отречение генералы считали вопросом решенным. Циркулярная телеграмма Алексеева была финалом соглашения главнокомандующих. Дальше дело в свои руки вновь взял Рузский. Подробности аудиенций в 10 и в 14.30 часов 2 марта мы знаем только со слов генералов штаба Северного фронта. Итогом стал составленный в Ставке манифест об отречении.
Любой вариант хронологического расклада событий в Ставке и штабе Северного фронта дает схожую картину. В качестве инициатора отречения выступал М.В.Родзянко. Посредниками между ним и генералитетом стали Алексеев и Рузский. Последний доводил информацию до царя. В условиях остановки военной операции на Петроград у императора не было выбора. На основании недостоверной информации Алексеев сделал выбор в пользу отречения, убедил в этом главнокомандующих и составил манифест об отречении. Однако, в итоге был подписан другой вариант манифеста, устраивавший республиканцев. Роль царя в этом гамбите была пассивной. Исследователи расходятся не только в оценках добровольности отречения, но даже и в отношении самого подписания Николаем II манифеста. Очевидно, что документ был составлен не по правилам, с нарушением закона и не прошёл необходимую в таких случаях процедуру утверждения в Сенате.
Ситуация с отречением Николая II пока не может быть подтверждена документально. Зато роль в ней генерала М.В.Алексеева вполне ясна, как она была ясна и самим участникам событий. Можно допустить, что некоторые телеграммы и переговоры по телефону Юза 2 марта датировались задним числом (как назначение Львова председателем Совета министров и великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим). Официальное сообщение об отречении было направлено в Ставку уже ночью, около 24 часов. При этом Ставка действовала как будто имела такую информацию. Комплект телеграмм явно неполный. В документах штаба Северного фронта нет разговора Рузского с великим князем Николаем Николаевичем (возможно, уничтоженного по его просьбе). В конкретных деталях расходятся и воспоминания участников отречения. Подробности переговоров с императором вновь известны только со слов Рузского. На аудиенциях в 15 и 19 часов было еще несколько свидетелей. Но, все это заинтересованные лица. Для более детального выяснения событий отречения требуются дополнительные материалы. Это могут быть воспоминания великого князя Николая Николаевича или показания В.В.Шульгина из архивов КГБ.
Пассивность императора можно объяснить только принуждением и созданием генералитетом заведомо безвыходной ситуации. В Ставке находился великий князь Сергей Михайлович, он сидел в окружении офицеров у телефона Юза и ждал сообщений. Другой дядя императора, командующий Кавказской армией, находиться у телефона Юза в Крыму. Не была предпринята попытка отыскать брата царя в Петрограде и оповестить его о решении. Наконец, была возможность переговорить с Родзянко и Алексеевым и уточнить ситуацию. Вместо этого император советуется с тремя генералами Северного фронта (с Саввичем он лично не знаком) и после беседы с ними принимает ключевое в истории России решение.
Сама архитектура последних указов является искусственной. Якобы подписанный манифест о даровании ответственного министерства влечет за собой строки в отречении, где царь предписывает сыну, а затем и брату «править делами государственными в полном и нерушимом единомыслии с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах кои будут ими установлены».[90] Такое предписание можно трактовать, как санкцию конституционной монархии, а не только министерства ответственного перед Думой. А какое право имеет отрекающийся монарх давать указания своему приемнику? Эти пассажи не являются царской волей, они рождены в Ставке. Так же, как и краткие телеграммы в 15 часов, якобы, написанные царем. «Нет жертвы, которую Вы бы не принесли бы, чтобы обеспечить нашей армии», - это написано Базили 1 марта.[91]
Заключение
В конце 1916 – начале 1917 гг. общество охватил психоз. От императора требовали дарования министерства народного доверия или министерства ответственного перед Думой. С просьбой об этом обращались великие князья, чиновники, депутаты, придворные. Об этом просил в письмах 7 и 13 февраля 1917 г. и на аудиенции «тайный советник императора» А.А.Клопов.[92] Даже Н.И.Иванов, направляясь по приказу императора в Царское Село, вез со собой проект М.В.Алексеева о «диктатуре тыла».[93] 27 февраля – 1 марта к этим просьбам присоединились М.В.Алексеев, Н.В.Рузский, А.А.Брусилов, великие князья Николай Николаевич, Михаил Александрович и Сергей Михайлович.
Общественный психоз имел и другое более распространенное проявление. Воспоминания современников революции переполнены проклятиями по поводу «темных сил», сосредоточенных вокруг императрицы Александры Федоровны и Г.Е.Распутина. Очевидно, что ответственное министерство не удовлетворило бы людей, верящих в «темные силы». Император оставался бы верховным главнокомандующим, он мог сменять правительство, рядом была бы его жена. Ответственное министерство было только первым шагом к отречению. Знавшим императора было очевидно, что Николай II со своей семьей не расстанется и жену в монастырь не отправит. Поэтому был готов проект отречения императора в пользу сына при регентстве брата. Этот план поддерживали великие князья и уже 27 февраля он был утвержден оппозиционными депутатами Думы. Мирный переход власти должен был обеспечить генералитет. Непосредственными исполнителями стали Н.В.Рузский и М.В.Алексеев.
В первые дни революции М.В.Алексеев выполнял указания царя, но телеграммы показывают, что он сделал выбор в пользу реформ. Военная операция на Петроград носила показной «бумажный» характер. Её сознательно затянули и свернули в тот момент, когда первые части пришли в распоряжение Иванова. Понимая серьезность ситуации Алексеев отправил царский поезд без достаточной охраны. Ставка не предприняла усилий, чтобы император прибыл в Царское Село. Вместо этого Николай II попал в Псков, где и была проведена «операция отречения».
28 февраля Алексеев предпринял усилия, чтобы избежать силового подавления восстания. Он дезинформировал Иванова о том, что в Петрограде наступило успокоение и император об этом извещен. Вслед за Родзянко, Алексеев составил телеграмму царю о необходимости дарования министерства из общественных деятелей. Содержание телеграммы было доведено до сведения главнокомандующих. 1 марта по распоряжению Алексеева в Ставке был составлен проект манифеста о даровании министерства ответственного перед Думой во главе с Родзянко. Таким образом, позиция Алексеева окончательно проявилась. Вопреки воле императора Ставка вынуждала его пойти на переговоры с революционным правительством. Алексеевым был уже определен и итог этих переговоров – ответственное министерство.
Был Алексеев участником заговора или его смогли убедить в безвыходности положения, но он поступил так как хотели заговорщики. 1 марта в Ставку из штаба Северного фронта была направлена телеграмма о восстании Лужского гарнизона и блокирования железной дороги. Для решения этой проблемы Ставка действий не предприняла. Теперь Рузский мог распоряжаться от имени царя, задержанного в Пскове. Командующие фронтами, одобрявшие переговоры с Думой, дали санкцию и на последующие компромиссы.
По свидетельству штаба Северного фронта проект указа об ответственном министерстве был передан императору в 23 часа 1 марта. Подписания манифеста не последовало. В качестве проекта этот документ был передан Рузским в Петроград после 3.30 2 марта. В 5.15 утра Рузский передал распоряжение в Ставку о публикации манифеста. Через полчаса он же предложил Алексееву с публикацией повременить. Вопрос о публикации манифеста не снимался до вечера 2 марта, когда в Ставке было получено сообщение об отречении. Точной датировки аудиенций Рузского у императора 1 марта нет, только с его слов можно судить о вопросах на них обсуждавшихся. Сообщения об итогах переговоров в Ставку отослано не было. На запросы Ставки штаб Северного фронта информации не давал. Все эти обстоятельства в комплексе позволяют сделать вывод о том, что манифеста Николай II не подписывал, а возможно и не был оповещен о нем. Эта ситуация была инспирирована Рузским при молчаливом согласии Ставки. Задачей фальшивого манифеста была остановка операции на Петроград и создание в обществе впечатления о том, что император с неохотой, но добровольно пошел на уступки.
В час ночи 2 марта начальник штаба Северного фронта Ю.Н.Данилов, на основании распоряжения императора, приказал вернуть войска Северного фронта, направлявшиеся на станцию Александровскую, в Двинский район. В 2 часа ночи А.С.Лукомский, в связи с восстанием в Луге и предстоящими переговорами с М.В.Родзянко, распорядился части Западного фронта не грузить, а те, что находятся в пути задержать на станциях. В 2.30 Данилов отменил отправление выборгской крепостной артиллерии. Операция на Петроград была остановлена Ставкой и штабом Северного фронта. Лишь в 12 часов штаб Северного фронта передал в Ставку распоряжение императора вернуть войска в места дислокации. М.В.Алексеев никакого участия в этих мероприятиях не принимал, за него действовал А.С.Лукомский.
Ни «дарование» ответственного министерства, ни разговор Рузского и Родзянко, ни циркулярная телеграмма Алексеева и ответы главнокомандующих являются главным фактором отречения, а отмена военной операции против Петрограда. После этого не только Николай II, но и Ставка полностью утратили контроль над ситуацией. По сути генералитет согласился выполнить все требования, которые будут предъявлены революционным правительством. История показывает, что дальше со Ставкой Петроград уже не считался. Если и существовали какие-то договоренности, то они были полностью нарушены Временным правительством.
Можно предположить, что в конце 1 марта между Ставкой и М.В.Родзянко было достигнуто соглашение о том, что отречение должно носить добровольный характер. Воспоминания А.Ф.Керенского, А.И.Гучкова, В.В.Вырубова о планах заговорщиков показывают, что в ходе отречения Николая II они были приведены в исполнение. Поезд императора был изолирован в Пскове, от имени царя в Ставке были составлены манифесты. Сразу после провозглашения отречения он был арестован. Форма отречения была наиболее приемлема для левых кругов, желавших республики. Учитывая то, как молниеносно была проведена операция по нейтрализации Михаила Александровича, она готовилась заранее. Заговорщикам удалось убедить генералитет, что добровольное отречение - это самая лучшая форма разрешения кризиса. Другим путем добиться ответственного министерства не удастся, а без него общественность будет вставлять палки в колеса военным. Генералов убедили, что монархический принцип не пострадает и несовершеннолетнего царя заставить отречься невозможно. Алексееву, Рузскому, великому князю Николаю Николаевичу предлагали посты в правительстве и должности военных диктаторов. Их убеждали в том, что в случае отказа к власти придут левые силы и начнется Гражданская война.
В ходе Февральской революции М.В.Алексеев выступил от имени армии. При этом решение принималось в очень узком кругу. Подавляющее большинство участников отречения принадлежало к числу офицеров Генерального штаба. Эта была особая каста в среде офицерства, получившая прозвище «Моменты». Эти люди были связаны общим образованием и службой и имели свои, специфические интересы. Офицеры Генерального штаба претендовали на особую прогрессивность и часто имели контакты с представителями общественности. Несмотря на высокие должности «Моменты» не имели права говорить от имени всей многомиллионной армии.
Таким образом М.В.Алексеев сделался «гробовщиком империи». Его мотивы являются второстепенным вопросом. От имени армии решив судьбу императора, Алексеев и в последствии продолжал обвинять Николая II в разразившейся катастрофе. Возможно, отсутствие покаяния Алексеева стало причиной провала «Корниловского мятежа» и краха Белого Движения.
Кондаков Юрий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена
[1] Хрисанфов В.И. Луга в 1917 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 2. Вып. 2. С. 37.
[2] Тропов И. А. Революция в провинции: Лужский уезд Петроградской губернии в 1917 г. // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. А.С.Пушкина. 2010. Т. 4. № 2. С. 180.
[3] Николаев А.Б. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. СПб., 2005. С. 389.
[4] Воронович Н. Записки Председателя Совета солдатских депутатов // Архив Гражданской войны. Берлин, 1923. Вып. 2. С. 31-32.
[5] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 233.
[6] Там же. С. 234.
[7] Ломоносов В.Ю. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. Берлин, 1921. С. 44.
[8] Телеграммы и разговоры по телеграфному проводу между Псковом, Ставкой и Петроградом // Русская летопись. 1922. Т. 3. С. 126
[9] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 275.
[10] Там же. С. 264.
[11] Там же. С. 270.
[12] Там же. С. 312.
[13]Там же. С. 253.
[14] Там же.
[15] Мультатули П.В. Император Николай II и заговор 17-го года. М., 2013. С. 288-289.
[16] Там же. С. 257.
[17]Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 250-251.
[18] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 266.
[19] Там же. С. 258.
[20] Там же. С. 260.
[21] Там же. С. 261.
[22] Телеграммы и разговоры по телеграфному проводу между Псковом, Ставкой и Петроградом // Русская летопись. 1922. Т. 3. С. 127.
[23] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 261.
[24] Там же. С. 262.
[25] Там же.
[26] Там же. С. 275.
[27] Там же. С. 278.
[28] Там же. С. 280.
[29] Там же. С. 283.
[30] Там же.
[31] Там же. С. 282.
[32] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 143.
[33] Там же. С. 160-161.
[34] Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914 – 1917). М., 2008. С. 305.
[35] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 300.
[36] Там же. С. 321.
[37] Там же. С. 327-328.
[38] Там же. С. 329.
[39] Там же. С. 266.
[40] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 253.
[41] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 276-277.
[42] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 264.
[43] Там же. С. 267.
[44] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 275.
[45] Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 255.
[46] Из дневника генерала В.Г.Болдырева // На крутом переломе. М., 1984. С. 328-329.
[47]Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 270.
[48] Там же. С. 272.
[49] Там же. С. 269.
[50] Там же.
[51] Пребывание Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 г. (беседа Н.В.Рузского с генералом С.Н.Вильчковским) // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л. 1927. С. 159.
[52] Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 268.
[53] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 273.
[54] Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 30.
[55] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 273.
[56] Там же.
[57] Там же. С. 274.
[58] Рузский Н.В. Беседа с журналистом В.Самойловым об отречении Николая II // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л. 1927. С. 158.
[59] Пребывание Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 г. (беседа Н.В.Рузского с генералом С.Н.Вильчковским) // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л. 1927. С. 160.
[60] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 276.
[61] Там же.
[62] Там же. С. 277.
[63] Там же. С. 281.
[64] Там же. С. 282.
[65] Там же. С. 284.
[66] Там же. С. 286.
[67] Там же. С. 287-288.
[68] Там же. С. 289.
[69] Там же. С. 290.
[70] Там же. С. 296.
[71] Там же. С. 298-299.
[72] Там же. С. 300.
[73] Там же. С. 309.
[74]Там же. С. 317.
[75] Камер-фурьерские журналы. 1916-1917 гг. СПб., 2014. С. 434.
[76] Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 1995. С. 233.
[77] Там же. С. 234.
[78] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 34.
[79] Там же. С. 143.
[80] Там же. С. 160.
[81] Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова
(1914 – 1917). М., 2008. С. 301.
[82] Камер-фурьерские журналы. 1916-1917 гг. СПб., 2014. С. 434.
[83] Николай Романов 28 февраля – 4 марта 1917 г. // Красный архив 1925. № 8. С. 245.
[84] Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 1995. С. 234, 241.
[85]Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова
(1914 – 1917). М., 2008. С. 306.
[86]Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 302.
[87] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 279.
[88] Там же. С. 317-318.
[89] Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 27-30.
[90] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 318.
[91] Там же. С. 279.
[92]Тайный советник императора. СПб., 2002. С. 521-524.
[93] Допрос ген. Н.И.Иванова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. V. С. 332.