
2. М.В.Алексеев и политическая оппозиция Николаю II
Неудачи в Первой мировой войне обострили социальные конфликты в Российской империи. Одновременно с возложением императором на себя обязанностей Верховного главнокомандующего в Думе и в Государственном совете сформировался Прогрессивный блок. В рамках нового объединения возникло две формулы: «правительство доверия» и «ответственное министерство». Первую формулу отстаивали кадеты во главе с П.М.Милюковым. Она предполагала создание правительства из общественных деятелей, проводящее программу реформ Прогрессивного блока, назначаемое царем. Второй вариант предлагался прогрессистами и подразумевал ответственность правительства перед Думой.[1] Часто общественные деятели не делали разделения между этими понятиями. В большинстве предложений 26 февраля – 1 марта императору рекомендовали назначить правительство, пользующееся доверием народа. В некоторых воспоминаниях Николай II сперва принял решение о правительстве, где перед ним будут ответственны три министра, а затем согласился на министерство ответственное перед Думой.
Некоторые из современных исследователей убеждены, что Николай II планировал к Пасхе 1917 г. объявить манифест о создании ответственного министерства. В своей лекции на курсах повышения квалификации РАО И.А.Арефьев утверждал, что даже обнаружен такой манифест. С.В.Куликов считал, что «указ имел в виду дарование судебной ответственности кабинета перед народным представительством».[2] Подобный проект был разработан А.Д.Протопоповым (1966-1918) осенью 1916 г.
Воспоминания о даровании этого ответственного министерства оставили М.В.Родзянко и К.И.Глобачев (1870-1941). На следствии об этом упоминал Д.Н.Дубенский.[3] Очень вероятно, что Дубенский черпал информацию из книги журналиста Г.Г.Перетца, который во время Февральской революции был комендантом Таврического дворца. Перетц писал, что в Ставке, за несколько дней до убийства Г.Е.Распутина, был составлен проект манифеста царя к народу. Им учреждался Совет министров из лиц, пользующихся общественным доверием. Для этого председатель Думы должен был собрать совещание своих заместителей и секретарей, а также представителей отдельных думских партий. Они должны были составить список правительства. Назначался верховный министр обороны и провозглашалась амнистия. Перетц писал, что этот документ так и не был передан царю.[4] Эта книга в 1917 г. вышла двумя изданиями. К.И.Глобачев, писавший свои воспоминания в начале 20-гг., указывал, что информацию об ответственном министерстве он получил от министра юстиции Н.А.Добровольского (1853-1918). Это произошло уже после революции, в тюрьме. Добровольский говорил, что указ лежал у него в столе и должен был быть обнародован на Пасху.[5] Ссылаться на Добровольского было легко, так как в 1918 г. вместе с Н.В.Рузским он был казнен большевиками в Кисловодске.
Так же легковесно свидетельство М.В.Родзянко: «Стороной я узнал, что Государь созывал некоторых министров во главе с Голицыным и пожелал обсудить вопрос об ответственном министерстве. Совещание это закончилось решением Государя явиться на следующий день в Думу и объявить о своей воле – даровании ответственного министерства».[6] Для политика фраза «стороной узнал» в таком деле не допустима. Учитывая, сколько усилий потратила Ставка 26 февраля – 1 марта, чтобы получить такой указ от императора, сообщение Родзянко является ложью. Можно объяснить, зачем она нужна если вспомнить, что Родзянко был ближайшим сотрудником Н.В.Рузского в деле отречения. 7 марта 1917 г. Рузский рискнул заявить, что когда он пришел к императору в Пскове, то манифест об ответственном министерстве лежал у него на столе.[7] Рассказ о манифесте был необходим как переход к отречению, таким образом оно выглядело обдуманным и добровольным. В 1918 г. в рассказе Рузского появляются уже два манифеста. Первый об учреждении министерства, где три министра будут ответственны перед царем и второй о министерстве ответственном перед Думой. Эту версию помогали подкрепить воспоминания Родзянко и тиражируемая в 1917 г. книга Г.Г.Перетца.
История с двумя манифестами не только показывала с каким трудом удалось уговорить императора, но и решала еще одну задачу. Аудиенции Рузского состоялись 1 марта в 21.45 и 2 марта в 00.05, время окончания обеих аудиенций неизвестно. О чем говорил Рузский с императором в 00.05 и сколько продолжалась эта аудиенция? Участники событий в своих воспоминаниях пытались ее максимально удлинить, чтобы связать с приказами об остановке войск и телеграфном разговоре с Родзянко. По версии Рузского получалось, что на первой аудиенции он убедил императора, затем долго ждал в свитском вагоне и получил первый вариант манифеста. Затем еще долго уговаривал и тогда было даровано министерство ответственное перед Думой. В действительности в 21.45 Рузский сделал отчет о положении на фронте и в Петрограде и получил распоряжение согласовать приезд Родзянко в Псков. В 00.05 Рузский сообщил императору, что в 3 часа ночи состоится его разговор с Родзянко, на котором прояснится ситуация. Николай II лег спать, а главнокомандующий Северного фронта занялся самостоятельной деятельностью по подготовке отречения. В этой схеме указ об ответственном министерстве играет ключевую роль.
Активные попытки уговорить Николая II даровать ответственное министерство начались в конце 1916 г. Назначение правительства из деятелей, пользовавшихся народным доверием, под руководством Г.Е.Львова или М.В.Родзянко, стало основным сюжетом в Ставке 26 февраля – 1 марта 1917 г. Решающую роль в этих событиях было суждено сыграть М.В.Алексееву. По его приказу в Ставке был составлен проект манифеста об ответственном министерстве во главе с Родзянко. В 5 часов утра 2 марта в Ставку поступил приказ Николая II опубликовать манифест об ответственном министерстве. Этот вопрос обсуждался до вечера 2 марта, когда было принято решение об отречении императора. Важно выяснить, что побудило Алексеева принять активное участие в давлении на императора в пользу ответственного министерства. Какие цели преследовал генерал и были ли предпосылки у его действий.
Подробнее всего участие М.В.Алексеева в политической жизни страны рассматривается в книгах О.Р.Айрапетова и С.В.Куликова. М.В.Алексеев родился в семье солдата, дослужившегося до майора. Окончил Московское пехотное училище, в 1876 г. получил первый чин прапорщика, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в 1890 г. окончил Академию Генерального штаба, служил в Главном штабе, с 1898 г. был профессором Академии Генерального штаба, участник русско-японской войны 1904-1905 гг., генерал-квартирмейстер 3-й Манчьжурской армии. С 1908 г. начальник штаба Киевского военного округа, под командованием Н.И.Иванова. А.И.Гучков вспоминал, что знал Иванова и Алексеева еще по Японской войне и поддерживал с ними связь в Киевском округе. «Иванов и Алексеев были в числе тех высоких чинов нашей армии, которые понимали очень слабое состояние нашей обороны и предвидели, что приближается момент, когда нам придется мериться с противником первоклассным – Германией. Они отдавали себе отчет, что, если нас Германия застанет в беспомощном состоянии, мы будем разгромлены в конец»,[8] – вспоминал Гучков.
В Первую мировую войну М.В.Алексеев был начальником штаба у командующего Юго-Западным фронтом Н.И.Иванова. С 17 марта 1915 г. стал командующим армиями Северо-Западного фронта, с 4 августа 1915 г. командующий армиями Западного фронта. 18 августа 1915 г. был назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего. А.И.Гучков вспоминал, что фронты Алексеева обслуживались «его Красным крестом». «Я к нему заезжал, докладывал о санитарных вопросах, о вопросах медицинской помощи и затем всегда говорил о своих впечатлениях от фронта. Я его очень высоко ценил. Человек большого ума, большого знания. Недостаточно развитая воля, недостаточно боевой темперамент для преодоления тех препятствий, которые становились по пути»,[9] – рассказывал Гучков. В Ставке Гучков поддерживал отношения с Алексеевым, как член Особого совещания по обороне.
О.Р.Айрапетов описывал проведение весной 1916 г. Нарочской операции спланированной М.В.Алексеевым для поддержки союзников. В этот период наступающие фронты испытывал недостаток не только в тяжелых боеприпасах, но даже в винтовочных патронах. Начавшееся 16 марта наступление Северного и Северо-Западного фронта окончилось провалом. Русские войска потеряли около 78000 человек.[10] В дальнейшем, в ходе Луцкого прорыва (22 мая – 31 июня 1916 г.), такие серьезные потери определили пассивность Западного и Северного фронтов.
Начальник штаба Верховного главнокомандующего вынужден был реагировать на проблемы тыла, связанные с жизнью фронта. В 1916 г. инициативы М.В.Алексеева несколько раз оканчивались провалом. Имперская столица была забита запасными частями и перегружена заводами, чьи рабочие в результате агитации социалистов представляли опасность для власти. В январе 1916 г. Алексеев подал записку императору о необходимости разгрузить Петроград и эвакуировать заводы, работавшие на оборону, в Уральский район. Доклад вернулся с резолюцией «Обстановка не вызывает принятия этой меры, которая способна вызвать в тылу беспорядки и панику». Министр А.Н.Наумов вспоминал, что 8 июня 1916 г. на заседании Совета министров был поднят вопрос о разгрузке Петрограда. Предложение было поддержано всеми, но военный министр заявил, что уже есть резолюция императора «этим делом не заниматься».[11]
Дипломатический чиновник при Ставке Н.А.Базили вспоминал, что с лета 1816 г. М.В.Алексеев «очень остро» стал воспринимать вопросы внутренней политики. К назначению главой правительства Б.В.Штрюмера (1848-1917) Алексеев относился с нескрываемым отвращением. «Это было последней каплей. С этой минуты он считал, что государство подвергается громадной опасности».[12] Штрюмер стал председателем Совета министров 20 января 1916 г. С 3 марта по 7 июня он был одновременно и министром внутренних дел. Очень вероятно, что бездействием правительства Алексеев объяснял недостаток боеприпасов и вооружения во время Нарочской операции. По оценкам С.В.Куликова: «Назначение Б.В.Штюрмера надо признать осторожным, но бесспорным сдвигом влево. В отличие от И.Л.Горемыкина, ради соглашения с оппозицией новый премьер был готов на допущение в политическую практику элементов парламентаризма».[13] Вместо наведения порядка в тылу, чего желал генералитет, Штрюмер пытался договориться с оппозицией. Результатом стало возросшее давление оппозиции на правительство.
С лавированием нового председателя Совета министров могло быть связано предложение М.В.Алексеева о «диктатуре тыла». С.В.Куликов, подробно освещавший этот вопрос, указывал, что поводом стала телеграмма в Ставку А.А.Брусилова о некомплектности мортирного парка, необходимого для наступления. В ответ начальником главного артиллерийского управления А.А.Маниковским было написано письмо, состоящее из пяти разделов. Одним из требований генерала было установление в тылу «твердой власти».[14] По мнению О.Р.Айрапетова, ознакомившись с письмом Маниковского 15 июня 1916 г., Алексеев представил императору свой план. Генерал писал о нехватке боеприпасов, снарядов для тяжелой артиллерии и пулеметов. Без них, по его мнению, наступление было невозможно. Он описывал реальные проблемы с транспортом, опасность сбоев поставок металла и топлива на заводы. Затрагивалась им нехватка рабочих и рост забастовочного движения. Алексеев предлагал милитаризацию заводов. Для недопущения кризиса «могущего повлечь за собой непоправимые бедствия для нашей армии и государства» он рекомендовал без малейшего промедления принять следующие меры: Назначить верховного министра государственной обороны, отвечающего за работу тыла. Он должен объединить деятельность министров государственных и общественных организаций; привести в порядок транспорт, обеспечить снабжение заводов; организовать добычу угля и металла; провести милитаризацию заводов, работавших на оборону, открыть на заводах казенные магазины для рабочих; использовать на заводах труд национальностей, не призываемых в армию и китайцев; технических специалистов призываемых в армию отправлять на заводы.[15]
В.М.Алексеева-Борель считала, что «диктатором тыла» М.В.Алексеев хотел видеть великого князя Сергея Михайловича, инспектора артиллерии. [16] Очень быстро записка Алексеева стала известна в Петрограде. М.В.Родзянко её передал генерал А.А.Маниковский. 28 июня под председательством царя состоялось заседание Совета министров по вопросу диктатуры. Никто из министров проекта не поддержал. На этом заседании царь принял решение о назначении Б.В.Штюрмера на роль диктатора. По министерствам об этом был разослан секретный указ. Штрюмер сразу вошёл в конфликт с Особым совещанием по обороне, не уведомленным о диктатуре. В дальнейшем эта инициатива потерпела крах.[17] Кого бы не видел Алексеев в роли «диктатора тыла» ответственность за провал своей инициативы он возложил на Штюрмера и Николая II.
Могли быть у М.В.Алексеева и личные обиды на императорскую семью. Очень вероятно он знал свою кличку «Косой друг». В.М.Алексеева-Борель описывала встречу Алексеева с императрицей и их беседу о Распутине летом 1916 г. Взаимопонимания по этому вопросу достигнуть не удалось.[18] Н.А.Базили вспоминал, что Алексеев считал императрицу сумасшедшей, способной выболтать любые тайны. Один раз Алексеев дал Базили распоряжение: «Я вас прошу не посылать никогда сколько-нибудь секретные бумаги Государю, когда вам известно, что Императрица должна приехать или когда она находится в Ставке».[19]
Надо полагать, что недовольство Алексеева «тёмными силами» не было секретом для общественных деятелей. С ним поддерживали связь М.В.Родзянко, А.И.Гучов, Г.Е.Львов. Возможно, в их планах было скомпрометировать начальника штаба у императора и углубить их расхождения. В беседе с Н.А.Базили в 1933 г. В.В.Вырубов вспоминал, что Алексеев и Львов виделись не часто, но они оба сходились на необходимости министерства общественного доверия. Если бы Алексеева в то время спросили, он бы указал на Львова как на кандидата в министры. Ссылаясь на Львова, Вырубов заявил, что Алексеев не был связан никакими договорами с общественностью. Львов приезжал к Алексееву во время его болезни конца 1916 г. в Севастополь. Свидание закончилось ничем, Алексеев был болен и не хотел заниматься политикой.[20] Со слов А.С.Лукомского, жена Алексеева вспоминала, что говорили они с Львовым очень долго, упоминалась революция. Учитывая тогдашние настроения общества, можно с уверенностью сказать, что Львов описывал Алексееву беспомощность правительства, угрозу поражения в войне и пугал скорой революцией. Естественно, в конце февраля 1917 г. Алексеев вспоминал слова Львова, как точное предсказание.
Любопытно, что В.В.Вырубов в 1933 г., категорически отрицавший участие Алексеева в заговоре против императора, позднее описывал этот заговор. По его словам, осенью 1916 г. Алексеев и Львов согласовали дату ареста императрицы в Ставке. При этом Алексеев настоял, чтобы императору вреда не причиняли.[21] С.В.Куликов был убежден, что Вырубов описывал реально существовавший план, сорвавшийся в связи с болезнью Алексеева.[22] Подобные предположения об аресте императрицы высказывали и великие князья, но сведений о том, что практическое воплощение таких проектов разрабатывалось, пока не обнаружено. Хочется заметить, что 26 февраля – 2 марта попытки арестовать императора или императрицу не предпринимались. В это время шло согласование позиций командующих фронтами. Это значит, что в конце 1916 г. такового согласования проведено не было. Тем более, что Алексеева в Ставке заменял генерал В.И.Гурко (ноябрь 1916 – февраль 1917 гг.). Арест императрицы при несогласии генералитета грозил началом войны. События показали, что этого Ставка пыталась избежать всеми силами.
Огромной проблемой Петрограда было скопление в нем запасных частей. Ненадежность столичного гарнизона беспокоила Николая II и М.В.Алексеева. По сведениям В.М.Алексеевой-Борель осенью 1916 г. было издано распоряжение А.Д.Протопопова о территориальном призыве в войска. Оно было вызвано желанием разгрузить железные дороги. Петроградский гарнизон стал комплектоваться рабочими, как правило уволенными за революционную деятельность. По ходатайству И.Г.Горемыкина (1839-1917) Петроград был выделен в особое управление военного министра. Армейское командование не имело право менять части гарнизона. Алексеев не смог добиться отмены указа Протопопова.[23] Во время болезни Алексеева его заменял В.И.Гурко. С ним император так и не смог согласовать введение в столицу гвардейской кавалерии или сменных фронтовых частей. Гурко вспоминал, что получил распоряжение императора направить на отдых в Петроград две кавалерийские дивизии. Одна из них должна была быть гвардейской из его Особой армии. Но, командующий округом С.С.Хабалов заявил, что места для расквартирования кавалерии в столице нет. Взамен в Царское Село был введен Гвардейский морской экипаж.[24]
Отношения М.В.Алексеева к Николаю II характеризует документ, обнаруженный О.Р.Айрапетовым в фонде РГБ «Заметки нравственного, политического характера, в том числе и о Л.Г.Корнилове» (составлены Алексеевым весной-летом 1917 г.). В документе содержится зашифрованная характеристика Николая II. По мнению Алексеева, император был человек пассивных качеств, лишенный энергии, подвержен посторонним влияниям, притворный и неискренний, с атрофией воли, недостатком ума, скрытный и лицемерный, лишенный логики, самолюбивый и упрямый. «Началась полоса поражений, а за нею пришел финансовый крах. Становилось ясно, что не только потерпело банкротство данное правительство, но что разлагается само государство. Тем бесспорно, что обычными средствами помочь нельзя»,[25] – заканчивал свою характеристику Алексеев. Очевидно, что в это время всю ответственность за революционную катастрофу Алексеев был склонен переложить на Николая II. Сведений о том, как Алексеев оценивал императора в феврале 1917 г. пока не обнаружено.
Вторым решающим действующим лицом в отречении Николая II был командующий Северным фронтом генерал Н.В.Рузский (1854-1918). Из дворян, закончил Константиновское военное училище, служил в лейб-гвардии Гренадерском полку. Участник русско-турецкой и русско-японской войн. В 1881 г. окончил Академию Генерального штаба. С 1912 г. помощник начальника войск Киевского военного округа Н.И.Иванова. Начал мировую войну на посту командующего 3-й армией, в 1914 г. получил три степени Военного ордена. Был очень популярен в общественных кругах. С 1815 г. главнокомандующий армиями Северного фронта. Между ним и Алексеевым существовал антагонизм. В момент назначения Алексеева начальником штаба Верховного главнокомандующего Рузский так же претендовал на эту должность. В своем дневнике от 15 августа 1915 г. великий князь Андрей Владимирович писал: «Сегодня Кирилл был у Рузского, который прямо в отчаянии от назначения Алексеева начальником штаба при государе. Рузский считает Алексеева виновником всех наших неудач, человеком, неспособным командовать».[26] Великий князь считал, что Рузский подходит для этой должности больше, чем Алексеев, он пользуется уважением в России. Рузский был известен своими либеральными взглядами.
В 1918 г. Рузский рассказывал великому князю Андрею Владимировичу о проблемах, которые были у него как командующего Северным фронтом в начале 1917 г. «Петроград был тяжелой обузой, главным образом в вопросе продовольствия. Не имея своих достаточных запасов и терпя большой недостаток, главным образом в муке и сахаре, ко мне постоянно обращались за помощью. Имея сам на фронте крайне ограниченный запас, мне нельзя было снабжать Петроград, не лишая фронт»,[27] – утверждал генерал. Ему приходилось помогать продовольствием военным училищам, царскому конвою и даже выделять мясо для императорской семьи. С властями Петрограда у Рузского происходили конфликты по поводу вмешательства в ведомство военной цензуры. Важнейшим сообщением Рузского было то, что по причине забастовок в ноябре 1916 г. он объехал заводы Петрограда. Генерал Хабалов выделил ему в сопровождающие некомпетентного офицера. Тогда он обратился к генералу А.А.Маниковскому и тот направил офицера знающего настроения на каждом заводе. По просьбе рабочих Путиловского завода Рузский выделил им сахар из фронтовых запасов.[28] «У меня было много сведений по этому поводу о тех безобразиях, которые творились в тылу. Я настаивал на том, чтоб продовольственный вопрос был введен в строгую систему… В результате всего этого, за три недели до переворота Петроград был изъят из моего ведения, и Хабалов назначен главнокомандующим»,[29] - рассказывал Рузский. Генерал прекрасно понимал ситуацию в Петрограде: «Когда я объезжал заводы, то настроение было уже явно распропагандированное. Хотя рабочие выставляли экономические требования, но из разговоров с вожаками было видно, что они проникнуты политикой. Петроградские войска, Вы сами знаете, что это такое. Запасные батальоны со слабыми кадрами. Рассчитывать на них для подавлений беспорядков я не мог и по опыту это видел во время ноябрьских забастовок. Войска не то что неохотно шли против рабочих, но вызвали столкновения сами вместо водворения порядка. Пропаганда в войсках шла страшная, о чем я предупредил генерала Хабалова и сказал ему, что применение силы оружия при беспорядках, отнюдь не следует, что это вызовет лишь ужасные последствия, учесть кои вперед даже нельзя».[30]
Согласно показаниям, данным на следствии военным министром М.А.Беляевым, именно жалобы Рузского заставили Николая II выделить Петроградский военный округ. Генерал негодовал, что армия кормит тыл. Назначенный на должность в январе 1917 г., на одном из первых докладов, Беляев услышал от императора о том, что нужно выделить Петроградский военный округ в самостоятельную единицу. По его мнению, командующий Северным фронтом должен заниматься направлением Двинск-Рига и не отвлекаться на столицу. После консультаций с исполняющим должность начальника штаба Верховного главнокомандующего В.И.Гурко и начальником штаба Северного фронта Ю.Н.Даниловым вопрос был решен.[31] Николай II был этому решению очень рад и поднял вопрос о передаче Кронштадта из сухопутного в морское ведомство.[32]
Воспоминаний А.И.Гучкова, В.В.Вырубова, М.К.Лемке, А.А.Брусилова было бы вполне достаточно, если бы М.В.Алексеев арестовал в Ставке императора и вынудил его отречься от престола. Эти мемуары могли бы помочь проследить складывания заговора. Однако, отречение произошло в Пскове, при косвенном участии Алексеева. Другие документы говорят о том, что Алексеев, напротив, пытался спасти монархию. Историческим фактом является предложение Алексеева о введении «диктатуры тыла». Генерал прилагал усилия для разгрузки и «успокоения» Петрограда. Напротив, сомнительные мероприятия проводились при участии В.И.Гурко, Н.В.Рузского, М.А.Беляева и А.А.Маниковского, с чьего приказа о закрытии Путиловского завода и началась революция.
Спустя многие годы после революционных событий В.Н.Воейков описывал «пять очагов революционного брожения»: «1)Государственная Дума с ее председателем Родзянко; 2)земский союз с князем Львовым; 3)городской союз с Челноковым; 4)военно-промышленный комплекс с Гучковым; 5)Ставка с генералом Алексеевым».[33] Был и ещё один центр, который Воейков не упомянул. Это была «великокняжеская оппозиция». Обстановку среди членов династии перед революцией описывал С.В.Куликов. По его мнению, великие князья сочувствовали парламентаристам, вели переговоры с оппозицией и генералитетом. 3 декабря 1916 г. к императору от имени «фамильного совета» обратился великий князь Павел Александрович. Он просил о даровании конституции. Николай II ответил отказом. Виновной в этом великие князья считали Александру Федоровну. Они начали обсуждать проекты «дворцовой революции».[34] Очевидно, что члены дома Романовых не планировали ликвидировать самодержавие. Они желали договориться с оппозицией, призвать к власти общественных деятелей. Возможно, они допускали «мягкие» ограничения монархии по образцу Великобритании. На такую схему мог согласиться и Николай II по окончанию войны. В.М.Алексеева-Борель считала, что в условиях кризиса для М.В.Алексеева была очень важна поддержка членов императорской фамилии. Он обратился к тому, кто «по своему рождению был выше закона».[35] 28 февраля – 3 марта 1917 г. в Ставке находился великий князь Сергей Михайлович. При его участии составлялся манифест об ответственном министерстве.
Причины и особенности поведения М.В.Алексеева в дни революционного кризиса поможет выявить обращение к опубликованным документам по отречению Николая II.
3. Ставка в первые дни Февральской революции
Опубликованные документы Ставки верховного главнокомандующего и штаба Северного фронта за февраль-март 1917 г., а так же воспоминания современников позволяют выявить несколько этапов, итогом которых стало отречение Николая II: 1)26-27 февраля – давление на императора в пользу ответственного министерства или диктатуры; 2) 28 февраля – 1 марта – военная операция на Петроград; 3)1-2 марта – попытка добиться ответственного министерства; 4)2 марта – остановка военной операции на Петроград; 5) подготовка к отречению и отречение.
17 февраля 1917 г. М.В.Алексеев вернулся из Крыма в Ставку и на следующий день, с разрешения императора, приступил к исполнению должности начальника штаба Верховного главнокомандующего.[36] 21 февраля в Петрограде закончилась конференция представителей стран Антанты. Главным итогом стала договоренность о весеннем наступлении. По свидетельству подполковника Ставки Б.Н.Сергиевского, по окончанию конференции началась срочная переделка планов наступления. Следующие дни ушли на шифровку и рассылку телеграмм командующим.[37]
В литературе высказывалось мнение о том, что М.В.Алексеев специально заманил императора в Ставку, где уже был подготовлен переворот. Якобы, план наступления был уже готов и присутствия императора в Ставке не требовалось. В последний раз царь спешно покинул Ставку 18 декабря в связи с убийством Г.Е.Распутина. В начале 1917 г. в Петрограде его задержала Союзная конференция. Учитывая, что за предыдущие 14 месяцев император провел в Ставке 263 дня (из 427) эта поездка не выглядела странной. Это должен был быть короткий визит, такие уже случались с 1 по 6 и с 11 по 17 февраля 1916 г.[38] Вероятно, они были связаны с подготовкой Нарочской операции (март 1916 г.). Согласно дневнику Николая II, 23 февраля в 15 часов он прибыл в Могилев, был встречен М.В.Алексеевым и штабом и час провел с ними.[39] Лишь 27 февраля в дневнике царя появилась запись о том, что в Петрограде начались беспорядки и к ним присоединились войска.[40]
В РГИА и ГАРФ хранятся секретные телеграммы в Ставку А.Д.Протопопова 25 и 26 февраля. Их получателем указывается В.Н.Воейков, но в архиве Ставки они не сохранились. Протопопов сообщал, что на почве слухов о нехватке хлеба, 23 февраля в Петрограде вспыхнули забастовки. Сообщалось, что на улицы вышли около 200000 человек, происходят беспорядки. Есть раненные и убитые. Беспорядки носят стихийный характер, в некоторых местах демонстрантов приветствуют войска. 26 февраля Протопопов сообщал, что войска были вынуждены применить оружие. Вечером самовольно ушла рота Павловского полка. Ранен батальонный командир. Проведены аресты.[41]
Вечером 25 февраля в Ставке была получена телеграмма командующего войсками Петроградского военного округа С.С.Хабалова (ежедневный отчет о положении в городе). Он сообщал, что из-за недостатка хлеба 22 и 23 февраля на заводах начались забастовки. 24 февраля бастовало уже 200000 рабочих. Толпы пытались прорваться в центр, среди полиции были убитые, в разгоне принимали участие войска.[42] Из письма Николая II к императрице Александре Федоровне 26 февраля видно, что царь считал, что беспорядки будут легко подавлены.[43]
В литературе закрепилось утверждение о том, что вечером 25 февраля Николай II отправил телеграмму С.С.Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией». Г.М.Катков утверждал, что телеграмма была составлена самим императором и послана без консультации с кем бы то ни было.[44] Эти сведения были заимствованы из показаний Хабалова Чрезвычайной следственной комиссии 22 марта 1917 г.[45] Хабалов не смог ответить на вопросы следствия как была передана телеграмма и даже о том сообщил ли он ее Совету министров. Пересказывая свой разговор с М.В.Родзянко, Хабалов затруднился объяснить, почему как на повод открытия огня войсками он не сослался на царскую телеграмму.[46] Следов такой телеграммы не обнаружено и информации поступавшей в Ставку 25 февраля она не соответствует. Военные власти Петрограда имели инструкции на случай волнений и решение об открытии огня принималось ими. На следствии А.Д.Протопопов сообщал, что на совещании у градоначальника А.П.Балка была выработана диспозиция на четыре дня предполагавшихся беспорядков. Сперва планировалось применять полицейские меры, а затем военные. Эта диспозиция была передана царю.[47]
В архиве Ставки отсутствуют и другие телеграммы, которые должны были отправляться по приказу императора. С.С.Хабалов сообщал, что 27 февраля на Совете министров было высказано предложение ввести осадное положение. Вечером в Адмиралтействе военный министр М.А.Беляев передал ему это распоряжение, как «высочайшее повеление».[48] Такой телеграммы в архиве Ставки нет. Адмиралтейство и Главный морской штаб были связаны прямым проводом со Ставкой. Но никаких распоряжений по нему обороняющиеся войска не получали. Находясь в Адмиралтействе, Хабалов вел переговоры со Ставкой с генералом Н.И.Ивановым по прямому проводу Морского министерства.[49] В 11.30 28 февраля Хабалов переслал М.В.Алексееву ответы на вопросы Иванова. Он сообщал, что город во власти революционеров, войска или перешли на их сторону или по соглашению остаются нейтральными, министры арестованы, продовольствия и боеприпасов нет.[50]
Можно сделать вывод о том, что Ставка 27-28 февраля давала указания военным властям Петрограда. Велись переговоры по прямому проводу с Генеральным штабом и Адмиралтейством. М.В.Алексеев был передаточным звеном, а возможно, и инициатором некоторых мероприятий.
26 февраля в Ставку поступила следующая телеграмма С.С.Хабалова. В ней перечислялись события, произошедшие 25 февраля: из толпы стреляли в солдат, один рядовой ранен; в ответ был открыт огонь по толпе: трое убито и десять ранено, в отряд конных жандармов брошена граната. Выпущено обращение к населению, что всякое проявление беспорядков будет подавляться силой оружия. Хабалов сообщал, что 26 февраля прошло в городе спокойно.[51] В действительности ситуация в Петрограде была очень напряженной. В течении 26 февраля в разных районах города войска стреляли в толпу, прошли аресты. Вечером вышла из повиновения рота Павловского полка. Солдаты стреляли во взвод конно-полицейской стражи, 21 человек бежал с оружием из казарм. Обо всем этом генерал А.И.Спиридович докладывал В.Н.Воейкову по прямому проводу.[52]
Очень редко в описании Февральской революции упоминают о вводе в Петроград эскадронов Запасного гвардейского кавалерийского полка. Подробнее всего этот сюжет рассмотрен в книге А.Б.Николаева. В 4 часа утра 27 февраля 6-й и 9-й эскадроны полка, 200 кавалеристов, прибыли из места своей дислокации (Кречевицкие казармы, г. Новгород). В течении дня эскадроны патрулировали Невский пр., Садовую ул. и Литейный пр. Утром 28 февраля эскадроны, потеряв в стычке на вокзале несколько кавалеристов, оставили Петроград.[53] В письме императрице, посланном вечером 27 февраля, Николай II сообщал, что «Конная гвардия получила приказание немедленно выступать из Новгорода в город».[54] Как выясняется к этому распоряжению император отношения не имел. На следствии С.С.Хабалов сообщал, что так как действия казаков были неэффективны, им принято решение вызвать кавалерию из Кречевицких казарм.[55] Решение выглядит очень странным. В Петрограде имелся 9-й запасной кавалерийский полк, его эскадрон был в составе отряда А.П.Кутепова.[56] Вызванные эскадроны не имели боевого опыта и не готовили новобранцев, они занимались выездкой лошадей. 200 всадников не могли сыграть заметную роль в условиях восставшего Петрограда. Наиболее активный командир подразделения правительственных войск в Петрограде А.П.Кутепов вспоминал, что ему в помощь был передан эскадрон Запасного гвардейского кавалерийского полка. Он был вынужден сразу отстранить от командования ротмистра, требовавшего дать своим всадникам отдых. Вместо него был назначен поручик.[57] Никакой роли эти эскадроны в попытках подавить восстание не сыграли, хотя и были в центре событий. Характерно, что Николай II надеялся на кавалерию в то время, когда она уже безрезультатно завершила свою работу в Петрограде.
В «Протоколе событий Февральской революции» указывается, что на частном совещании членов Государственной Думы было составлено письмо. Его от имени М.В.Родзянко разослали Николаю II, его начальнику штаба и командующим фронтами А.А.Брусилову, Н.В.Рузскому и А.Е.Эверту (по другой версии это была личная инициатива Родзянко). Телеграммы императору среди документов Ставки не сохранилось, она известна только по воспоминаниям Родзянко.[58] Родзянко просил командующих поддержать его ходатайство у государя. В 22.22 в Ставке была получена телеграмма Родзянко. В сборнике «Ставка и революция…» её назвали «Сношения председателя Государственной Думы М.В.Родзянко начальнику штаба Верховного главнокомандующего М.В.Алексееву о неспособности правительства выполнять свои функции в условиях волнений в Петрограде с просьбой ходатайствовать перед императором о создании «ответственного правительства». Родзянко утверждал, что волнения принимают стихийный характер и их причина недостаток печеного хлеба. Может пролиться кровь, а забастовка парализовать железные дороги, что остановит оборонные заводы. Правительственная власть в параличе и бессильна восстановить порядок. России грозит поражение в войне. «Считаю необходимым и единственным выходом из создавшегося положения безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения»,[59] - писал Родзянко. Он умолял Алексеева обратиться к императору так как «В ваших руках, ваше превосходительство, судьба славы и победы России». Никакого «ответственного министерства» Родзянко не предлагал. Его предложение могло быть понято, как вариант «диктатуры тыла», предлагавшейся Алексеевым.
В час ночи 27 февраля командующий Юго-Западным фронтом генерал А.А.Брусилов сообщал в Ставку о полученной телеграмме Родзянко. Брусилов просил доложить императору, что не видит другого выхода, кроме выполнения совета Родзянко.[60] Позднее в Ставку пришли телеграммы еще двух командующих фронтами. Командующий Западным фронтом А.Е.Эверт сообщал, что в полночь получил телеграмму Родзянко. Генерал просил доложить императору, что недостаток продовольствия и развал железных дорог могут поставить армию в безвыходное положение. Он просил немедленно принять военные меры для налаживания сообщения и подвоза продовольствия.[61] В 21.35 27 февраля командующий Северным фронтом Рузский сообщал императору, что волнения в Петрограде могут плохо отразиться на армии. Генерал очень осторожно советовал о «принятии срочных мер, которые могли бы успокоить население и вселить в него доверие и бодрость духа».[62] Он считал, что репрессивные меры только обострят положение. Главнокомандующие, к которым Родзянко отослал телеграмму, выполнили его просьбу и обратились к императору с предложением мирно погасить конфликт.
Позиция великого князя Николая Николаевича определилась раньше. Великий князь Андрей Владимирович записал в своем дневнике рассказ Николая Николаевича об аудиенции у императора 6 ноября 1916 г. «Неужели ты не видишь, что ты теряешь корону. Опомнись пока не поздно. Дай ответственное министерство. Еще в июне с.г. я тебе говорил об этом. Ты все медлишь. Смотри, чтобы не поздно было потом. Пока еще время есть, потом уже поздно будет»,[63] - говорил Николай Николаевич императору.
Характерно то, что мнения главнокомандующих Николай II не спрашивал. Они отправили свои телеграммы следуя призыву Думы и М.В.Родзянко (1859-1924). Этот известный общественный деятель был сыном генерала, выпускником Пажеского корпуса, он начал службу в элитном Кавалергардском полку. В 1882 г. вышел в отставку и начал политическую карьеру с поста предводителя дворянства. Получил придворный чина камергера, избирался в Государственный Совет, а затем в 1906 г. в Государственную Думу. Один из основателей партии Октябристов и Прогрессивного блока, вождь умеренной оппозиции. Председатель III и IV Государственных Дум имел огромную популярность. В обществе он ассоциировался с голосом народных избранников. Так же его воспринимали и представители генералитета. По итогам Февральской революции он не вошел во Временное правительство, не смог подчинить его контролю Думы и проиграл А.Ф.Керенскому.
Общепринятой версией является то, что 27 февраля в Петрограде разразилась катастрофа, начался мятеж гарнизона, который поддержал бастовавших рабочих. Были убиты некоторые офицеры, часть солдат присоединилась к толпам на улицах, они силой вынуждали присоединяться некоторые другие части. Рабочим было передано оружие. Восставшие полки проявляли мало активности, некоторые части сохраняли верность правительству, но использовать их для подавления не получилось. В течение дня в Ставке был получен ряд телеграмм о катастрофическом положении в Петрограде.
В 13.03 была получена вторая телеграмма М.В.Родзянко Николаю II. Он реагировал на указ императора о прекращении заседаний Думы. На этот раз его оценки были более радикальны: правительство бессильно, на гарнизон надежды нет, запасные батальоны охвачены бунтом, убивают офицеров, началась гражданская война. Родзянко требовал возобновить работу Думы и назначить главу правительства, пользующегося народным доверием, иначе крушение России и династии неминуемо. «Час, решающий судьбу Вашу и родины, настал. Завтра может быть уже поздно», [64] - угрожал Родзянко. Часть депутатов Думы царскому указу не подчинилась и продолжила собрания в Таврическом дворце.
Судя по телеграммам Ставки первым сообщил о восстании гарнизона С.С.Хабалов. В 12.10 он рапортовал об отказе подавлять беспорядки подразделений Волынского, Литовского и Преображенского полков. Хабалов просил у Ставки присылки фронтовых частей.[65] В 13.15 военный министр М.А.Беляев сообщал М.В.Алексееву, что волнения некоторых войсковых частей «твердо и энергично подавляются оставшимися верными долгу ротами и батальонами». Он был уверен в скором наступлении спокойствия.[66] В 19.28 Беляев докладывал, что военный мятеж подавить не удается и необходимо прислать надежные части с фронта.[67] Лишь в 19.29 в Ставку была отправлена телеграмма о том, что Совет министров признал необходимым объявить Петроград на осадном положении.[68] В 20.10 Хабалов сообщил Алексееву о том, что повеление о восстановлении порядка в столице исполнить не смог. Мятежники овладели большей частью столицы. Верные войска понесли большие потери и стянуты к Зимнему дворцу.[69]
27 февраля в 22.30 с М.В.Алексеевым по телеграфу связался великий князь Михаил Александрович. Он просил доложить императору, что считает необходимым увольнение Совета министров и назначения лица «обличенного доверием вашего императорского величества и пользующегося уважением в широких слоях».[70] Это лицо должно было сформировать новый Совет министров, ответственный перед императором. Великий князь предлагал на этот пост князя Г.Е.Львова. Отъезд императора в Царское Село предлагалось отложить на несколько дней. 28 февраля в 01.59 в Ставке была получена телеграмма двадцати трех членов Государственного совета. Пугая императора поражением в войне и гибелью династии, депутаты требовали немедленного созыва законодательных палат, роспуска правительства и создания нового кабинета управляющего страной в согласии с народными представителями.[71]
Важнейшим событием пребывания в Ставке Николая II стало направление на Петроград фронтовых частей и назначение Н.И.Иванова (1951-1919) главнокомандующим Петроградским военным округом. Участник Русско-Турецкой и Русско-Японской войн Иванов был знаком с Алексеевым и Рузским по Киевскому военному округу, где был их начальником. Познакомившийся с Ивановым и Алексеевым в это время А.И.Гучков оценивал обоих генералов, как наиболее прогрессивных в армии.[72] С началом Первой мировой войны Иванов -командующий Юго-Западным фронтом, начальник его штаба Алексеев. В 1915 г. внимание на Иванова обратила императрица Александра Федоровна. Она рекомендовала назначить Иванова военным министром или перевести в Ставку. 10 сентября 1916 г. императрица писала мужу, что Иванов был у нее на аудиенции.[73] В результате в марте 1916 г. Иванов был прикомандирован к особе императора. Учитывая долгие переговоры Николая II с Царским Селом вечером 27 марта, можно предположить, что влияние на назначение Иванова в Петроград оказала императрица. Иванов был самым высокопоставленным военным в окружении императора, непривязанным к театру военных действий. Бывший командующий фронтом он был известен в обществе и армии. В то же время его характер и возраст не позволяли ожидать горячих и необдуманных действий до прибытия в Петроград императора.
Маловероятную версию предложил в своем «дневнике» Д.Н.Дубенский. Он писал, что идея направить Н.И.Иванова в Петроград пришла ему в голову 26 февраля. Это предложение он согласовал с лейб-медиком С.П.Федоровым.[74] 27 февраля Дубенский и Фёдоров пошли к Иванову и уговорили предложить императору свои услуги.[75] Полковник Б.Н.Сергиевский вспоминал, что кандидатуру Иванова избрал сам император. Это обидело М.В.Алексеева, который хотел видеть диктатором в Петрограде великого князя Сергея Михайловича и отказ он расценил как недоверие к нему.[76] Можно подтвердить только то, что Алексеев был сторонником установления твердой власти в столице. 26 февраля Николай II писал жене: «Алексеев спокоен, но полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека, чтобы заставить министров работать для разрешения вопросов: продовольственного, железнодорожного, угольного и т.д. Это, конечно, совершенно справедливо».[77]
На основании воспоминаний великого князя Николая Михайловича исследователь С.В.Куликов утверждал, что инициатором назначения Иванова в Петроград был Алексеев. Это было сделано по согласованию с А.И.Гучковым.[78] Используя как доказательство показания Иванова Чрезвычайной следственной комиссии, Куликов писал, что император поручил Иванову согласовать с Думой учреждение министерства народного доверия. Еще больше удивления вызывает цитирование исследователем разговора Дубенского с Ивановым об отправке в Петроград телеграммы об ответственном министерстве.[79] Если все было решено 27-28 февраля зачем Алексееву и Рузскому было тратить столько усилий на убеждение императора дать ответственное министерства 1 марта? Достаточно почитать телеграммы Ставки, чтобы понять, что Алексеев, озабоченный нейтрализацией экспедиции Иванова 2 марта, не мог быть инициатором «бумажного похода на Петроград», да еще вдохновленного Гучковым.
Дело в том, что 27-28 февраля цели экспедиции Н.И.Иванова поменялись. 27 февраля в 22.25 М.В.Алексеев сообщил М.А.Беляеву в Петроград о том, что главнокомандующим Петроградского военного округа назначается Н.И.Иванов. 28 февраля вместе с Ивановым в Петроград высылаются три роты Георгиевского батальона. Перечислялись войска Северного и Западного фронтов, направляемые в Петроград. Для Иванова предписывалось сформировать штаб из чинов Главного управления Генерального штаба.[80] 27 февраля в 23.25 Николай II писал Н.Д.Голицыну: «О главном военном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу».[81] С.С.Хабалов вспоминал, что Беляев просил его продержаться в Адмиралтействе до подхода генерала Иванова с войсками.[82] Следовательно, первой задачей Иванова 27 февраля была поддержка оставшихся верными правительству войск в Петрограде. В 8 часов утра 28 февраля в Ставке была получена телеграмма С.С.Хабалова, что число верных войск сократилось до 600 солдат и 500 всадников.[83] Стало очевидно, что эти силы до подхода Иванова не продержаться. Тогда целью Иванова стало Царское Село. Он должен был взять под охрану дворец и дождаться прибытия фронтовых частей. В 11.26 28 февраля Иванов телеграфировал командующему А.Б.Эверту, что ожидает прибытия частей в Царском Селе 1 марта.[84] Схожая по тексту телеграмма, была направлена, в 13 часов командующему Северным фронтом Н.В.Рузскому. Его полки должны были высадиться на станции Александровской.[85]
Новая диспозиция разбивала коварные планы М.В.Алексеева и Н.И.Иванова, если они у них были. Император планировал прибыть в Царское Село раньше Иванова. Таким образом управлением военной операцией и переговорами с восставшими он бы руководил лично. В случае необходимости главнокомандующий мог быть сменен. Думается, если бы запланированный «кулак» из фронтовых частей собрался в районе Царского Села переговоры с Думой могли завершиться успешно. В таком случае подавление восстания могло превратиться в умиротворение столицы и смену гарнизона. Уступки императора, опиравшегося на силу, могли быть очень скромны. Но Николай II до Царского Села не доехал. При этом император четко выразил свою волю. Фронтовые части должны были прибыть к столице.
В 21.20 М.В.Алексеев сообщал начальнику штаба Северного фронта о том, что император распорядился назначить генерал-адъютанта Н.И.Иванова командующим Петроградского военного округа. Из Ставки в Петроград отправляют Георгиевский батальон, с Северного фронта необходимо отправить два полка кавалерии и столько же пехоты.[86] 27 февраля между 21 и 22 часами командующим фронтов были сообщены названия частей, которые было необходимо отправить в Петроград в распоряжение генерала Н.И.Иванова. С Северного фронта 67 Татарский, 68 Бородинский, 15 Уланский Татарский, 3 Уральский казачий полк. С Западного фронта: 34 Севский, 36 Орловский, 2 Лейб-гусарский Павлоградский. С Юго-Западного фонта: 2 Донской казачий полк, Лейб-гвардии Преображенский полк, 3 Лейб-гвардии Стрелковый Его Величества полк, Лейб-гвардии Уланский Его величества полк. Однако погрузка гвардейских частей планировалась только на 2-3 марта. Б.Н.Сергиевский, писал, что император лично назначал части для отправки, при этом некоторые из них стояли на первой линии и требовалось время для их прибытия на станции.[87] Это сообщение не подтверждается другими мемуаристами и документами. В разговоре М.В.Алексеева с Ю.Н.Даниловым полки предлагалось выбрать по усмотрению командования Северного фронта, желательно из резервной дивизии.[88] Так же и Западному фронту предписывалось отправить полки по своему выбору.[89] Алексеев попытался установить контроль Ставки над железными дорогами.[90] До конца это мероприятие доведено не было. П.В.Мультатули считал, что это было актом саботажа со стороны Алексеева.[91] Хочется заметить, что контроль Ставки над железными дорогами не помешал бы революционным властям устраивать заторы и захватывать станции. Точно так же Лужский гарнизон перекрыл бы сообщение Пскова с Петроградом.
По рассказам мемуаристов М.В.Алексеев потратил много сил для того, чтобы уговорить Николая II остаться в Ставке. Усилия оказались бесполезны. Утром 28 февраля начальник военных сообщений генерал Н.М.Тихменев сообщал Алексееву, что царский поезд отошёл в 5 часов утра.[92] С отъездом императора в Царское Село открылась новая страница трагических событий Февральской революции.
Полковник Б.Н.Сергиевский вспоминал, что 1 марта получил приказ М.В.Алексеева отвезти пакет с документами и лентами переговоров к великому князю Сергею Михайловичу.[93] После этого великий князь прибыл в Ставку и принимал активное участие в событиях 1-2 марта. В этой связи встает вопрос о роли великих князей в Февральской революции. При Ставке находились братья великий князь Сергей Михайлович (1869-1918) генерал-инспектор артиллерии и великий князь Георгий Михайлович (1863-1919) основной функцией которого была поездка по фронтам. Но никто из них не встречал императора по приезду в Ставку и не был приглашен для совета. Генерал В.Г.Болдырев вспоминал, что 27 февраля Георгий Михайлович находился в штабе Северного фронта.[94] Великие князья вполне могли осуществлять связь между генералитетом и думскими деятелями. Они действовали в собственных интересах. Их желанием было отстранить от политики императрицу Александру Федоровну, вплоть до заключения в монастырь. После убийства Г.Е.Распутина Николай II не доверял великим князьям. 26 февраля - 2 марта он не сделал ни одной попытки обратиться за помощью к династии. Вероятно, царь был прав. Ближайшие по порядку наследования Михаил Александрович и Кирилл Владимирович пытались договориться с революционерами в Петрограде.
В период пребывания императора в Ставке, 23-27 февраля, М.В.Алексеев проявил лояльность. Он давал указания верным правительству частям в Петрограде и доводил до императора разнообразную информацию, поступавшую в Ставку. В запоздании этой информации были виноваты военные власти Петрограда, которые считали, что могут справиться своими силами. Николай II предвидел возможные волнения в столице и оставил соответствующие инструкции (в том числе о роспуске Думы). Он был уверен, что гражданские и военные власти справятся с беспорядками в соответствии с составленными планами.
В первые дни революции позиция М.В.Алексеева явно не проявлялась. Судя по воспоминаниям, часть чинов Ставки склонялась в пользу «ответственного министерства». А.С.Лукомский писал, что он уговаривал Алексеева идти к императору и заявить: «Единственный выход – это поступить так, как рекомендуют Родзянко, великий князь и князь Голицын».[95] В.М. Пронин рассказывал, что после начала восстания гарнизона Петрограда, дарование ответственного министерства было основным предметом разговоров офицеров Ставки. «Большинство в указанных выше суждениях склонялось к тому, что следует уступить и дать ответственное министерство»,[96] – писал мемуарист. Н.А.Базили вспоминал, что 27 февраля обратился к М.В.Алексееву с предложением убедить императора призвать к власти лиц, пользующихся общественным доверием.[97] Чины Ставки предпринимали и конкретные действия. Базили и А.Д.Бубнов пришли в вагон генерала Н.И.Иванова, уговаривали его не развязывать Гражданской войны и постараться договориться с Думой.[98]
26-27 февраля 1917 г. в телеграммах, приходивших в Ставку, формула «ответственное министерство» не звучала. Все предложения сводились к формированию нового правительства из лиц, пользующихся общественным доверием. Позицию М.В.Алексеева в этом вопросе иллюстрирует его разговор с великим князем Михаилом Александровичем в 22.30 27 февраля. Генерал сообщил великому князю, что император выезжает в Царское Село и все решения по правительству откладывает до его прибытия, что Иванов назначен главнокомандующим в Петроград и в его распоряжение направляются фронтовые части. Решение императора не идти на уступки и подавить восстание силой было выражено достаточно четко. При этом Алексеев добавлял от себя пожелание: «Чтобы высказанные вашим императорским величеством мысли в предшествовавшем сообщении Вы изволили настойчиво поддерживать при личных докладах его императорскому величеству как относительно замены современных деятелей Совета министров, так и относительно способа выбора нового Совета».[99] Алексеев обещал великому князю на утреннем докладе Николаю II доложить «о желательности теперь же принять некоторые меры». Н.А.Базили вспоминал, что в первые дни революции в Петрограде, Алексеев велел ему составить манифест об ответственном министерстве, где главой был князь Г.Е.Львов.[100] К сожалению, черновика этой телеграммы в книге Базили нет. Надо полагать, что это была реакция на предложение великого князя Михаила Александровича и М.В.Родзянко.
О возможности фронтовых частей подавить восстание в Петрограде свидетельствуют сами командующие фронтами. Генерал В.В.Сахаров писал императору 2 марта: «Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного Вам председателем Государственной думы. Я уверен, что русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойничья кучка людей, именуемая Государственной думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо встали бы за своего державного вождя…».[101] Незадолго до смерти, другой командующий А.Е.Эверт говорил: «Надо было оголить хотя бы фронт, но идти во главе верных частей на Петроград, чтобы защитить Государя и восстановить нарушенный порядок. Я, как и другие главнокомандующие, предал Царя и за это злодеяние все мы должны заплатить своею жизнью».[102] В том же духе были составлены телеграммы императору командира Гвардейского корпуса хана Г.Нахичеванского[103] и командира 3-го конного корпуса графа Ф.А.Келлера (не доставленная).[104] С самого начала революции М.В.Алексеев занял соглашательскую позицию, что и предрешило события 2-3 марта.
Зная о предстоящей поездке Николая II в область восстания, М.В.Алексеев распорядился отправить в Царское Село войска, которые могли бы составить охрану царского поезда. Похоже Алексеев очень не хотел, чтобы император объединился с императрицей. Он приложил все усилия, чтобы уговорить Николая II остаться в Могилеве. Дворцовый комендант В.Н.Воейков вспоминал, что когда он сообщил Алексееву об отъезде императора, то получил ответ: «А как же он поедет? Разве впереди поезда будет следовать целый батальон, чтобы очищать путь?».[105] Собрать «кулак» из полков под Петроградом не дала Ставка. Гвардейские части Юго-Западного фронта даже не прошли погрузку. Алексеев понимал, что ситуация меняется каждый час, при этом он допустил отсрочку силовой операции на 5 дней (так планировалось). Сложно не увидеть за подобными действиями злого умысла. Откуда у Алексеева была уверенность, что новому правительству удастся справиться с левыми элементами и восставшим гарнизоном? Если бы «кулак» фронтовых частей был под Петроградом, то сам Алексеев мог стать хозяином положения. Тут вновь встает вопрос о согласованности действий Родзянко и Алексеева. Есть вероятность, что начальник штаба Верховного главнокомандующего играл определенную роль в заранее согласованной игре.
Кондаков Юрий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена
[1] Асташов А.Б. Формула «правительство доверия» в представлениях общественности: из истории политических понятий накануне 1917 г. // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2021. № 7. С. 77.
[2] Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 317.
[3] Допрос Д.Н.Дубенского 9 августа 1917 г. // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. VI. С. 407.
[4] Перетц Г.Г. В цитадели русской революции: Записки коменданта Таврического дворца. 27 февраля – 23 марта 1917 г. Пг., 1917. С. 6-8.
[5] Глобачев К.И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. М.-Берлин, 2016. С. 86.
[6]Родзянко М.В. Крушение империи. М., 2002. С. 222.
[7] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 142.
[8] Александр Иванович Гучков рассказывает... М., 1993. С. 8.
[9] Там же.
[10] Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на революцию. (1907-19017). М., 2003. С. 138-144.
[11] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах Русской императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. М., 2000. С. 438.
[12] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 323.
[13] Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914-1917). Рязань, 2004. С. 179.
[14] Там же. С. 214-215.
[15] План военной диктатуры (1916) // Монархия перед крушением 1914-1917. М.-Л. 1927. С. 255-256.
[16] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах Русской императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. М., 2000. С. 445.
[17] Родзянко М.В. Крушение империи. М., 2002. С. 258-259.
[18] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах Русской императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. М., 2000. С. 447-448.
[19] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 326.
[20] Там же. С. 323.
[21] Вырубов В.В. Воспоминания о корниловском деле // Минувшее. М.–СПб., 1993. Т.12. С. 10-11.
[22] Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914-1917). Рязань, 2004. С. 324.
[23] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах Русской императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. М., 2000. С. 446.
[24] Гурко В.И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914-1917. М., 2007. С. 171.
[25] Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на революцию. (1907-19017). М., 2003. С. 203.
[26]Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914 – 1917). М., 2008. С. 173.
[27] Там же. С. 299.
[28] Там же. С. 300.
[29] Там же. С. 301.
[30] Там же.
[31] Падение царского режима. Ред. П.Е.Щеголев. Л.-М., 1925. Т. 2. С. 163.
[32] Там же. С. 165.
[33] Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 1995. С. 199.
[34] Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914-1917). Рязань, 2004. С. 365.
[35] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах Русской императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. М., 2000. С. 479.
[36] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 133.
[37] Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 3.
[38] Шиловский М.В. Император Николай II на посту верховного главнокомандующего по информации камер-фурьерского журнала за январь 1916 – февраль 1917 г. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 415. С. 151.
[39] В дни отречения (из дневника Николая II) // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 32.
[40] Там же. С. 33.
[41] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1998. С. 224-226.
[42] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 133.
[43] Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 5. М.-Л., 1927. С. 223-224.
[44]Катков Г.М. Февральская революция. М., 1997. С. 269.
[45] Допрос ген. С.С.Хабалова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. I. С. 191.
[46] Там же. С. 214.
[47]Показания А.Д.Протопопова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. IV. С. 46.
[48] Допрос ген. С.С.Хабалова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. I. С. 207.
[49]Допрос ген. М.А.Беляева // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. II. С.229-230.
[50] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 159.
[51] Февральская революция 1917 года // Красный архив. М., 1927. Т. 2. С. 5.
[52] Спиридович А.И. Великая война и Февральская революция (1914-1917). М., 2004. С. 525-530.
[53] Николаев А.Б. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. СПб., 2005. С. 258.
[54] Переписка Николая и Александра Романовых. М., 1927. Т. 5. С. 225.
[55] Допрос ген. С.С.Хабалова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. I. С. 188-189.
[56] Там же. С. 198.
[57] Генерал Кутепов. Сборник статей. Париж, 1934. С. 168.
[58] Родзянко М.В. Крушение империи. М., 2002. С. 299.
[59] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 135.
[60] Рапорт главнокомандующего Юго-Западным фронтом А.А.Брусилова // Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 136.
[61] Там же. С. 140-141.
[62] Там же. С. 142.
[63]Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914 – 1917). М., 2008. С. 251-252.
[64] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 138.
[65] Там же. С. 137-138.
[66] Там же. С. 139.
[67] Там же. С. 140.
[68] Там же. С. 141.
[69] Там же.
[70]Разговор по прямому проводу ген. Алексеева с вел. князем Михаилом Александровичем // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 11.
[71] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 152-153.
[72] Александр Иванович Гучков рассказывает... М., 1993. С. 7.
[73] Переписка Николая и Александра Романовых. М., 1927. Т. 5. С. 175.
[74] Дубенский Д.Н. Как произошёл переворот в России // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 46-47.
[75] Там же. С. 50.
[76] Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 7.
[77] Переписка Николая и Александра Романовых. М., 1927. Т. 5. С. 224.
[78]Февральская революция. СПб., 2013. Т. 3. С. 353.
[79] Там же. С. 354.
[80] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 145.
[81]Там же. С. 147.
[82] Допрос ген. С.С.Хабалова // Падение царского режима. М.-Л., 1926. Т. I. С. 201.
[83] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 156.
[84]Там же. С. 158.
[85] Там же. С. 165.
[86] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 143.
[87]Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 8.
[88] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 143.
[89] Там же. С. 144.
[90] Там же. С. 148.
[91] Мультатули П.В. Император Николай II и заговор 17-го года. М., 2013. С. 275
[92] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 156.
[93] Сергиевский Б.Н Отречение 1917 // Кадетская перекличка. № 38. Нью-Йорк. 1985. С. 12.
[94] Из дневника генерала В.Г.Болдырева // На крутом переломе. М., 1984. С. 327.
[95] Лукомский А.С. Из воспоминаний // Архив русской революции. Берлин, 1921. Т. 2. С. 22.
[96] Пронин В.М. Последние дни Царской Ставки. Белград, 1930. С. 14.
[97] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 126.
[98]Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 229; Бубнов А.Д. В царской ставке // Конец российской монархии. М., 2002. С. 152.
[99] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 147.
[100] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 323.
[101] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 296.
[102] Друцкой-Соколинкий В.А. На службе отечеству. Записки русского губернатора, 1914-1918. М., 2010. С. 58-59.
[103] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 419.
[104] Там же. С. 633-634.
[105] Воейков В.Н. С царем и без царя. М. 1993. С. 225
[106] Лукомский А.С. Из воспоминаний // Архив русской революции. 1921. № 2. С. 29.
[107] Исаев А.В. Императорский поезд. Хроника трех дней. 28 февраля – 2 марта 1917 года. СПб., 2023. С. 52.
[108] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 206.
[109] Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах императорской армии. Генерал М.В.Алексеев. СПб., 2000. С. 478.
[110] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 161.
[111] Там же. С. 166.
[112] Там же. С. 170-171.
[113] Там же. С. 183.
[114] Там же. С.173.
[115] Там же. С. 192.
[116] Там же. С. 193.
[117]Февральская революция 1917 года. Сборник документов и материалов. М., 1996. С. 124-125.
[118]Ломоносов Ю.В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. Стокгольм, Берлин, 1921. С. 39.
[119]Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 – начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 204.
[120] Там же. С. 205.
[121] Там же. С. 223-224.
[122] Там же. С. 199.
[123] Там же. С. 195.
[124] Там же. С. 197-198.
[125] Февральская революция. СПб., 2013. Т. 3. С. 364.
[126] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 200.
[127] Там же. С. 206.
[128] Там же. 196.
[129] Там же. С. 200.
[130] Там же. С. 210.
[131] Там же. С. 220-221.
[132] Там же. С. 223-224.
[133] Телеграмма ген. Рузского к Родзянко // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 46.
[134] Там же. С. 52.
[135] Телеграмма ген. Лукомского ген. Данилову // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 43-44.
[136] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 225.
[137] Там же. С. 227.
[138]Там же. С. 228.
[139] Государь на фронте. Воспоминания. М., 2012. С. 153-154.
[140] Письмо ген. Вилиамса Николаю Романову // Романовы и союзники в первые дни революции // Красный архив. 1926. Т. 16. С. 46-47.
[141] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 232.
[142] Там же. С. 238.
[143] Там же. С. 233.
[144] Базили Н.А. Воспоминания дипломата Императорской России. 1903-1917. М., 2023. С. 134-135.
[145] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 279.
[146] Там же. С. 280.
[147] Там же. С. 239.
[148] Телеграмма ген. Алексеева к царю // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 53.
[149] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 250.
[150] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 142-145.
[151] Вильчковский С.Н. Пребывания государя императора в Пскове 1 и 2 марта (по рассказу генерал-адъютанта Н.В.Рузского) // Русская летопись. 1922. Кн. 3. С. 169-171.
[152] Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова
(1914 – 1917). М., 2008. С. 302-304.
[153] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 274.
[154]Там же. С. 241.
[155] Там же. С. 257.
[156] Там же. С. 276.
[157] Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. М., 2006. С. 398-399.
[158] Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 251-253.
[159] Дубенский Д.Н. Как произошёл переворот в России // Русская летопись. Т. 3. С. 46-49.
[160]Мордвинов А.А. Последние дни императора // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927. С. 106.
[161] Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 1995. С. 231-232.
[162] Камер-фурьерские журналы. 1916-1917 гг. СПб., 2014. С. 434.
[163] Николай Романов 28 февраля – 4 марта 1917 г. // Красный архив 1925. № 8. С. 245.
[164] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 231.
[165] Там же. С. 233.
[166] Там же. С. 235.
[167] Там же. С. 241.
[168] Тут и дальше: «генкварсев» - генерал квартирмейстер Северного фронта, «начтасев» - начальник штаба Северного фронта, «главкосев» - главнокомандующий Северным фронтом; «наштаверх» - начальник штаба верховного главнокомандующего, «генкварверх» - генерал квартирмейстер верховного главнокомандующего.
[169] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 241.
[170] Там же. С. 243.
[171] Там же. С. 245.
[172] Там же. С. 246.
[173] Телеграмма Его Императорскому Величеству. Псков // Русская летопись. 1923. Кн. 3. С. 124.
[174] Ставка и революция. Штаб Верховного главнокомандующего и революционные события 1917 — начала 1918 г. Сборник документов / от. ред. И.О.Гаркуша. М., 2019. Т. 1. С. 245.
[175] Там же. С. 243.
[176] Там же. С. 254.
[177] Там же. С. 264-266.
[178] Там же. С. 266.
[179] Там же. С. 270.
[180] Там же. С. 285.
[181] Там же. С. 303.
[182] Там же.
[183]Суханов Н.Н. Записки о революции. М. 1991. Т. 1. С. 137.
[184]Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 45-46.
[185] Романовы и союзники в первые дни революции // Красный архив. 1926. Т. 16. С. 49.


















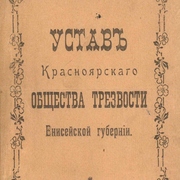







3. Царская тема меня заинтересовала
Но в любом случае,приход Ленина был запрограммирован на высшем уровне.Раскачка в Питере была была со всеми известными знакомыми результатами.Без Царя,все эти думцы и другие недальновидные дилетанты были обречены.Октябрьские потрясения всё равно свершились бы.Однозначно.Германию держали в состоянии войны с Россией только для того,что бы было отвлечение русских на фронтах,далее Германия предательски легла под Антанту.Самовольно.Все понимали,кроме простых работяг,что никогда Германия не выиграет войну.Не успели Николая Второго свергнуть,как вступил в войну самых мощный и самый опасный заинтересованный хищник-США.Вудро оплатил войну такими денежками,что перед этим искушением не устоял никто.Кроме Николая Второго.Все помыслы недалёких и наивных до жадности буржуазников(участников буржуазного переворота с большевицким оттенком) оказались чистым фантазийным бредом.Кто и понимал и читал происходящее в реальном виде,так это был только и исключительно НИколай Второй.Царская разведка знала многое или почти всё,что намечалось.Но Царь поступил так,что для вида казалось.что он не Ведал о намерениях купленных глупцов.Такая же многоходовка была проделана в СССР.Только партноменклатуру покупали видеомагнитофонами.И они пьяными подписывали приговор государству-СССР.
2.
немецкие колонии в Новороссии (северном Причерноморье и Приазовье тоже стали растворятся... Их судьба не описана практически ни кем из историков. Но в нынешних Одесской, Николаевской областях есть много сёл, жители которых живут в немецких (построенных немцами для себя до революции) домах, и даже немецкие церкви сохранились... Правда в весьма запущенном состоянии...
1.
Второй фактор - сколько частей нужно снять с фронта для подавления мятежа, к тому же без четкой в уверенности в успехе? А немцы? Будут сидеть и смотреть.
Поэтому винить генералов не стоит - их задача вести войну, и если монархия стала в этом вопросе помехой то им ничего не оставалось кроме как пойти на свержение монархии.