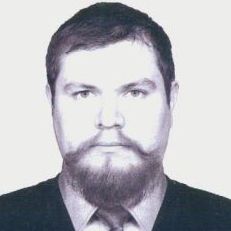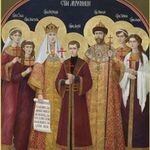«Цель намерений Наших – к утверждению Российского флага на Чёрном море» (Екатерина II)
Светлой памяти Василия Константиновича Дементьева
В нынешнем году исполняется 250 лет со времени победоносного для России окончания первой войны с Турцией в царствование Императрицы Екатерины II. От военных конфликтов между «Высокой портой» и Российской империей предыдущих эпох война 1768-1774 годов отличается целым рядом особенностей – это и невиданный дотоле масштаб театра военных действий (от Азова до Архипелагских островов, Бейрута и Дамьетты), и результат, потрясший основы турецкого могущества, и создание масштабного, боеспособного морского флота на огромном удалении от морей, в Воронежской губернии, на верфях Тавровского адмиралтейства – в том числе, у устья реки Икорец, притока Дона. Силами краеведов Лискинского района проведено и проводится в данный момент несколько мероприятий по сохранению памяти об этих событиях.
События Русско-турецкой войны повлияли на ход исихастского возрождения на Св. Горе Афон и на Балканах второй половины XVIII века. Обо всём этом пойдёт речь в настоящей статье, однако, по преимуществу, будет раскрыта малоизвестная тема – историй Икорецкой верфи и её роль в Победе 1774 года.
Часть 1. «Донская экспедиция есть дитя, кое у матери своей крепко на сердце лежит» (Екатерина II) [1]
Верфь на Икорце, созданная по распоряжению Петра Великого в 1709 году, имеет три этапа работы. Первый оказался непродолжительным, Пётр был вынужден свернуть кораблестроение в Воронежском крае согласно условиям мирного договора с Турцией в 1711 году. Попытки возрождения воронежского кораблестроения предпринимались Петром Великим незадолго до кончины, в 1722-1723 гг. Второй этап наступил в 1735 году и был связан с новой войной против Порты, завершившейся признанием Азова русским городом. Однако, при серьёзном символическом значении данного события (Императрица Анна Иоанновна стёрла с Петровской эпохи постыдное пятно, связанное с Прутским походом), практического значения победа не получила: Азов не стал крепостью, сохранялась «серая зона» между Россией и Турцией, наполненная кочевыми племенами, представлявшими угрозу для русских городов – от Киева до Воронежа. Чтобы представить, как выглядела тогда южная граница нашей страны, сошлёмся на воспоминания капитан-лейтенанта Ханыкова: он упоминает встреченных им в Новохопёрской крепости в 1772 году выходцев из «разных нижних подле границы от турок и Польши городов, а именно Новгорода (Северского), Полтавы, Глухова, Киева, Харькова и прочих...»[2]. Стремление к Чёрному морю, ознаменовавшее военную историю Московского государства ещё с середины XVI века, так и оставалось неосуществлённым… Наконец, в 1768 году началась новая эпоха в жизни России, греко-славянского и арабского православного мира, и Икорецкой верфи – для последней, увы, завершающая. Ещё в конце XVIII века, накануне блистательных побед икорецкого мичмана и несокрушимого адмирала, Св. праведного воина Феодора Ушакова, Икорецкая верфь числилась среди верфей военно-морского ведомства[3], но уже в XIX столетии на Икорце о былых бурных и славных временах напоминала скромная речная пристань… И всё же, свой вклад в восстановление утраченного ещё во времена ордынской неволи русского присутствия на Азовском и Чёрном морях Икорецкая верфь внесла[4].
Монета с Икорецкой верфи
Охрана Азова от турецких покушений, обеспеченная силами построенных на Икорце судов, и была первой задачей Донской экспедиции, или «Азовской морской экспедиции», согласно первоначальному суждению Императрицы Екатерины II, которым она поделилась с графом Румянцевым – будущим Задунайским.
Граф П.А.Румянцев-Задунайский
«Нарядили мы и морскую экспедицию и командировали уже адмиралтейского генерала кригс-комиссара Селиванова в Тавров и в прочие тамошние адмиралтейства как для приготовления лесов к строению судов разной величины и для возобновления нужных магазинов и прочего на предбудущее предприятие, так и для окончания для сей настоящей экспедиции зачатых уже в тех местах пяти прамов, построя к ним потребное число мелких судов, и сверх того повелели весною доставить до Черкасска до шестидесяти вооружённых лодок… Сию Азовскую морскую экспедицию поручили мы контр-адмиралу Алексею Сенявину, и приказали ему действовать по вашим требованиям»[5]. Фраза о «зачатых прамах» может относиться только к икорецким, поскольку они были единственными законсервированными судами такого рода на воронежских верфях в тот период (а других военно-морских верфей в рабочем состоянии на юге России тогда просто не было). Прамы – плавучие артиллерийские батареи, мощное и опасное оружие в умелых руках, уже пускавшееся нами в ход при Азове в 1735-1736 годах.
«К Азову командирован от нас генерал-поручик [Фридрих] Вернес или кого Вы заблагоусмотрите с несколькими полками и достаточною иженерною командою для возобновления сей крепости, ибо мы твёрдое приняли намерение стараться одержать оную при мире в нашу сторону… Для равного её с морской стороны прикрытия командирована уже отсюда в Тавров[6] морская экспедиция. Она имеет немедленно построить и вывесть к Азову некоторое число прамов и других способных судов»[7].
Алексей Наумович Сенявин
Важно отметить, в каком отношении состоял граф Румянцев к адмиралу Сенявину (Алексею Наумовичу) и Икорецкой верфи. В начале войны, до взятия Хотина, первой армией, имевшей наступательные задачи, командовал князь А.М. Голицын. Второй армией, оборонительной, заведовал Пётр Александрович Румянцев, третьей армией (обсервационной) – П.И. Олиц, впоследствии – герой Журжи и кавалер ордена Св. Георгия редкой 2-й степени. Сенявин был подчинён Румянцеву: «Екатерина… подняла вопрос о создании флота на Чёрном и Азовском морях. Для этой цели императрица избрала контр-адмирала Алексея Наумовича Сенявина, подчинив его графу Румянцеву, и дав ему в помощники кригс-коммиссара Селиванова»[8].
Когда же Екатерина II выразила недовольство, как ей казалось, медлительностью князя Голицына (о состоявшемся взятии Хотина она в тот момент сведений ещё не имела), Румянцев был переведён в первую армию, а на его место назначен брат влиятельного вельможи Никиты Панина – граф Пётр Иванович Панин. Именно от него, по общим правилам, стала зависеть Икорецкая верфь и вся Донская экспедиция – до конца войны. В оперативном же отношении суда, спустившиеся по Дону от Икорца к Азову и далее – вплоть до Балаклавской бухты, с момента овладения Крымом армией В.М. Долгорукова зависели от этого военачальника, получившего почётное прозвище «Крымский»[9]. Пока не был основан Черноморский флот, морские суда России на Азовском и Чёрном морях воспринимались (как и ранее, например, в 1674 году, когда флотилия Косагова и Хитрово проследовала из Воронежа мимо устья Икорца к Азову) лишь в качестве вспомогательных сил сухопутной армии.
… 24 апреля 1769 года неутомимый Сенявин докладывал: «Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу: прамы в построении снаружи плотничною и конопатною работами отделаны и по вскрытии 28 марта реки Дона, в самое большое возвышение воды апреля 5 дня, что было сверх ординарной на 10 футов 8 дюймов, [прамы] №№ 5 и 4, а 6 апреля №№ 3, 2 и 1 с берегу при мне спущены благополучно и на них флаг Вашего Императорского Величества на донских водах оказался, о чём Адмиралтейской коллегии 9 числа рапортом донёс, и по спуске, оставя на них для достройки внутри, также к делу под пушки лафетов надобное число плотников, затем достальных всех определил к строению 29 лодок и одной дубель-шлюпки»[10]. 30 апреля Сенявин сообщал Императрице: «Я нахожусь на прамах с 27 апреля, они стоят на реке Дону против Икорецкой верфи, комплектуются по ходу надобным»[11]. Св. Феодор Ушаков командовал несколькими прамами[12]. В 1769-1770 гг. три прама стояли у устьев Дона, а два были отправлены в Новопавловск. После занятия русским флотом всего Азовского моря и вступления нашей сухопутной армии в Крым, нужда в прамах отпала. Те, что защищали наш гарнизон в Азове, постепенно обветшали и были сломаны, находившиеся же в Новопавловске – законсервированы.
Однако, суда, построенные на Икорце, и после 1771 года продолжали влиять на судьбу Северного Причерноморья. Это были «новоизобретённые корабли», обязанности по строительству которых коллегия разделила поровну между Икорцем и Новопавловском. Данные суда представляли собой гибриды, пригодные для движения как по рекам, так и по морю. Несмотря на регулярно повторявшиеся (особенно от капитана Кинсбергена) жалобы на качество «новоизобретённых кораблей», они, в большинстве, честно отслужили до конца войны, а «Модон» и «Морея» с Икорца, а также «Корон» из Новопавловска, покрыли себя неувядаемой славой во время боёв завершающего этапа борьбы за Русский Крым (1773-1774 гг.). 29 августа 1773 года Сенявин докладывал в письме Адмиралтейств-коллегии: «27-го числа сего месяца, получил я с таманской стороны чрез конфидентов известия, яко бы неприятель на 110 судах военных, с десантом, к Суджук-Кале прибыл; почему я, поруча крепость Еникальскую, город Керчь и находящиеся при оных войска, господину генерал-майору барону [Карлу Борисовичу] Дельвигу, сам вчера переехал на фрегат «Первый», и ныне стою при устье пролива на Чёрном море, в ожидании способного ветра, и как оный получу, то с фрегатом «Первым» и кораблями «Хотином», «Короном», малым бомбардирским и тремя ботами палубными, пойду к Суджуку для соединения с первоотправленной туда 17 числа сего месяца, под командою капитана 2-го ранга и кавалера Кинсбергена, эскадрой, в числе коей фрегат «Второй» и корабли «Журжа», «Модон» и «Азов», да бот палубной и брандер…»[13]. Победа донских, в том числе икорецких, кораблей, над сильной турецкой эскадрой при 23 августа при Суджук-кале была «безукоризненная и блестящая», она позволила предотвратить высадку шеститысячного десанта турок. После неё «Морея» и «Модон» были поставлены в Балаклавской бухте. «Лейтенант Ф.Ф. Ушаков, командуя в 1773 году… ботом «Куррьер», ходил в Кафу, Таганрог, и находился в крейсерстве; по прибытию же к эскадре в Балаклаву, в исходе сентября, получил в командование корабль «Морею», но вскоре ему поручен был другой корабль, «Модон», для следования в Таганрог; однако, корабль этот по ветхости своей не мог отправиться осенью и зимовал в Балаклаве…»[14]. На финальном этапе войны Св. Феодор Ушаков служил в Балаклавском отряде кораблей[15]. Он участвовал в защите Балаклавской бухты во время турецкого нападения, а также в сосредоточении кораблей у Керчи непосредственно после Кючук-Кайнарджийского мира.
Новоизобретенный корабль из Лиск.музея
…Осенью 1773 года «Модон» вышел из Балаклавы и отправился в Инкерманскую или Херронийскую бухту. На икорецком корабле шла описная партия под командованием штурмана прапорщичьего чина Ивана Батурина. Карта этой бухты была первой картой, познакомившей Россию с Севастопольским рейдом. «Батурин в то время нашёл там ещё множество развалин древнего Херрониса (из него греческие колонисты перешли в Херсонес). Он нашёл ещё хорошо уцелевшие башни и стены греческой крепости, окрещённой татарским именем «Инкермана»; под ней в горе и в окружных возвышениях нашёл он множество пещер, некоторые из них с часовнями; а кругом по берегам залива – бесчисленное множество развалин от построек всех веков и владельцев Крыма, начиная с … тавров и скифов, и до последних греческих и турецких колонистов…
Только на северной стороне бухты, верстах в трёх от Инкермана, в небольшой балке приютилась невзрачная татарская деревушка «Ахтиар», состоявшая всего из десяти мазанок... В Батурине вы находите первого европейского топографа, который занимался съёмкой этих мест, и на его карте открываются такие археологические достопримечательности, которых мы не видим ни у Палласа, ни у Дюбуа-де-Монпере, наиболее тщательных исследователей херсонесских древностей… Отчётливо нанесены на ней греческие церкви, как то: собор Св. Георгия Победоносца, церковь Св. Дмитрия, Св. Сергия, Вознесения Господня… В течение первой турецкой войны в царствование императрицы Екатерины II, именно в 1771 году, мы овладели Крымом при помощи нашей Азовской флотилии, построенной на Дону и состоявшей всего из 12 малых и плоскодонных военных судов, имевших средним числом по 16 орудий на каждом (выделено мной – А.П.). Всех морских команд на этих судах состояло тогда на лицо… до 2000 человек»[16].
Автор описания Таганрога подводит следующий итог: «Сенявин постоянно разъезжал по Дону и Азовскому морю, оставив память своего имени в станице Сенявке между Таганрогом и Ростовом. Бывал он в Воронеже, в Новохопёрске, где строились суда. Следил за постройкой особых судов, строившихся по новой системе, выработанной адмиралтейством [т.е. «новоизобретённых» - А.П.]. Но когда дело постройки разрослось, то потребовались особые лица по разным отраслям морского дела и начальником азовской флотилии был сделан контр-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв, с подчинением ему и таганрогского порта. В период с 1776 по 1779 годы азовская флотилия, центром которой был Таганрогский порт, в который по заключении Кючук-Кайнарджийского договора Императрица приказала увести все суда, кроме фрегатов, оставленных в Керчи, состояла из 8 фрегатов, 11 плоскодонных судов, 6 ботов, 5 галиотов, 9 транспортных судов и 3 шхун»[17]. Таким образом, первый в истории главный командир Черноморского флота и портов имел под своим началом корабли, построенные на Дону.
Есть заслуга икорецких матросов, офицеров, адмиралов также и в обустройстве Новороссии (ведь Ростов-на-Дону до революции относился к Екатеринославской губернии).
Часть 2. Пробуждая историческую память
Об описанных выше событиях шла речь на разных мероприятиях, проводившихся и ведущихся сейчас в Лискинском районе – их кульминацией нужно признать круглый стол, состоявшийся в Лисках 5 августа нынешнего года.
Первую мысль о мероприятии в честь юбилея я подал ещё осенью 2023 года, когда читал, в музее военно-морского флота села Нижний Икорец, доклад о взятии русскими моряками и их арабскими и балканскими союзниками нынешней столицы Ливана – Бейрута. Тогда этому событию как раз исполнялось два с половиной века. Военные действия у берегов Сирии и Ливана принесли нам несколько побед – как и действия построенных на Икорце судов у берегов Крыма. Ближе к дате подписания мирного договора я обсудил предстоящее празднование с коллегами. Огромную, неоценимую помощь оказала Инна Витальевна Горбачёва, по её предложению организатором акции 5 августа стала АНО «Центр развития культуры и инноваций». Инна Витальевна пригласила известных ей специалистов из нашего областного центра и Республики Крым. Я, в свою очередь, привлёк лискинских активистов-краеведов. Круглый стол прошёл в Молодежном центре, с участием, в том числе, активистов Молодёжного Ушаковского общества, волонтёров культуры, учащихся школы «Интерлингва», которые стали заинтересованными слушателями.
Круглый стол 5 августа
Мне как ведущему была предоставлена возможность открыть круглый стол, я также кратко ознакомил собравшихся с итогами Русско-турецкой войны 1768-1774 годов и указал на значение Кючук-Кайнарджийского мирного договора для развития России и, в частности, территорий Крыма и Новороссии. Весьма важным был и международный отклик на победу нашей страны – некоторые участники политических и экономических отношений в Средиземноморье, такие, как Республика Дубровник (Рагуза), после 1774 года изменили своё отношение к России с враждебного на дружественное. В Черногории, Болгарии, греческих землях и Сирии влияние России, и до этого ощутимое, стало ещё более существенным. Служащие Икорецкой верфи внимательно следили за происходившим в Средиземном море, ведь там, у греческих берегов, служили родственники офицеров Донской экспедиции Пущина и Фондезина. Суда «Модон» и «Морея» были названы в ознаменование Архипелагской экспедиции, их имена – греческие топонимы. Благодаря платформе «ЯндексТелемост» с нами вышел на связь диакон Вадим Подзигун, студент четвёртого курса Таврической духовной семинарии. В организации нашего общения помогали «Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий» Республики Крым и тамошний «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». Отец Вадим вкратце напомнил собравшимся жизненный путь героя войны 1768-1774 годов св. Феодора Ушакова (круглый стол был приурочен к летнему дню его памяти), а также поведал о современном почитании непобедимого флотоводца и подвижника милосердия, которому посвящены в Тавриде несколько храмов.
Я от имени всех участников круглого стола выразил о. Вадиму искреннюю благодарность. Мы знаем, что враги России неоднократно пытались отнять у нас Крым, и сегодня его жители подвергаются опасности со стороны Украины и стоящего за ней альянса НАТО. Черноморский флот участвует в СВО. Мы пожелали нашим согражданам в Крыму, в лице о. Вадима, стойкости и мужества в защите священных рубежей нашего Отечества и приближении столь желаемой нами Победы в Специальной Военной Операции. Только победа сможет обеспечить безопасность земель, присоединенных к России начиная с 1774 года, а также нормальное развитие Черноморского флота.
Разные грани сообщения о. Вадима получили новое освещение в последующих докладах.
Клирик Владимирского собора священник Павел Симора представил собравшимся свой взгляд на служение прославленного адмирала. Отец Павел отметил сочетание мужества Фёдора Фёдоровича в сражениях и гуманности в отношении побеждённых врагов – турок, французов. Не лишним было напоминание о том, что старец из Санаксарского монастыря Феодор, приходившийся черноморскому герою дядей, существенным образом повлиял на духовное становление икорецкого мичмана и будущего освободителя Корфу. Кстати, Феодор Старший, как теперь его называют, бывал в Воронеже во время войны 1768-1774 годов, так как Темников, рядом с которым расположен Санаксарский монастырь, имел административную связь с Воронежской губернией. Ветеран флота, капитан Юрий Лисовский, поделился воспоминаниями, связанными со встречей с самим «Фёдором Ушаковым» – конечно, не адмиралом, а кораблём. Юрий Владимирович украсил аудиторию нашего круглого стола фотографиями большого формата, связанными со службой на Черноморском флоте. Это были тоже своего рода окна в Тавриду. Уместно будет упомянуть, что капитан Лисовский ещё более 25 лет тому назад опубликовал в газете «Лискинские известия» серию статей об Икорецкой верфи, о существовании которой в советское время почти забыли. Доклад директора Лискинского историко-краеведческого музея Ирины Беляковой был наполнен драматическими подробностями. Ознакомив участников круглого стола с усилиями музея по увековечению памяти об Икорецкой верфи, её матросах и адмиралах, Ирина Алексеевна перешла к современности. В наш музей поступают экспонаты из зоны СВО, трофеи, свидетельствующие о том, против кого мы на самом деле воюем. Как в 1768 году за спиной Турции стоял Париж, отправлявший османам оружие и военных специалистов, снабжавший дряхлеющую Порту деньгами, так и сегодня США, Франция, Великобритания, а также наши бывшие союзники по Варшавскому договору не дают угаснуть войне на исторических российских землях, мечтают отнять Крым, Новороссию, Кавказ. Мы боремся за само право существовать в границах, за которые в прошлые века было заплачено сотнями тысяч, а в XX столетии – миллионами жизней наших предков.
Маститый воронежский краевед, директор издательства «АЛЬБОМ» Владимир Леонидович Елецких рассказал о своём родственнике, Владыке Ионафане (Елецких, в 1999-2006 году Архиепископе Херсонском и Таврическом, а затем митрополите Тульчинском и Брацлавском), который, будучи мирным человеком, попал во вражеские застенки и спасся благодаря обмену пленными и удерживаемыми лицами. Владыка, служа на Украине, возвёл часовню в честь Св. Феодора Ушакова на месте службы адмирала, в Херсоне. Эта информация тем более уместна, что Алексей Наумович Сенявин, начальник Св. Феодора на Икорце, указал место строительства верфи в Херсоне: «Что адмирал Сенявин выбрал для верфи на Днепре место у нынешнего Херсона – исторический факт»[18].
Профессор Сергей Васильевич Шахов, начальник бизнес-инкубатора ВГУИТ, председатель воронежского Общества Императора Петра Великого, остановился на практической стороне создания, функционирования и восстановления мемориальных мест. например, старинного храма в селе Тихвинка. В связи с выступлением профессора Шахова ряд участников круглого стола, в том числе и ваш покорный слуга, затронули вопрос об объединении усилий неравнодушных людей в рамках всей Воронежской области – в деле оживления памяти о победе 1774 года. Св. Феодор Ушаков трудился не только на Икорце, но и в Новопавловске (ныне райцентр Паловск), Новохопёрске. И если в Павловске память об этом чтится на должном уровне, как неоднократно подчёркивал капитан Лисовский, то в Новохопёрске Крестовоздвиженский собор, который, по сути, является едва ли не единственным масштабным памятником эпохи Русско-турецкой войны 1768-1774 годов на территории нашего региона, находится в плачевном состоянии.
Крестовоздвиженский собор в Новохопёрске
А ведь его стены помнят непобедимого адмирала. Когда храм строился, Св. Феодор принимал корабль на местной верфи. По крайней мере в следующем году нельзя упустить шанс достойно отпраздновать юбилей св. Феодора на местах его трудов в нашей области, включая Нижний Икорец, Масловку и Новохопёрск, объединённые в годы Русско-турецкой войны заказами на верфях для Донской экспедиции адмирала Алексея Наумовича Сенявина – эта экспедиция была зародышем Черноморского флота. Об этом напомнил профессор Шахов, предложив изготовить памятную медаль.
По удалённой связи участников круглого стола приветствовал Владимир Анатольевич Иванов, член президиума ООГО «Ассамблея народов России», член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области. Во время его выступления, посвящённого рассмотрению юбилея победы 1774 года в рамках всей российской истории, мы почувствовали, насколько серьёзный шаг нами был сделан – Лиски оказались одним из немногих городов России, где было устроено памятное мероприятие на эту тему. Участники круглого стола, с подачи Владимира Анатольевича, единодушно выразили пожелание, чтобы информация о нашей встрече распространилась как можно более широко.
Мария Сергеевна Гриднева, председатель совета Музея ВМФ в Нижнем Икорце, рассказала о нашем опыте отстаивания исторической памяти. Магистрант Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Михаил Клеймов дополнил её рассказ, расширив его географическое измерение до «Никольского периметра», территории, где за последние 400 лет было возведено несколько храмов и часовен в честь Святителя Николая – покровителя моряков. Это и Масловка, и Нижний Икорец, и Николаевка, и Духовое. Я продолжил мысль уважаемого Михаила и отметил древность почитания Святителя как населением Белгородской черты, поскольку в Белгороде находилась чудотворная икона Николы Ратного, так и переселенцами из Киева и Чернигова (известный в истории Лискинского края полковник Дзиньковский прибыл к нам из-под Чернигова) – в Киеве был известнейший образ Николы Мокрого. Лискинский «Никольский периметр» возник при соединении этих двух традиций. Именно так зародилась та духовная атмосфера, в которой работал молодой Ушаков и о которой упоминает его сослуживец по Донской экспедиции капитан Ханыков.
Примечательно, что храм св. Николая с 1770-х гг. находится также и в Таганроге.
Информация о Музее ВМФ заинтересовала наших коллег Елецких и Шахова, они в тот же день осмотрели его экспозицию и покинули наш край весьма воодушевлёнными. Как подчеркнул В.Л. Елецких, Воронеж очень нуждается в информации о нижнеикорецких и масловских достопримечательностях – Масловский храм и якорь, подаренный Черноморским флотом и обозначающий место верфи, гости, конечно, тоже увидели.
Главный урок прошедшего мероприятия я вижу в том, что мы осознали, насколько много работы нам предстоит на ниве исторического просвещения. Кючук-Кайнарджийский договор открыл русским паломникам возможность относительно безопасного прохода к святыням Палестины, Керчь и Еникале стали российскими крепостями, Россия начала присоединение больших участков Предкавказья и Северного Кавказа. Так волей Екатерины Великой была воскрешена древняя Азовская Русь, или Тьмутаракань, упоминаемая в «Слове о полку Игореве» и ставшая, таким образом, предтечей Новороссии. Обо всём этом нужно говорить, ведь не только жители Икорцев и Масловки приближали победу 1774 года. Острогожский полк, формировавшийся, в том числе, из жителей правобережной части нынешнего Лискинского района, также участвовал в сражениях. Но об этом мало кто знает – как в Воронежском крае, так и в столицах. Поэтому с 15 октября 2024 года мною, как научным сотрудником Лискинского историко-краеведческого музея, проводится серия краеведческих уроков на тему «Лискинский край в годы Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Непобедимый адмирал Фёдор Ушаков – мичман на Икорецкой верфи. У истоков Черноморского флота».
Краеведческий урок
Если территория не будет крепко привязана к нашему самосознанию нитями исторической памяти – её рано или поздно вырвут из наших рук. История – это тоже поле битвы. Историческая истина – как воинское знамя, её тоже порой приходится защищать с оружием в руках. Что и делают сегодня воины СВО. А мы – в тылу – обязаны помогать им, восстанавливая фундамент исторической преемственности, без которой и мы, и они – на краю пропасти поражения и забвения. В повествовании о Донской флотилии отразилась жизнь русского народа как субъекта всемирной истории.
В этом и был высший смысл прошедшего круглого стола.
Часть 3. О молчании – благом и недостойном
С периодом Русско-турецкой войны 1768-1774 годов связано большое количество событий, имеющих отношение к условиям нашей жизни в XXI столетии – именно тогда состоялся первый раздел Речи Посполитой (1772 г.), тогда же сложились условия для войны североамериканских провинций за независимость от Великобритании, начавшейся в 1775 году. Однако, для нашей страны как центра православно-славянской цивилизации более важным является другое явление тогдашней мировой истории – движение колливадов и, в целом, усиление молитвенных подвигов на Св. Горе Афонской, вылившееся в создание печатной «Филокалии» («Добротолюбия»), которая, в свою очередь, повлияла на русскую культуру, в частности, на творчество Фёдора Михайловича Достоевского. В процессе подготовки к мероприятиям 5 августа и 15 октября мне удалось найти следующее упоминание о малоизвестной стороне афонских событий эпохи колливадов.
«По Имянному повелению, прислан на эскадру контр-адмирала (И.Н.) Арфа[19] архимандрит Афонских гор Иоанисий (правильно – Иоанникий, А.П.), жалованья велено ему производить 20 рублей в месяц»[20].
Что мы можем понять из этого краткого известия? Мы не знаем, был ли архимандрит Иоанникий греком или славянином, поддерживал ли он колливадов[21] или был их противником. Эта информация станет доступной, вероятно, только после кропотливой работы в архивах Санкт-Петербурга и Афона.
Однако, внимание Екатерины II к судьбе афонита говорит нам о том, что императрица понимала значение Афона для православного мира и собственного «греческого проекта». Таким образом, мы можем утверждать, что найдено звено, связывавшее Святую Гору и русский флот, прославившийся при Чесме и Бейруте. Вопрос, поднятый Афанасием Зоитакисом, биографом св. Космы Этолийского, о степени развития связей между греками (монахами и клефтами) и русским войском (включая флот), получает новое положительное освещение.
25 декабря 1770 года эскадра Арфа пришла в Архипелаг. Следовательно, с высокой долей вероятности мы можем предположить, что о. Иоанникий участвовал в сражениях, будучи флотским священником. Русско-турецкая война 1768-1774 годов не только по времени совпала с началом исихастского (исихия – практика молитвенной жизни, девизом которой можно избрать слова св. Исаака Сирина «Молчание есть тайна будущего века», «Добротолюбие», том 5) возрождения, связанного с именами св. Василия из Пойяну Мэрулуй (Поляномерульского, кстати, скончавшегося за год до начала первой Русско-турецкой войны Екатерины Великой) и его наследника св. Паисия (Величковского), но, на наш взгляд, была одним из факторов, благоприятствовавших этому возрождению. При этом воздействие было отнюдь не линейным. Непосредственное вмешательство России и, шире, «русского фактора» в балканские дела было многосторонним и порой противоречивым (достаточно вспомнить хотя бы курьёзную историю Степана Малого, развивавшуюся именно в период «войны Орлова»; попытки получить поддержку Австрии за счёт русских и/или православных земель Буковины и Галиции, передаваемых немцам и католикам, отнюдь не украшали репутацию русского правительства). Иначе и не могло быть, поскольку в самой России происходили болезненные перемены в духовной сфере (секуляризация эпохи 1760-х годов была отнюдь не только экономической). Однако, актуализация на новом историческом этапе традиционных представлений о «русом роде» , который придёт в Царьград и изгонит оттуда «сынов Измаила» (пророчество Св. Геннадия Схолария), придавала колливадам, афонитам в целом, а, следовательно, и всем традиционалистам и традиционным просветителям дополнительные силы для служения. И через обычный «буфер» в виде автономных Молдавии и Валахии представления и настроения афонитов (напомню, имевших даже до 1774 года легальный повод посещать нижнее течение Дуная для обслуживания разветвлённой сети т.н. «преклонённых» Святому Гробу Господню и Святой Горе монастырей) проникали до Брянских лесов, Киева, Карачева, Оптиной и Глинской пустыней, Дивногорья, Валаама. В этой связи, расширение русского дипломатического представительства на Балканах в результате Кючук-Кайнарджийского договора напрямую способствовало исихастскому возрождению. Выразительный пример в этой связи мы можем позаимствовать у Афанасия Зоитакиса[22]. Афанасий Паросский переписывался с консулом России в Салониках Дионисием (Денисом) Мельниковым (генеральный консул в 1783-1796 гг.).
О епископе города-крепости Модон (в честь которого был назван корабль в Нижнем Икорце), Анфиме (Каракаллосе), участник войны 1768-1774 годов И.А. Ганнибал писал следующее: «Во время начальства моего над городом Наварином, где застав оного епископа с немалым числом военных и прочих усердствующих греков, я большую помощь получил, и по справедливости скажу, что он оказывал беспримерное и несумнительное усердие и доброжелательство к поспешествованию побед оружия Ея Величества. Он не только уговаривал своих иноземцев словами, но и в труднейших случаях… примером собственным к тяжчайшим трудам поощрения делал, и находился во время приступа сего города безотлучно на батарее, подверженной сильнейшему огню неприятельскому»[23]. Митрополит Евгений (Булгарис) выражал сожаление по поводу того, что не может приветствовать Екатерину II как Императрицу Греции (очевидно, подразумевая Византию). В 1772 году Владыка Евгений сетовал на то, что западноевропейские страны не желают победы России над Турцией[24]. Евгений (Булгарис) преподавал в монашеской школе в афонском Ватопеде, так что, Архимандрит Иоанникий был не единственным афонитом, чья судьба круто изменилась в годы войны. Вообще же настроение афонитов в ту войну можно понять по событиям в Хиландаре. В 1773 году, не дожидаясь окончания войны, а воспользовавшись только временным перемирием, иноки Хиландарской лавры на св. Горе Афонской обновили «испосницу» (с 1827 г. именуемую «типикарницей») – место молитвенных подвигов св. Саввы Сербского на Карее[25].
Св. Феодор Ушаков, позаботившийся о выбравших Россию греках в 1774-1776 годах, отдал должное храбрости сынов Эллады - участников второй Русско-турецкой войны Екатерины Великой: в своих донесениях после победы между Кинбурном и Хаджибеем он упоминает храбрость Фоки – командира корабля «Св. Николай», Ликардопуло – командира «Таганрога», Кандиоти с «Рождества Богородицы», Ладики со «Св. Климента», Варваки со «Св. Андрея»[26].
Остается только добавить, что Св. Феодор ходатайствовал в 1798-1799 годах перед В.С. Томарой, тогда – русским посланником в Константинополе, а ранее – командующим русской флотилией в Средиземном море во время Второй русско-турецкой войны (1787-1791/1792 гг.), о том, чтобы султан, находившийся в период осады Корфу в союзе с Россией, немедленно освободил находившихся в своей эскадре невольников – бывших матросов флотилии Ламброса Кацониса (Ламбро-Качиони)[27]. «Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально» (Книга Товита, 12:7), как и о деяниях Божиих угодников.
Так что, если молчание блаженных отцов есть тайна будущего века, то молчание о событиях исторических, о деяниях святых и героев есть молчание в высшей степени недостойное, нечестивое. И наш долг – воспитывая верность первому, не допускать второго.
Алексей Александрович Поповкин, кандидат исторических наук, научный сотрудник Лискинского историко-краеведческого музея
[1] Архив Государственного Совета. Т. 1. Ч. 1. Совет в царствование Императрицы Екатерины II (1768 – 1796). СПб. Тип. 2-го отд Собств. ЕИВ Канцелярии. 1869. Стлб. 339.
[2] Титов А.А. Подлинные записки флотского капитана Ильи Ивановича Ханыкова о Донской экспедиции//Записки Одесского общества истории и древностей. Т. 14. Одесса, 1886. С. 75-77.
[3] «Достойны примечания Тавров, бывшая крепость, бывшая верфь и адмиралтейство на реке Воронеже, и селения Ольшанск, Костянск, Урыв, Гвазда, Верхососенск и Икорецкая верфь» (Плещеев С.И. Обозрение Российския Империи в нынешнем ея новоустроенном состоянии, с показанием новоприсоединённых к России от Порты Оттоманской, и ещё речи Посполитой Польской областей. Изд. 4. СПб. 1793. С. 136-137).
[4] Следует отметить, что жители сёл по Икорцу участвовали в строительстве флота ещё с 1698-1699 гг., о чём свидетельствуют данные военно-морских архивов: икорецким жителям поручали в эти годы собирать «лесные плоты и фуркаты», то есть, галеры, по Дону (Дела Приказа Большой казны, Азовской Приказной палаты и Царского шатра в Воронеже//Описания дел Архива Морского министерства за время с половины XVII до начала XIX столетия. Т 1. СПб. 1877. С. 91).
[5] Политическая переписка Императрицы Екатерины II. Ч. 5. 1768-1769. Письмо Екатерины II к гр. Румянцеву. СПб., 4 декабря 1768 г. //Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 87. СПб. 1893. С. 298.
[6] Тавровская крепость и адмиралтейство были построены при Петре Великом, однако, В.Г. Орлов, брат Алексея-Алехана и Григория, посетивший в 1770 году Тавров, пишет о нежилом состоянии зданий: «Ездили в Тавров, вёрст с 10 от Воронежа, сделана крепостца на версту кругом, строение каменное очень хорошее и теперь стоит только без кровли…Тут находится 9 доков, которые уже много завалились» (Орлов-Давыдов В. П., граф. Биографический очерк Графа Владимира Григорьевича Орлова, составленный внуком его, графом Владимиром Орловым-Давыдовым. Т. 1. СПб. 1878. С. 205-206). Это были последствия пожара и политической небрежности. Фактическая штаб-квартира Тавровского адмиралтейства в 1769 году была обустроена на Икорце, а затем А.Н. Сенявин переехал в Крепость Св. Димитрия (ныне Ростов-на-Дону), посещая по временам Таганрог. Икорец имел связь с крепостями Новохопёрск и Новопавловск (ныне райцентр Павловск Воронежской области), где также располагались верфи. В 1824 году о тогдашних делах было написано следующее: «1769 год, январь. Контр-адмирал Сенявин и генерал-кригс-коммисар Селиванов отправлены в Товровское адмиралтейство для строения судов в Икорецкой верфи» (Берх В.Н. Достопамятные происшествия, относящиеся к военной морской части, от вступления на престол императора Петра III (декабрь 1761 года) до возвращения Российских флотов из Архипелага (октябрь 1775 года). //Записки, издаваемые Государственным Адмиралтейским департаментом, относящиеся к мореплаванию, наукам и словесности. Ч. 7. 1824. С. 267).
[7] Политическая переписка Императрицы Екатерины II. Ч. 5. 1768-1769.Рескрипт гр. Румянцеву, 5 января 1769 г.//Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 87. СПб. 1893. С. 307.
[8] Филевский П.П. История города Таганрога. М.: Типо-лит. К.Ф. Александрова. 1898. С. 80.
[9] Головизнин К. Русский флот на Чёрном море//Морской сборник. Т. CCXXXVII. №6. С. 109-117.
[10] Материалы для истории русского флота. Ч. 6. Тип. Морского Министерства. СПб. 1877. С. 271.
[11] Там же. С. 272.
[12] См., например: Овчинников В.Д. Святой адмирал Ушаков (1745-1817). Историческое повествование о земном пути. М. ОЛМА-ПРЕСС. 2003. С. 30
[13] Головачёв В.Ф. История Севастополя как русского порта. Издание Севастопольского отдела на политехнической выставке, состоящего под Августейшим покровительством Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича. СПб. Тип. Департамента уделов. 1872. С. 31.
[14] Скаловский Р. К. Жизнь адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Ч. 1. СПб. 1856. С. 23.
[15] Овчинников В.Д. Ук. Соч. С. 36.
[16] Там же. С. 36-40.
[17] Филевский П.П. История города Таганрога... С.85.
[18] Перекопский канал//Новое время, 18(30) октября 1883 г.
[19] Российскими силами в Средиземноморье командовали Г. Спиридов, Эльфинстон и Арф, но главная роль принадлежала А. Г. Орлову-Чесменскому.
[20] Берх В.Н. Достопамятные происшествия, относящиеся к военной морской части, от вступления на престол императора Петра III (декабрь 1761 года) до возвращения Российских флотов из Архипелага (октябрь 1775 года). //Записки, издаваемые Государственным Адмиралтейским департаментом, относящиеся к мореплаванию, наукам и словесности. Ч. 7. 1824. С. 280.
[21]«Движение колливадов, ревностно защищавших святоотеческую традицию, активизировало духовные силы среди монашества и духовенства, дало толчок к духовно-аскетическому возрождению не только в Греции, но и за ее пределами. Оно оказало влияние на просветительскую деятельности в Молдовлахии (территория нынешней Румыния) и России преподобного Паисия Величковского, прошедшего к тому времени монашеский подвиг на Афоне. Достаточно вспомнить славянский перевод Филокалии, или Добротолюбия – избранных аскетических творений отцов Церкви, составленный старцем Паисием и изданный в 1793 г. Этот перевод с некоторыми сокращениями повторял одноименный труд митрополита Макария Нотараса и преподобного Никодима Святогорца (изданный в Венеции в 1782 г.), известных представителей колливадского движения. Ученики преподобного Паисия позже стали духовными руководителями иноков, продолжив афонскую традицию умного делания в Нямецкой обители в Молдавии и Оптиной пустыни в России. Среди учеников преподобного Паисия были старцы Феодор и Клеопа, обучавшие молитве будущего оптинского старца Леонида (Льва) Наголкина. Под духовным руководством старца Леонида в разное время находились такие известные подвижники благочестия, как оптинские старцы Макарий и Амвросий, а также будущий святитель – епископ Кавказский Игнатий Брянчанинов... Добротолюбие Паисия Величковского было любимым чтением преподобного Серафима Саровского, к этой книги он часто обращался в начале своего монашеского пути». (Габуев А.К. Основные этапы духовного возрождение на Балканах и в России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 6А. С. 32-33. DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.035).
[22] Зоитакис А.Г. Традиционное просветительство в Греции в XVIII веке: Косма Этолийский и Никодим Святогорец. М. Изд. Дом «Святая Гора». 2008. С. 246.
[23] Арш Г. Л. Россия и борьба Греции за освобождение: от Екатерины II до Николая I. Очерки. – М., «Индрик», 2013. С. 30-31.
[24] Там же. С. 39.
[25] Ненадовиh С. Архитектура Хиландара/Хиландарски зборник. 3. Београд. САНУ, Хиландарски одбор. Ур. С. Радоjчиh. 1974. С. 174.
[26] Филевский П.П. История города Таганрога. М. Типо-лит. К.Ф. Александрова. 1898. С. 91.
[27] Арш Г. Л. Россия и борьба Греции за освобождение… С.97.