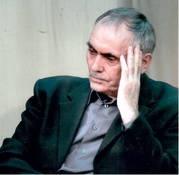«Не проворным достаётся успешный бег, не храбрым — победа... но время и случай для всех их», - сказал Экклезиаст (он же Соломон). Другой мудрец выразился более определённо: «Случайности — непознанные закономерности». А третий вообще «дело случая» возвёл до проявления воли вышних сил, заявив, что «случайность — это Бог»...
Насчёт закономерности у меня, признаться, большие сомнения, а вот против присутствия Божьего Промысла я бы особо возражать не стал. Уж слишком судьбоносными бывают иные случайности, чтобы оставаться просто таковыми, то есть произвольными, никем не управляемыми. Иной разговор, что случаями, дарованными нам свыше, мы не всегда умели разумно распорядиться. С этим, наверное, согласится каждый, особенно из доживших до седин и наделавший в жизни уйму ошибок. Кстати, если б случайности были твёрдо закономерными, то этих ошибок допускалось бы куда меньше. В том-то и штука, что случаи нам только предоставляются по Божьей воле, а далее уже всё зависит от нашей с вами воли. И не напрасно наряду с выражением «воспользовался случаем» существует противоположное — «упустил случай», обычно с горьковатой добавкой: «значит — не судьба...»
И мне в сегодняшнем мемуаре как раз хотелось привести примеры того и другого их проявления в собственной жизни, или собственной судьбе, если угодно. Притом, простите за нескромность, в судьбе творческой, литературной. Подобных случаев было, конечно, больше, но менее значительных, что ли, по своим последствиям, чем эти два, доныне живущие в моей памяти. По крайней мере, они первыми пришли на ум.
Где-то в середине 70-х минувшего века довелось мне побывать на иркутском семинаре молодых писателей. Я был тогда уже не очень-то молод, по уши погружён в журналистику и не особо стремился на тот семинар, едва ли суливший мне успешное участие в нём, но всё же поехал. Перевесили советы писательской организации, издательства, да и понятное любопытство. Меня приписали к секции поэзии, но, кроме дубликата отосланной стихотворной рукописи, я прихватил с собой полуготовую повесть «Свет всю ночь». Довольно солидную, под девять авторских листов, примерно «равную» пушкинской «Капитанской дочке», как я шутил в кругу приятелей, скромно уточняя... «по объёму». Прихватил, как говорится, на всякий случай. И этот случай действительно представился, но...
Впрочем, сначала вкратце о моём участии в поэтическом семинаре, где тоже не обошлось без своего рода «случайно случившегося случая».
Семинар наш вели московский поэт Марк Соболь, ленинградский Вадим Кузнецов, ещё кто-то, чьих имён уж не вспомню. В зале, кроме семинаристов, было немало гостей — литераторов, библиотекарей, книголюбов из Иркутска и окрестных городов и селений. «Разбирали» нас, молодых пиитов, по очереди, то есть по алфавиту. И до моей буквы «ща» добрались только лишь к исходу не то второго, не то третьего дня. Как уже сказано выше, особых похвал я по своему адресу не ждал. Тем более, что теперь учитывал настрой разогретого собрания. Однако все же был неприятно удивлён многим из того, что мне пришлось выслушать. Первые выступления взыскательных руководителей, открывших обсуждение, были сдержанно критическими, вполне терпимыми. Речь Марка Соболя свелась примерно к тому, что я, дескать, мало продвинулся в мастерстве за четыре года, минувших после краевого дивногорского семинара, по которому он запомнил меня как подававшего более серьёзные надежды. А Вадим Кузнецов посетовал на то, что при наличии отдельных удачных строф и строчек он не нашёл и десятка готовых стихотворений, до конца проработанных, без сучка и задоринки...
Затем было предложено выступать участникам и гостям семинара. И вот тут началось уже не обсуждение, а форменное потрошение написанного вашим покорным. От сучков и задоринок иные аналитики перешли к огульным обобщениям, к упрёкам в сомнительной узко деревенской тематике и идейной ущербности моих творений. Особенно упражнялся в сарказмах на сей счёт напористый сахалинский стихотворец со скромным псевдонимом Слава Пушкин и ещё некий иркутский критик Рапопорт, увидевший в стихах сугубо городского индивидуума фальшиво-сентиментальные подделки под деревенскую патриархальность. Были, правда, и редкие защитники. К примеру, пыталась поддержать меня пожилая местная поэтесса Елена Жилкина, даже цитировала какие-то строки, но её голос убедил немногих. А спас меня от полного разгрома его величество случай, явившийся в облике известного столичного поэта-лирика Владимира Соколова.
Ещё накануне среди семинаристов прошёл слух, что он тоже прилетел для ведения семинара, но на заседаниях пока не появлялся. По намёкам остряков, прибаливал «после вчерашнего». И только в завершающий день, как раз когда начался разбор моей рукописи, он вдруг вышел из-за кулис и скромно подсел к столу рядом с Марком Соболем. Марк тотчас с пиететом представил его залу, ответившему уважительными хлопками. Владимир Николаевич извинился за невольное опоздание, некоторое время послушал выступавших, а потом попросил слова. И, начав речь, неожиданно для меня, да и, думается, для многих, обронил, что он пришёл, собственно говоря, «специально на этого парня». Услышав из уст мэтра такую фразу, дословно памятную мне поныне, я внутренне сжался и опустил глаза долу. «Наверное, пришёл меня добивать», - мелькнула невесёлая мысль.
А живой классик пояснил далее, что «этот парень» привлёк его внимание своей приверженностью к народно-поэтической традиции, что он во многом идёт от фольклорных мотивов; если же искать прямые истоки в современной поэзии, то «идёт от Николая Тряпкина»... И тут я уже не просто напрягся, но невольно оглянулся по сторонам — не видят ли коллеги, как у меня, матёрого мужика, «городского индивидуума», точно у провинциальной девицы, краснеют уши. Дело в том, что я тогда лишь мельком слышал о таком поэте-деревенщике с довольно экзотичной фамилией, но, к стыду своему, произведений его не читал, не почитал и, значит, никак не мог следовать ему.
Хотя, забегая вперёд, отмечу, что после того семинара разыскал в магазинах несколько его книжек и действительно нашёл в них много стихотворений, с которыми словно бы перекликался в ряде своих опусов. Притом не только по темам, но и по манере, по ритмам, по образной системе. И с той поры впрямь считаю Николая Ивановича одним из наиболее близких мне поэтов.
Не скажу, чтобы Владимир Соколов, в продолжение разговора о моей рукописи напрямую хвалил меня, скорее наоборот — больше говорил о недостатках, но стремился поддержать и поощрить во мне это «тряпкинское»,
а вернее, народно-поэтическое тяготение к ясности, напевности, живописности. Зачитывая отдельные строфы и строки, он тут же наглядно высвобождал их от наносных и, на его взгляд, не органичных для меня «примесей», да и просто от всего несовершенного и безвкусного. А ещё, помнится, заметил, что многие мои стихотворения, особенно в концовках, излишне затянуты и показал на примерах, где их можно остановить, элементарно пресечь, отбросив ненужные фразы. «Лирическое стихотворение не должно быть длинным», - с этой заповедью, услышанной от него, я солидарен и поныне.
Но строго-доброжелательным разбором и советами мэтра тогда дело не ограничилось. Вечером того же дня, когда семинаристы и руководители собрались на встречу с читателями в одном из театров, ко мне, одиноко стоявшему у стенки в фойе, вдруг подошёл незнакомый мужчина и скромно представился... редактором издательства «Современник», чуть ли не главным. Жаль, забыл его фамилию. Он посоветовал мне особо не обижаться на критику коллег, не унывать, а серьёзно поработать над рукописью с учётом здравых замечаний, прежде всего Владимира Соколова, и к концу будущего года прислать её в редакцию издательства. « Основа для книжки там есть», - добавил он, на прощанье пожав мне руку.
Я, конечно же, обрадовался такому нежданному заманчивому предложению, И хотя, признаться, был несколько смущён оговорёнными сроками представления сборника, показавшимися мне долгим ящиком, но действительно после той случайной встречи более года занимался упорным шлифованием своей иркутской рукописи. Буквально от слова к слову и, как говорится, денно и нощно. В особенности — «нощно», когда, уткнувшись в подушку, крутил в голове свои неуклюжие строки, пока они не превращались в более ладные и складные, по моим ощущениям. А если иные из них не поддавались «мукам творчества», то я, как ни стыдно признаться в этом, даже всхлипывал от чувства бессилия и кусал зубами углы мокрой подушки. И, между прочим, зачастую именно в такие минуты крайнего отчаяния всплывали, наконец, искомые слова, будто их впрямь нашёптывал кто-то «свыше».
Короче говоря, через год-полтора я и вправду послал подремонтированную рукопись в «Современник», а ещё через год-другой (неторопки да извилисты издательские пути) получил письмо от литературного консультанта, что мой сборник включен в план редакторской подготовки... будущего года. И, наконец, в 1981-м вышла в Москве моя первая поэтическая книжка «Трубачи весны». Отдельная, не «кассетная». Десятитысячным тиражом. И вскоре появилась в магазинах по всей стране, в том числе — в наших сибирских городах и даже сёлах. Это было одно из советских чудес, невозможных в нынешние цифровые и рыночные времена. Среди авторов внутренних рецензий на сборник значились видные поэты Евгений Винокуров, Игорь Грудев, другие, давшие «добро», однако всё же судьбу его решил отзыв Владимира Соколова, пятилетку назад «неожиданно» прозвучавший на иркутском семинаре в «случайном» присутствии редактора «Современника».
Но, как уже замечено мною, это было не единственное и даже, пожалуй, не главное для меня событие из разряда «время и случай» на том памятном семинаре. Когда мои стихи уже разобрали по косточкам и приговорили к «исправительным работам» на затянувшемся заседании, я решил выйти на улицу, чтобы отдышаться и покурить. В коридоре, недалеко от двери, стояли, о чём-то оживлённо беседуя, наш красноярский писатель Иван Пантелеев и высокий сутуловатый мужик в тёмно-сером костюме, с крупными чертами лица и волной русых волос, зачёсанных назад, в котором я тотчас узнал замечательного курского прозаика Евгения Носова. Его книги я читал и любил, тем более что некоторые издавались даже у нас в Красноярске. Особенно нравились мне сборники «Шумит луговая овсяница», «Храм Афродиты», «Красное вино победы», а одноименный рассказ я считал (до выхода повести «Усвятские шлемоносцы») вообще одним из лучших произведений на военную тему. Мне было известно, что Евгений Иванович тоже присутствует на семинаре и вместе с Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным ведёт секцию прозы, но вживую я встретил его впервые.
Проходя мимо маститых собеседников, я молча поклонился им и проследовал было далее, но Иван Иванович махнул мне, приглашая подойти поближе. Он представил меня Носову как ещё одного семинариста - «деревенщика» и, кивнув на папку в моих руках, вдруг спросил:
- У тебя повесть с собой?
- Со мной, - ответил я, пока не понимая цели вопроса.
Речь шла об упомянутой «полуготовой» рукописи повести «Свет всю ночь». Накануне я показывал её некоторым нашим писателям и, видимо, Иван Иванович слышал о ней. Она действительно оказалась «со мной» даже и на занятиях семинара. Я носил её в папке вместе со стихотворной, на всякий случай. И вот он вроде как замаячил... Иван Иванович предложил Носову посмотреть эту «любопытную» рукопись «на досуге». Тот непроизвольно поморщился от нежданного предложения и вздохнул:
- Ох, мужики, не знаю, боюсь, не успею... Впереди подведение итогов семинара. А там ещё обещают поездку на Байкал...
- Да Вам достаточно будет полистать... поймёте с двух страниц... по слогу, по живописи, по лирическому тону, - продолжал настаивать Иван Пантелеев, и в Евгении Ивановиче, похоже, затеплилось, шевельнулось какое-то сочувствие молодому автору:
- Ну, пожалуй... только если что... - начал, было, он раздумчиво.
- Да уж ладно, Евгений Иванович, как-нибудь в другой раз, - поспешил я прервать его смущённые колебания и, с поклоном подняв руку в знак прощания, решительно направился к двери.
«Случайный случай» был упущен навсегда.
Хотя он все же имел некоторое продолжение. Где-то лет через пятнадцать после той встречи, незадолго до переворотных событий в стране, я в составе красноярской делегации прибыл в Москву для участия в съезде Союза писателей России. Поселили нас, провинциальных делегатов, аж в общежитии Академии общественных наук, с шиком, в одноместные номера. И случайно моим соседом оказался Евгений Носов. Съезд был бурным, длился несколько дней. И в первое же утро, когда я замыкал свой номер, чтобы отправиться на завтрак в общежитскую столовую, вдруг открылась соседняя дверь и из неё вышел Евгений Иванович, без парада, в спортивном костюме и, кажется, даже
в домашних тапках. Он поприветствовал меня по-соседски и пожелал познакомиться со мной. Я не без удовольствия пожал ему большую, крепкую руку, но оговорился, что вообще-то мы уже знакомы, и напомнил, как однажды спас его от чтения дополнительной рукописи на семинаре в Иркутске. Евгений Иванович рассмеялся, тоже припоминая ту иркутскую историю, между прочим, заметил, что напрасно я тогда заупрямился, проявил излишнюю деликатность, и процитировал те самые слова Экклезиаста насчёт «времени и случая», которых не следует упускать в жизни, особенно молодым авторам.
Беседу мы продолжили по пути в столовую и потом, с подносами в руках, перед выбором блюд. Евгений Иванович великодушно высказал готовность «исправиться» и посмотреть задним числом «ту» мою повесть. Но у меня на сей раз её «при себе» не оказалось. И я подарил ему сборник стихотворений «Вербное воскресенье», только что вышедший в красноярском издательстве, намекнув в дарственной надписи на игру и превратности времён и случаев.
Не буду утверждать, что моя стезя в литературе легла бы как-то иначе, прояви я настойчивость при вручении рукописи большому писателю, близкому по духу, но возможная поддержка или просто подсказка мастера слова, пожалуй, не помешали бы моему профессиональному росту. Да и судьбе той повести, которая вскоре привела меня в Союз писателей, а позднее победила в Международном конкурсе имени А.Н.Толстого на лучшее произведение для юношества, после чего была переиздана (с дополнениями) солидным православным издательством при Московской Патриархии.
Впрочем, случилось так, как случилось, а случайность — это непознанная закономерность и, может, даже сам Промысел Божий.